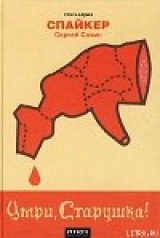
Текст книги "Умри, старушка!"
Автор книги: Сергей Сакин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
ГЛАВА 37
Дверь была не заперта, я ввалился в нору вслепую, одновременно стягивая через голову свитер, скидывая бомбер и расшнуровывая башмаки. И когда черная с синими искрами статики пелена свитера сошла с моих глаз, она уже стояла передо мной. Точнее, не стояла, а висела {искрометный юмор от автора:)). Обхватив мою шею обеими руками, она прижималась ко мне, и лицо ее было мокрым от слез. На какой-то миг ее сердце прижалось к моему, и на два удара сердца слились – тук-тук.
Так и не сняв один ботинок, я прошел в комнату, прижимая ее к себе и плюхнулся на диван. Прижимал ее лицо к груди и гладил густые пряди волос. Она быстро перестала плакать (да она и не плакала – просто из глаз ее текла и текла блестящая влага), молчала и притискивалась ко мне все крепче и крепче, как будто пыталась врасти в меня, вдавить в меня свое сердце. Б комнату вплывали сумерки, все темнее и гуще становился квадрат окна.
Потом она молча встала и ушла на кухню. Через несколько минут вошла с подносом и потаила на стол чайник и две кружки. Я вдохнул – пахло моим любимым матэ. Чай у нас закончился еще вчера вечером. Она купила его сегодня, купила специально для меня. Я представил, как она ходила по магазинам, искала эти желто-зеленые листья. И остро, так остро, что показалось – инеистый великан давит пальцем мне на грудь, желая впечатать меня в кресло-я ощутил всю ее тревогу и боль, весь ее бессильный страх.
Я оказался прав – она действительно поняла все, как есть, она поняла все правильно. Она увидела и почувствовала всю разрушительную силу бригад, собирающихся на дерби. Даже больше – мне не надо/не пришлось все ей рассказывать. Она и так все знала. Б ее глазах я снова увидел тот же застывший кадр: железо, вминающееся в плоть и сокрушающее ее. Злоба и бешенство. Пейте, дети, озверин!
Зачем? ЗАЧЕМ? – кричало ее сердце, и я не знал, что мне ответить. Мы по-прежнему сидели молча, я посасывал матэ и слушал стук ее сердца. Я слышал его отчетливо, он заполнял всю комнату. И с каждым ударом (тук-тук) в нашем доме становилось (тук-тук) все спокойнее, она успокаивалась, я сидел целый и невредимый, и зрачки мои (тук-тук) были широкими не из-за адреналина, а просто потому, что в комнате было темно, (тук-тук) нам светил рассеянный свет, идущий из кухни. Б полумраке (тук-тук) были не видны засохшие коричневые пятна на моей одежде.
…Сегодняшний день был страшной ошибкой, но ведь ничего страшного не произошло, все живы, я здесь, и она рядом. Мы вместе, вдвоем в нашем доме. Мы вместе. И всегда будем вдвоем. Только вдвоем. Почему я ее оставил, зачем? Перед глазами проплыл Лебедь – «Кошельком заделался?!» А даже если и так… На-срать. Нас теперь двое.
Тук-тук Тук-тук Тук-тук
…Мы лежали в постели, она сопела у меня на плече. Я, неудобно свернув голову, смотрел на ее нежные черты. Спать не хотелось (в который уже раз с той летней ночи). Даже во сне она крепко держала меня двумя руками, и мне ощущалось, что кожа, мышцы, ребра растворились, расплавились в ее огне и наши сердца лежали рядом, также тесно прижавшись. Тук-тук, Я никогда ее не брошу, никогда-никогда.
ГЛАВА 38
– Я давно это понял. Хотя нет, понять это невозможно. Это приходит как откровение, это можно только почувствовать и принять. Ненависть, коллективная ненависть. Так вот – я понял, почему я разделяю фашистскую идеологию. Потому что я не люблю русских. Мы – нация, давшая себя выебать всем, кому хочется. Быдло, покорное стадо. Ненависть… С ней нельзя что-то построить – да, это факт. Но зато можно разрушить. Разрушить этот ненавистный мир, эту Систему. Ты же правду увидела, я добрый. Добрый человек. Я не был рожден воином. И (помнишь, я тебе рассказывал?) я не мог ударить человека. Не мог бить первым. Но эта ненависть, она накапливается. Накапливалась и росла, росла вместе со мной. Знаешь, было такое ощущение, что на мне свет клином сошелся, я видел всю несправедливость, все это как будто сходилось на мне. Я почему-то не мог быть спокоен. Когда черножопые, эти выродки, которым жиды, пришедшие к власти, дали вздохнуть – что они сделали? Они засра-ли свою землю, залили ее кровью, своей же. И, опустошив ее, ломанулись всеми своими кишлаками к нам. Теперь они засирают мой город. А жиды у власти – им только этого и надо. И менты – быдло из быдла, гниль народа жиреют на харчах, которые им подкидывает эта Система. Менты – Псы, остальные – бараны. И всем все по хую. И вот смотришь на это, смотришь, живешь с этим… Знаешь, про хулиганье часто говорят, что русские от них страдают больше, чем любая другая нация. Да, так оно и есть. Но, знаешь… ведь наш народ уже ничем не проймешь, кроме как бутылкой да по башке. Тогда (и то не всегда) в ушибленном месте начинается мыслительный процесс. И это уже есть хорошо.
У нас недалеко, видела – есть магазин «Вай-нах». Прикинь, в Грозном бы открыли магазин с названием типа «Русич»?! Чтобы с ним стало через час после открытия вывески?! А у нас – все можно, всем насрать!..Неужели это говорю я? И почему у меня дрожит голос?! Давно, целую Вселенную назад, летом… Когда мы только познакомились, я говорил что-то похожее, я пытался ей ОБЪЯС НИТЬ. И, по-моему, она все понимала. Но все равно это было не то, не вся (!) правда. Я не мог ей объяснить это. ЭТО – было табу, табу для самого себя. Тема, закрытая в сознании на замок, и ключ утоплен.
Что я говорю сейчас (что-то повторяю, что-то говорю впервые даже самому себе) – это случающиеся у меня с недавних пор (только рядом с ней) словесные поносы. Что я говорю сейчас – это откровенно истеричный монолог. Но и еще кое-что. Тогда – я пытался объяснить для нее. Теперь – говорю (признаюсь) себе.
Во мне открываются потайные шлюзы и наружу течет то, что… Не знаю, как сказать. Точно, как вода из шлюзовых ворот. Только вода – словно болотная, застоявшаяся, старая, пахнущая гнилью. И болью. Я говорю – и разматывается клубок. Запутанный клубок, мешанина всех страстей моей души. Все то, что вырастили во мне демоны разрушения. Или саморазрушения? Да, да! Вот сейчас, в сию секунду – глядя на нее, глаза в глаза, и держась за ее руку – приходит ясность. Мой путь – дорога в никуда, тупик. Ненависть не приводит к добру, она вообще ни к чему не приводит. Только к смерти. (Только, кажется, я это и раньше знал.) Разматывается клубок – я Тесей, бродящий в потемках лабиринта своей души, открывающий, освещающий, чистящий все закоулки. Она – Ариадна. Все то, чем я жил последние 10 (Боги, неужели так много?!! Да, 10, не меньше) лет. Десять годов жизни. Почти половина. Почти половина прожита вхолостую, ради того, чтобы кормить и ублажать темных существ, гнездящихся в моей голове. Демонов ненависти. Она гладит меня по руке, а я говорю и говорю.
– Раньше, давно еще, я сравнивал себя с камнем, отколовшимся от скалы и прыгающим вниз по горе, все быстрее и быстрее. Я иногда останавливался, и мне становилось худо: я озирался, не в силах сообразить, что творится вокруг. Среди моих друзей все меньше и меньше оставалось людей, все больше – оборотней-волкодлаков. И сам – смотришь в зеркало и видишь, как исчезают, растворяются человеческие черты, и из глаз смотрит Зверь. Смотришь внутрь, а там то же самое. Когда я еще оглядывался, когда еще занимался этими самокопаниями, вдруг становилось страшно. Страшно оттого, что теряешь все человеческое, все пожирает Ненависть. Идем на Акцию, и вдруг колени начинают трястись от страха, и сердце – вот-вот выскочит из груди. Оттого, что вокруг себя не видишь людей, только волки. И сам такой же.
Но потом… Знаешь, потом я понял, что быть волком – лучше, чем бараном. Лучше, чем быком, точнее – волом в ярме. Быть волком – это даже почетно. Ведь волки – венец творения, я – как Алекс де Ланчи – чувствовал, что тот, кто наверху, смотрит на меня и доволен мною, И главное, самое главное – пусть я тощий («Ты не тощий, – возражает она. – Ты очень крепкий» – «Ага, прямо дубовый», – это уже я), но я могу защитить себя и того, кто мне дорог. Могу пырнуть ножом, ткнуть окурок в глаз, разбить колено, искалечив навсегда. Не остается жалости, этот порог гуманизма уже преодолен. Это очень приятное чувство – всесилия, уверенности. Я могу защитить близких – от ментов, от чурбанов – от всех этих упырей, присылаемых Системой.
(Она это не произносит вслух, но я читаю это в ее глазах. Читаю то, что только что промелькнуло во мне: у Волков не может быть близких).
Быть Волком – лучше, чем быдлом. А быть человеком – на кой это надо, когда вокруг таковых экземпляров не водится.
Она сидит на полу около моих ног, держит меня за руку. Мой ангел. Мой любимый человек. Все-таки такие бывают не только в книжках Лондона Джека. От нее – свет, у нее крылья – белее снега. Мой ангел, мой любимый человек.
Я продолжаю говорить – как будто заскорузлые, пропитавшиеся гноем тряпки отстают от ран (ран не тела, но души). Эти бинты и раны под ними – как майка, найденная Чапаем в бане, на себе самом. Я так привык к волчьему оскалу, что забыл, какие ощущения вызывает чистая кожа. Как дышит лицо, с которого снята маска. Человеческое лицо.
– Знаешь, у меня никогда не было подруги. Вот такой, как жена. (Как ты.) В роли людей, которым ничего нельзя объяснить, и приходится мириться с их нелюбовью и непониманием к тебе – в этом смысле мне матери и отца хватало выше крыши. Заметь – а ведь у нас неплохие отношения с ними, мы друг друга любим… Просто они не в состоянии поверить в то, что есть еще какая-то идея по жизни… вера(?) во что-то еще кроме того, что если можешь, то делай карьеру. И этим жизнь ДОЛЖНА ограничиваться. А ведь если я скажу такое им в лицо, они охренеют не меньше нашего, начнут (мама уж точно) говорить типа: «Что-ты-что-ты, ничего подобного, просто ты же уже не малолетка…» – и пошло, поехало! И чиксы, то есть девушки, которые вот у меня появлялись, были подолгу (– Ты же сказал, что у тебя никого не было?! – Ну, да, не было. Не было после того, как…), с ними рано или поздно начиналось… То есть даже если никто ниче не говорил… только я сам стал замечать, что вот эта привязанность… она становится зависимостью. То есть я уже зависел от кого-то. И эта зависимость – она… Она как наркотик, забирает все твои силы, всю твою жизнь. Но не сразу, НЕ заметно… а по чуть-чуть, исподтишка. И в один прекрасный момент – ХЛОП! И ты обнаруживаешь, что ты уже целиком, со всем своим ливером принадлежишь бабе (Я обнаружил, что я со всем своим ливером принадлежу ЕЙ). И ведь она… (Ты любил ее? – Да…)… она классная чикса была. Но вот я жил с ней, жил. И обабился. Я стал ее рабом, и от этого сам стал бабой. И один раз случилось такое…
– Скажи мне, прошу тебя, скажи.
– В общем, я однажды не смог ее защитить.
– Да нет, не так все страшно. Но она почувствовала, что я стал тряпкой. И бросила меня. И даже в голову ей не пришло, ЧЬЯ это вина. А ведь я долго-долго старался, из кожи вон лез, чтобы быть таким, как ей нравилось. И стал, блядь… БЛЯДЬ!!! Блядъ… Мягким и пушистым. Слышала, да? – «Говно тоже мягкое»… Я возненавидел себя…
Голос… мой голос дрожит все сильнее. Тьма, темная тьма октября пытается протиснуться в окно, плющит о кристалл стекла свою морду. Я вижу свое отражение: искривленный рот, расплывшееся лицо.
– Это ты… из-за нее «ноу вумен – ноу край» на руке наколол? Я еще удивилась, ты же рэг-гей ненавидишь. (Я? Ненавижу рэггей? Да, это так. Но когда-то я любил эту музыку. Давно, в прошлой жизни я любил рэггей, и солнце, и лето).
– Неееа, – ее смешной вопрос дал мне передышку, дал продохнуть, вытолкнуть из груди горький воздух. Она специально так сказала. Я все про нее знаю. – Это еще раньше было…
БЛЯДЫ!! Блядь… Бот опять! Я же зарекался себе, я же столько раз наступал на эти грабли! И сколько раз видел, как наступают другие! Я давно ушел из тех краев и брожу по другим тропинкам… И вот опять… БАЦ! По лбу! Я хнычу, как маленький бэбик, но меня несет и несет, и я никак не могу себя заткнуть…
– Ты у меня самый сильный.
– Спасибо тебе. Спасибо… только… только ты не видела, каким жалким лохом я выглядел тогда…
– Не надо, про это не рассказывай!
– Я с тех пор боялся. Я ходил по улицам, ездил в метро, работал, путешествовал, пил, дрался, трахался.
– Я ЖИЛ И БОЯЛСЯ. И все и вся ненавидел. И первым – себя.
– Ты боялся расслабиться? Не хотел, чтобы тебя снова застали врасплох?
– Да. Ну да. И я жил месяцами, готовый ударить первым, и всегда так и делал. А потом я за своей спиной услышал, как какой-то волосатый дядька, хипстер назвал нас гопниками. Представляешь, я с ирокезом ведь бегал (правда, почти десять лет назад, еще в школе), меня менты пиздили (потом я их), а меня – гопником?
– И что?
– Ну, что… Я ему вино на голову вылил, у меня бутылка была в руке открытая. Стал волком, ну и хули? Для кого стоит быть человеком?!
(И ***, выставив вперед пятку, своими 85 кг расплющил пальцы на его ноге. Было лето, хиппарь был в сандалиях, а *** – в тяжелых коммандос бутс. Через несколько секунд из-под бутс потекла по полу бордовая струйка. Хипстер верещит, трясет шевелюрой с нитями серебра. Окружившие его бритоголовые парни смеются.)
…Медленно, с едва слышным шуршанием распутывается клубок. А я все хожу и хожу по лабиринтам, и те слезы, которые я позорно не могу спрятать внутри глаз, бальзамом проливаются на раны. И раны стягивают края и зарастают…
…Она держит меня за руку…
ГЛАВА 39-а
Я всегда любил чистоту. Вчера во время этого разговора я рассказывал ей, что бегал с ирокезом. Я, несмотря на юный возраст, пункерст-вовал всерьез. Но вот была одна заморочка, и переступить через нее так и не получилось. (Оно к лучшему, понимаю я теперь, сбросив юношеский максимализм.) Не мог быть грязным. Из помойки жрал, приходилось (безо всякого удовольствия. Воровать тогда еще не умел, а из дома уже ушел), одежда была – как у нормального московского панка: оббитая до неопределенности цвета кожанка и вытертые до белизны, рвано-залатаные в тысяче мест джинсы. Волосы – разноцветные. НО: всегда все это было чистым, стираным, а в кармане я носил зубную щетку.
Склонность к чистоте, привитая мне тренером, носила несколько патологический характер. С годами, будучи уже взрослым мальчиком, я отметил однажды, с мрачным сарказмом, что я стал большим панком, чем был в детстве. Б смысле, что я хоть и одевался аккуратно и помойки использовал только по прямому назначению, зато мог несколько дней подряд не мыться, бриться, если того не требовали внешние обстоятельства, вообще избегал, Нора моя – сами читали, помните. Это не было неосознанным, я прекрасно отдавал себе отчет в том, что живу свиньей, но мне было до этого такое же дело, как и до всего остального: НИКАКОГО. Перед кем красоваться-то?! Потом появилась она. Излечение пришло сразу, и это неудивительно. Легкое недоверие вызвало у меня только то, что мыть посуду и менять постельное белье – я делал в охотку, без малейших внутренних конфликтов.
Мдаа, если эту книжку кто-то купит и большеголовый филолог сядет за редакцию – два предыдущих абзаца, я полагаю, будут выкинуты без сожаления. А начать главу можно (вполне) с того, к чему эти абзацы ведут. К чистым простыням.
Я отдаю белье в прачечную, оно возвращается белоснежным, без пятен малафьи и пролитого вина и как-то особенно вкусно пахнущим и хрустящим. (Добавляют чего-то?). И эта вафель-ность остается долго, несколько дней.
Утро. Уже сотню рассветов мы встретили вместе, а я так и не могу к этому привыкнуть. Каждый раз немножко стремно открывать глаза: а не было ли это сном после обкурки:). Хм… Я лежу еще в полусне, зажмурив глаза. Аккуратно проверяю тяжесть ее тела на своем плече, глубоко вдыхаю – мятный запах свежих простыней смешивается с цветочно-свежим запахом ее волос, ее тела. И только потом я открываю глаза. Также аккуратно, не двигая рукой, на которой она лежит, я потягиваюсь, трусь о белизну постели. Поворачиваясь к ней, я второй рукой обнимаю ее за талию и прижимаюсь к ее горячему телу. Мое лицо погружается в разбросанную по подушкам густоту ее волос, и запах росы и утренних полевых цветов становится насыщенней. Я дышу ею, прижимаю ее к себе, наслаждаясь упругостью ягодиц под моей рукой, холмиками ее груди, к которым я прижимаюсь своей грудью. Она чуть приоткрывает один глаз, смотрит сонно на меня и улыбается улыбкой тигрицы. Так улыбаются женщины, которых только что удовлетворил орально антонио бандерас, а потом подарил бриллиантовое колье. Вот так она улыбается мне и чуть-чуть ворочается, стараясь прижаться ко мне еще теснее.
Зазвонил телефон. Я чуть не выругался вслух – вылезать из этого уютного гнезда абсолютно не хотелось. Скорее всего, это звонила матушка – кто еще может трезвонить спозаранку. С тех пор, как мы обосновались в этом логове, здешний телефон узнали считанные единицы. Если меня спросят, почему я шифруюсь и скрываю наши цифры, я, пожалуй, не смогу ответить на этот вопрос. Может, это было желание обезопасить нашу жизнь сверх всяких пределов, оградить ее от посягательств любого сорта, пусть если даже это будут друзья, возжелавшие угостить меня (нас) полуночным пивом. Счастье, свалившееся на меня быстрее и сильнее (и неожиданнее), чем способны переваривать мои печенки. В своем неправдоподобии это состояние казалось хрустально ранимым, ненадежным. Один взгляд, разговор, звонок – и разрушится этот карточный домик.
Короче, телефон звонил. Трезвонил, не переставая. Любопытство пересилило лень. Кряхтя и матерясь себе под нос, я выполз из ее цепких объятий и подошел к телефону.
– Ну?! – сказал я и сам усмехнулся. Начало беседы уже выходило хамским.
ГЛАВА 40-а
– Стос! – О, Боги, это был хриплый голос Лебедя. Ни с кем не спутаешь.
– Ну? – повторил я в более корректной ин-тонации.
– Встретиться надо. – Голос Лебедя был непривычно мрачен.
– Ну ОК, давай забьемся.
– Через час сможешь на У. быть, – вопросительных интонаций в его голосе было совсем немного.
– Ддтыче?!! Не, Леб, я думал завтра, послезавтра, может…
– Чем скорее, тем лучше, Спайк, давай, шевели тузом!
– Да че случилось-то?!!
– Разговор есть.
– По телефону никак?
– Никак.
– Ну, вводную хоть дай!
– Дерби последнее.
– И че? Я ж не телепат, братец!
– Моб помнишь, как появился? ИХ МОЕ, ПОМНИШЬ?
– Крыса у нас, крыса.
– Леб, а ты не бредишь? – спросил я, сам понимая, что это, увы и ах, не бред. Крыса действительно есть. Я ведь сам поздравлял Лебедя с ее появлением в середине сезона.
– Ладно, я еду. Где всегда?
– Где всегда.
Продолжая кряхтеть и сквернословить, я вернулся в спальню и начал протаскивать ноги в штанины.
– Ты куда? – голос ее прозвучал совсем не сонно, в нем перемешалась тревога и совсем детская обида. Ох, как же мне не хотелось отвечать на этот вопрос! По правде, я бы предпочел смыться по-тихому.
– Спи, милая. Я скоро.
– Ты куда?
– Да, дела у меня.
– Что за дела? Кто это звонил?
– Лебедь.
– Ааа, – ее голос зазвучал тускло, в нем появилась безнадежность.
– Да ты что, солнышко… – я, уже в штанах, плюхнулся на кровать, обнял ее. – Ты чего это нос вешаешь? Мне повешенные носы тут не нужны.
– Ты… опять? – несложно догадаться, о чем это, правда?
– Да ты что, радость! – голос звучал на удивление искренне. По большому счету, я и не врал – какие могут быть махачи в такую рань!
– А зачем тогда?
– Ну, траблы у него какие-то, встретиться он попросил.
– Пускай он сюда приезжает. Поговорите, я вам мешать не буду, чай сделаю. – Безнадежность сменилась просительностью.
– Ластунь, ну я забился уже.
– Ты… правда?
– Ну, конечно, правда, – я стал целовать ее, не разбирая – в губы, в нос, в глаза. – Обещаю, правда! Поговорим, и я вернусь. Может, встретимся и к нам поедем, – вдохновенно сымпровизировал я.
– Приезжай скорей, – она наконец обняла меня. Ее объятия были приятно крепкими.
Я поцеловал ее еще раз, оделся под ее взглядом (один раз она поманила пальцем и, когда я нагнулся, поправила мне ворот), опять поцеловал и вышел из квартиры. Топая по лестнице, лифт не работал с момента нашего здесь появления, я запоздало озадачился мыслью, где же Лебедь нарыл мой телефон. Почесав затылок и не найдя никакого внятного ответа, я выплюнул это из головы, решив спросить при встрече. Хотя сам по себе вопрос был весьма щекотлив. Не люблю, когда что-либо происходит помимо моего ведома. С другой стороны, я мелко видел, как можно заводить такую беседу. Не предъявлять же, действительно, человеку, с которым у меня братство на крови: «Ну и где ты взял мой телефон?!» Я не люблю метро. Хорошо еще, что в честь утра сограждан в подземке было немного. Собирался, по обыкновению, стопить тачку, но уже когда первый бомбила притормозил к обочине, я обнаружил, что в качестве платы за проезд могу ему предложить только автограф участника «Последнего Героя». Бумажник остался дома. Проскочив через турникеты за какой-то молодой чиксой, я обнаружил, что настроение поднялось. Тыщщу лет не входил в метро зайцем, но это умение, приобретенное в годы бит-ничества, (оказывается) никуда не делось. Хоть и ехать было недалеко (всего одна пересадка, если помните), атмосфера подземки успела взять свое во впечатлительном рассудке Вашего покорного слуги – с веселых воспоминаний мысли как-то незаметно перескочили на минорное направление. Опять получалось так, что я бросаю ее. В тот раз это ничем хорошим не закончилось. Что за черт, с чего все это грузево?!! В конце-то концов, она дома, лежит в постели, что ей сделается?!! А я… в конце концов, почему бы не порадовать свое давнее пристрастие – выпивать с утра? Я представил себе ячменную горечь у себя в глотке, приятную прохладу бочкового «Гиннесса» и с этой божественной картиной перед глазами резво поскакал по эскалатору – приехал.
Заведение было почти пустым. Занят был только один столик, и за ним, кроме Лебедя, сидели генералы и несколько бритых из параллельных бригад. Когда я появился в зале, все дружно повернулись и, пока я шел, меня буравили 5 пар глаз. Я поздоровался со всеми и сел на свободный стул. Занял место в круге, состоящем из напряженно-подозрительных лиц. Почти у всех были видны отметины прошедшего дерби – синие подтеки на лицах, пластыри, перебинтованные руки. Даа, назвать тот день нашим можно лишь с бааальшой натяжкой.
Все молчали. Совершенно непредсказуемо для самого себя я ощутил дискомфорт в этом элитном бойцовском клубе. Один из наших вяло мотнул головой в сторону бара «Угощайся». Чтобы сгладить непонятно откуда и почему взявшееся чувство, я встал и последовал приглашению. Заказав себе «Гиннесс», повернулся к нашему столику: «Кому чего?» Промолчали, и это не понравилось мне еще больше. Глядя на поднимающуюся в отстаивающемся бокале пелену пузырьков, я рассудил, что надо расставлятъ точки над 1 и начать самому. Бляха-муха, что за хренотенъ такая?!!! Халдей долил бокал, я жадно выпил несколько глотков сразу, у стойки, и вернулся за столик.
– Стосы, давайте сразу, че за болтня происходит?
– … – ответом было разглядывание пены в кружках, только Лебедь поднял глаза и поерзал на стуле, явно собираясь говорить что-то сколь серьезное, столь и неприятное.
– Лебедушка, слушай, птичка! Не темни давай! Ты сколько лет меня знаешь, не забыл? Все сразу и начистоту, окей?
– Спайк, а отчего мы последнее время не видим тебя в нашей тесной компании?
– Вот так начало! Такое изумление не поддается никакому описанию. Они что, ревнуют, что ли?
Да, старички, как вам сказать… Засасывает, знаете ли, мещанское болото, ленивый стал, вон, даже щеки наел, – я улыбнулся.
– Ленивый, говоришь? – это тот скин, который не вызывает у меня ни малейшей симпатии, – или просто избегаешь?
– Избегаю? Чего? Стос, тебе сперма в голову стукнула? Так извини, ЕЕ я за пару пива не одолжу, ушел поезд. Бойцы, с чего такие вопросы-то идиотские?
– я говорил это с вполне искренним изумлением, понимая при этом, что вопрос этот, конечно, имеет под собой резоны.
– Лебедь, ну ты хоть не тупи! На последнем махалове кто с тобой рядом стоял?!! Тебе не все мозги-то вышибли?!
– непонятная мне враждебность людей, с которыми вместе приходилось… много чего случалось, раздражала.
– Спайк! – лязгнул Лебедь. Что-то часто последнее время я слышу металл в его голосе. Совсем не хорошо. И только сейчас почувствовал, что Лебедя я считаю другом. – А ты не помнишь, чем тот день для нас закончился?!
– Закончился… Конечно, болтово он закончился, но ведь., всякое бывает… Случались с нами и похуже истории, согласись? А так, вроде отбились нормально. А то, что карлики сдристнули – так на то они и карлики, подрастут, глядишь, и сами гонять будут.
– Спайк, ты че, совсем тупой!? Я так вижу, что не Лебедю, а тебе мозги вышибли. Только когда – неясно. И что взамен положили, тоже интересно знать, – сказал один из генералов, и ответить ему в таком же тоне хамского наезда мне помешал пытливо-серьезный взгляд Лебедя.
– Слушай, Леб! Я, кажется, попросил: давай без вокруг да около! Я к вам подорвался, даже жену не удовлетворил! Что за сипец щщи такие?!
– Спайк. Ты же видел, как ОНИ появились.
– У них засада была. Они нас ждали. Они все знали. Откуда-то.
– Ааааммма, – а чтобы вы, други, сказали на моем месте?!!! Все слова разом застряли в глотке. Услышанное не умещалось в голове, выплеснуть его наружу мешала пробка – после бесконечных секунд, занятых осознанием услышанного (взгляд хаотично метался с лица на лицо), слова и междометия бросились на выход все сразу и столкнулись в горле, образовав затор. – Ммаа…
Парни снова замолчали, только лица их теперь не были опущены, они цепко смотрели на меня.
– Амм. Хм. БЛЯ! Да вы чо, охуели! – наконец справился с речью я. – Парни, ебанулись совсем?!!! Леб, вы все! Бы чо, хотите сказать, что я – ссучился?!!! Я – сука?!! – я вскочил, опрокинув стул, и реальность стала стремительно погружаться в красную пелену бессильной злобы.
– Тих, тих! Сядь, спокойно! – это сказал, кажется, Лебедь.
– Впрочем, не уверен, перед глазами все плыло. Впрочем, какая болт разница, кто сказал?
– Ты?! Мне?! Тихо?!! Да идите вы на хуй!!! – я кричал, чувствуя, как этот пронзительный вопль срывает голос.
– Спайк! Слушай! – Лебедь тоже вскочил, заорав. Еще двое поднялись и пошли навстречу вынырнувшей охране, собираясь попросить их не вмешиваться: ну чего такого, друзья немножко повздорили, сейчас успокоятся, с кем не бывает.
– А что ты еще хочешь, чтобы про тебя думали?! Да, я тебя знаю. Точнее, знал раньше, – каждое слово Лебедь говорил тише предыдущего, я замолчал, бесполезно пытаясь успокоить дыхание и слизывая с верхней губы неожиданные капли пота. – Да, знал раньше! Я знал Спайка, который не стал бы делать ноги с махача, как последняя крыса. Я знал Спайка, для которого Наша Идея была делом Чести и Сердца. Я знал. А теперь я не знаю, где этот стос. Нету его, нет, – Лебедь демонстративно развел руками.
– А потом этот славный парень вновь появляется. И тут же мы налетаем на засаду, – сказал один из скинов. Б ту же секунду я дал себе клятву наказать ублюдка. Ведь его на этом дерби просто не было. А ишь, еще вякает.
– … – с ужасом я обнаружил, что сейчас я не опять не могу ничего сказать, я тупо шевелил губами и смотрел на Лебедя.
– Лебедь! Ты же… мы же братья, ты забыл, да?! – О Боги, Боги, какая же ядовитая желчь оказалась в моем сердце вместо крови! – Ладно еще они, но… ты… Мы же братья! – речь моя стала бессвязной, кровавая муть в глазах еще больше сгустилась и закрутилась каруселью.
Я тряхнул головой, на несколько секунд это помогло, в глазах прояснилось. Значительно позже, вспоминая этот разговор и его концовку, я пришел к выводу, что подействовал тогда на чистых инстинктах, точнее, на одном инстинкте самосохранения. Пользуясь мгновениями ясности, я развернулся и, пнув ногой оказавшийся на проходе стул, пошел к выходу. За спиной несколько раз раздалось: «Стой! Спайк!», но я вывалил на улицу, не тормозя. И никто не вышел за мной следом.
…Я огляделся по сторонам и обнаружил себя в каком-то старинном дворе. Я сидел на детской горке, в руках у меня была почти пустая фляжка коньяка. Я встряхнул ее и закинул в себя весь остаток залпом, одним комком. Пошарил по карманам и закурил сигарету (пачка, взятая утром из дома, была почти пустая). И только выпустив первую струю дыма, осмотрелся второй раз, основательнее, пытаясь сориентировать себя в пространстве и времени.
Уже смеркалось, был час быстрых осенних сумерек. Где я провел день? Я напрягся, наморщив лоб, – безрезультатно. Попытка, еще одна – и я махнул рукой. Не все ли равно? От прошедшего мимо меня дня остался лишь горький спазм в горле. На минуту я ослабил его коньяком, но теперь он снова вцепился мне в шею. Может, это дурной сон? Я зажмурился, помотал головой, хотел даже ущипнуть себя за руку, но вовремя опомнился. Да нет, никакой это не сон. Перед глазами встали их лица, и глотку сдавило еще сильнее. Братья мои, как же так?!!! Что же должно было произойти, чтобы Лебедь сказал МНЕ такое… Что же должно было произойти? И где? И… с кем? И появилась тоскливая уверенность, что весь этот нелепый разговор был не последствием, и не самым крупным, каких-то событий, происшедших в этом мире. Или с миром все в норме, а мутировал я… И так изменился, что меня не узнают мои закадыки?
Я поднялся (меня крепко качнуло) и убедился, что двор этот мне абсолютно незнаком. Он был безлюден, в окнах домов не светились окна, казалось, что сюда вообще не заходят люди. Наверное, так здесь и оказался я. Забрел сюда незнамо сколько часов назад на инстинктах. Точнее, на одном инстинкте. Как раненая зверюга ищет логово, чтобы зализать рану, так и я отыскал безлюдное место чтобы прийти в себя и собраться с мыслями. Ад, случившееся было очень похоже на то, как происходят ножевые ранения. Неуловленный глазами проблеск, удар и бесконечно долгое осмысление, разум уже понимает, а тело, созданное совершенным, не может понять свою (теперь) ущербность. И только через несколько секунд – взрыв боли. Взрыв боли едва не разорвал голову, одновременно тягуче заныло в груди.
Я вышел из куба двора, теряющего свой объем в вечерней тьме, и попытался интуитивно найти какую-нибудь крупную улицу. Поиски долго не могли увенчаться успехом, у редко попадавшихся прохожих я почему-то избегал спрашивать: «ээ… где здесь эта… улица?…» Накрапывало, и я уже почти серьезно прикидывал вариант запрятаться в каком-нибудь парадняке и переждать озноб. Но тут за шепотом дождя я различил размытые отголоски света и вскоре оказался у метро.
У метро «Таганская». Неожиданность этого топографического открытия заставила меня остановиться и тупо смотреть на красную букву «М», при этом тщетно призывая память рассказать о работе, проделанной головой. Да как я здесь-то очутился?!!







