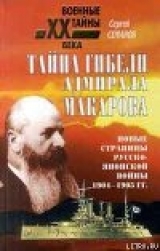
Текст книги "Тайна гибели адмирала Макарова. Новые страницы русско-японской войны 1904-1905 гг."
Автор книги: Сергей Семанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц)
В апреле 1876 года началось восстание в Болгарии. Оно превратилось в народное движение общенационального характера. Войной против Турции пошли Сербия и Черногория – в то время крошечные государства с небольшими, но отважными армиями. Началась всеобщая борьба славянства против султанской тирании. Русская общественность с величайшим сочувствием следила за успехами братских славянских народов. Множество добровольцев готовы были отправиться на Балканы, чтобы принять участие в этой освободительной борьбе. По всей стране проводились сборы средств в пользу восставших славян, в Сербию и Болгарию посылались продовольствие, медикаменты, потянулись ветераны-добровольцы.
Макаров стал добиваться перевода его на Черное море. «Там трудно, значит, я должен быть там», – примерно так выразился адмирал Макаров много лет спустя. Лейтенант Макаров ничего подобного не говорил, быть может, даже не думал об этом. Он просто начал хлопотать о переводе на Черное море. И делал это, как и всегда, настойчиво. Впоследствии он скажет:
– Вряд ли за всю жизнь я проявил столь христианского смирения, сколько за эти два месяца. Иной раз не только язык – руки! – так и чесались!
В октябре 1876 года Макаров наконец добился приказа о переводе его на Черное море. Много раз уже ему приходилось собираться в неблизкий путь, и сборы были коротки и точны: с легким чемоданом выехал из Петербурга в Севастополь. Вместе с ним еще несколько морских офицеров, в том числе и старший товарищ Макарова лейтенант Измаил Зацеренный.
С точки зрения службиста назначение это было незавидным: после поражения в Крымской войне Черноморский флот пришлось создавать заново. Строительство велось к тому же не слишком спешно, и в результате к 1876 году южные берега России оказались, по существу, не защищены со стороны моря. И в самом деле, в то время, когда Макаров выехал в Севастополь, в составе Черноморского флота числились два броненосца береговой обороны, тихоходные, недостаточно вооруженные, хотя и сильно бронированные корабли, а также четыре устаревших корвета и несколько шхун.
А у «вероятного противника» – так еще полагалось называть Турцию – в то время имелось 22 броненосных корабля и 82 неброненосных. Турецкие броненосцы – основная сила вражеского флота – были вооружены мощными английскими орудиями, имели достаточно хорошие по тем временам ход и бронирование. Командовал султанским флотом Гобарт-паша – английский офицер на турецкой службе, вместе с ним служили немало других британских наемников. Главной слабостью турецкого флота была плохая подготовка личного состава. Матрос-турок был забитым, унижаемым существом, своим положением он ненамного отличался от галерного раба.
Изучая ратное прошлое родины, Макаров знал, что русские умели успешно вести активные наступательные действия против, безусловно, сильнейшего противника. «История показывает, – писал он в ту пору, – что мы, русские, склонны к партизанской войне». Но ведь основа партизанской тактики – скрытность нападения, а на морской глади не скроешься. И Макаров пояснял: «Минная война есть тоже партизанская война». И справедливо пророчествовал:
– По моему мнению, в будущих наших войнах минам суждено играть громадную роль.
…«Константин» было взял на буксир шесть катеров. Ночью Макаров подошел к болгарскому порту Сулин, занятому турками.
Темное небо непрерывно освещали два маяка: турки, наученные горьким опытом, уже стали бояться ночных атак. В десять минут первого «Константин» застопорил машины, катера были спущены на воду. В ночной тишине прозвучал голос командира:
– Господа! Мы в шести милях от сулинского рейда. Отдавайте буксиры и постарайтесь отыскать турецкие суда. Держитесь правее маяка. Если, пройдя пять миль, ничего не увидите, то поворачивайте на север и в пяти милях встретите меня.
Катера тесной группой пошли к погруженному в тишину и мрак вражескому берегу.
Около двух часов со стороны Сулина раздался оглушительный взрыв, а затем частая орудийная и ружейная стрельба. Прошел час, другой, катеров все не было. Беспокоясь за их судьбу, Макаров приказал подойти поближе к берегу. «Константин» увеличил ход. Вдруг корабль резко затормозил и стал. Мель! Дали задний ход на полные обороты. Тщетно. Командир отрывисто приказал:
– Уголь за борт!
Матросы стремглав бросились к угольным ямам. Мешки с углем один за другим полетели в темную воду. Десять, двадцать, сто…
– Полный назад!
«Константин» медленно сползает с мели и поспешно отходит от опасного места. Макаров снял фуражку и перекрестился: да, весело было бы встретить рассвет под носом у турецкой эскадры. Пронесло на этот раз. Но где же катера?
Только в пять утра подошел первый катер, а за ним еще четыре. Одного катера так и не дождались…
Лейтенанту Зацеренному не повезло: мина, сброшенная в воду, почему-то утонула, и атака не состоялась. На катере лейтенанта Пущина мина взорвалась произвольно и так повредила маленькое суденышко, что его пришлось затопить (как стало известно позже, все члены команды, кроме одного человека, вплавь добрались до берега и были взяты в плен). Наконец катер лейтенанта Рожественского подвел мину к борту турецкого корвета «Иджлалиле». Сильный взрыв повредил вражеский корабль настолько, что он вышел из строя до конца войны.
Командир поздравил всех с первой победой, поблагодарил. Однако сам-то он был не очень удовлетворен. Как-никак, а вражеский корабль остался на плаву… Так он и написал в своем рапорте: взрыв, дескать, «не произвел такого действия на судно, от которого броненосец сейчас же пошел бы ко дну». И не преминул сказать «о замечательном спокойствии и хладнокровии, с которым все на пароходе и катерах исполняли свой долг». Слово «долг» Макаров особенно любил…
19 июля Макаров пошел в новый рейд к берегам противника. На сей раз «Константин» крейсировал буквально в виду турецкой столицы. За несколько дней крейсерства удалось уничтожить шесть небольших торговых судов (их опять-таки уничтожили, а не захватили). Получив от турецких матросов известие, что в болгарском порту Варна находится вражеский сторожевой корабль, Макаров спешно двинулся туда, надеясь атаковать наконец достойного противника. Рейд оказался пустынным, пришлось возвратиться…
Между тем на Кавказском театре военных действий русские войска добились большого успеха и осадили сильнейшую турецкую крепость Карс. Однако противник сумел выправить положение и оттеснить наши войска. Немалую роль сыграло то, что туркам удалось в начале войны развернуть диверсионную деятельность в тылу нашей армии на Кавказском побережье.
Турецкий флот не только снабжал отряды диверсантов оружием и снаряжением, но и оказывал им непосредственную поддержку в сражениях с русскими войсками. Военные действия велись преимущественно в узкой прибрежной полосе, ограниченной высокими лесистыми горами, поэтому турецкие броненосцы могли очень легко обнаруживать с моря продвижение наших отрядов и поражать их огнем своих орудий.
В ночь на 7 августа отряд полковника Шелковникова около Гагры подошел к ущелью и вступил в бой. Врага удалось сбить с высот и отбросить от берега, однако ночной бой затянулся. Когда поднялось солнце, обнаружилось, что арьергард отряда только-только втянулся в ущелье и находится как раз напротив вражеского броненосца. Турки не заставили себя ждать – тотчас же раздались залпы тяжелых орудий. Казалось, русский полк обречен на верную гибель…
В это время с севера появился какой-то корабль. Турецкий броненосец, прекратив обстрел берега, двинулся ему навстречу. Неизвестный пароход отвернул и пошел в открытое море, преследуемый броненосцем. Вскоре оба корабля исчезли. Русский отряд благополучно форсировал ущелье. Чудо свершилось.
Макаров, находившийся в Севастополе, получил от адмирала Аркаса телеграмму с пометкой «экстренно»: «Шелковников телеграфирует мне, что у Гагры стоит броненосец… Отряд сегодня выходит из Сочи. Просит отвлечь неприятеля. Поручаю вам сделать, что можете».
В ночь на 7 августа «Константин» вышел на поиск. Итак, надо было во что бы то ни стало «отвлечь неприятеля». Легко сказать – отвлечь! Хрупкий, лишенный брони торговый пароход с несколькими слабыми пушками и мощные турецкие броненосцы – вот соотношение сил. И все же Макаров не колебался, он смело искал боя. И, может быть, именно тогда сложился в его сознании дерзкий призыв, который он провозгласил много лет спустя, но которому следовал всю свою жизнь, во всем и везде:
– Если вы встретите слабейшее судно, нападайте; если равное себе, нападайте, и если сильнее себя – тоже нападайте!
Макаров был из породы людей, применяющих собственные правила прежде всего к самим себе. «Константин» направился прямо к Гагре. Глубокой ночью были спущены катера:
– Осмотреть побережье от Гагрипши до Гагры. Если обнаружите неприятелей, атакуйте!
Через несколько часов катера вернулись ни с чем: найти противника не удалось. И неудивительно – турецкие суда по ночам стали тщательно соблюдать световую маскировку и старались не производить никакого шума, опасаясь минных атак. Быстро светало. И тогда Макаров приказал подойти вплотную к Гагрскому ущелью.
Сквозь тающий утренний туман турки первыми заметили приближавшихся и бросились в атаку. Макаров приказал отходить, но пошел не вдоль берега, что было бы безопаснее, а на запад, в открытое море: ведь надо увести броненосец как можно дальше от русских войск, подвергавшихся бомбардировке. «Константин» обладал большей скоростью, чем его преследователь. Турецкий броненосец стал постепенно отставать. Тогда, рассказывал позже об этом сам Макаров:
– Я приказал уменьшить ход, чтобы представить ему интерес погони…
Броненосец развил предельную скорость, стремясь сблизиться с «Константином» на дистанцию орудийного выстрела. Порой казалось, что турки вот-вот догонят пароход и тогда…
– А дело становилось дрянь, – рассказывал потом Макаров, – нажимает, вот-вот начнет разыгрывать. Пароходишко картонный с начинкой из мин… Два-три удачных выстрела – капут!
Неожиданно налетел сильный шквал с дождем, и противники потеряли друг друга из виду. Когда турецкий броненосец вернулся к Гаграм, русский отряд уже ушел в горы. Смелое предприятие увенчалось успехом.
Долго не применялись торпеды в ходе текущей войны, хотя несколько штук их имелось на севастопольских складах. Макаров все лето тщетно бомбардировал Аркаса рапортами с просьбой дать ему возможность провести атаку минами Уайтхеда. Адмирал отказался дать торпеды под предлогом самым невероятным: «стоят они дорого»…
В конце концов адмирал уступил, и Макаров наконец-то заполучил эти драгоценные торпеды. Кстати сказать, драгоценные не только в переносном, но и в прямом смысле: за каждую «самодвижущуюся мину Уайтхеда» нерасторопное морское ведомство платило 1200 золотых рублей, то есть огромную по тем временам сумму; дороговато стоило русской казне пренебрежение власть имущих к собственным «Платонам и Невтонам»!
Теперь Макаров должен был на свой страх и риск разработать способы применения торпедного оружия. Посоветовались с командирами катеров и решили: одна торпеда будет укреплена в трубе под днищем катера, вторая доставлена к месту атаки на специальном плотике. Все это делалось кустарно, на скорую руку, да и сами торпеды в техническом отношении оставляли желать много лучшего. Учебные стрельбы провести не удалось: «импортных» торпед было мало.
Наконец «Константин» отправился в боевой поход. Шли к Батуму. В ночь на 16 декабря, обнаружив турецкую эскадру в Батумской бухте, Макаров приказал произвести атаку. Все шло обычным порядком, только на этот раз два катера несли торпеды. Дело складывалось как нельзя более удачно, оба катера подошли к сильнейшему турецкому броненосцу «Махмудие» и направили мины в цель. Раздался сильный взрыв, у борта корабля вверх взлетел фонтан воды.
Оба командира катеров клялись Макарову, что цель поражена. Вернувшись в Севастополь, он так и доложил об этом командованию, сделав, однако, некоторые оговорки: мол, сам не видел, но… И тут Макаров поступил опрометчиво, о чем вскоре пожалел, зато получил хороший урок на всю жизнь. Оговорки Макарова приняты во внимание не были, и из штаба флота – а в каких штабах не любят сообщений о победах? – во всеуслышание объявили, что «Константин» подбил турецкий броненосец. Некоторые газетчики тут же этот броненосец и потопили…
Боевой лейтенант был представлен к внеочередному присвоению следующего звания капитана второго ранга (это почти совпало с его днем рождения, что ж, быть в двадцать восемь лет в таком чине – честь немалая). Но очень скоро выяснилось, что «Махмудие» никакого повреждения не получил. Вышла очень неприятная история. Правда, командование флота никаких претензий Макарову не предъявило, ибо при внимательном (запоздалом, к сожалению) чтении его рапорта становилось ясно, что командир «Константина» просто-напросто передал донесения командиров катеров. Однако будущие недоброжелатели будущего адмирала очень любили впоследствии вспоминать этот эпизод: вот, дескать, за какие такие заслуги выскочка получил свои чины и ордена…
Макаров нервничал необычайно. Конечно, в его рапорте нужно было сделать более определенные оговорки, конечно, надо строже относиться к донесениям командиров, вернувшихся из боевого дела: они возбуждены, взволнованы, они благополучно ушли из-под огня – как же им не верить в собственный успех?! Ну ничего, не в последний раз писать ему рапорты…
Тем временем в русско-турецкой войне наметился решительный перелом. 28 ноября после долгой осады капитулировала осажденная русскими крепость Плевна. Еще раньше в Закавказье был взят Карс – оплот турецких позиций в том районе. В декабре была освобождена София, на полях Болгарии в нескольких битвах турецкие войска потерпели сокрушительное поражение. Путь на Константинополь был открыт.
…Макаров плотнее повязал накидку, поправил капюшон. Зима даже в этих субтропических широтах остается зимой. Ишь какой холодный ветер! Под ногами содрогался настил мостика. Корабль шел полным ходом. Уже начинало смеркаться, а часа через два надо быть вблизи Батума.
Макаров получил приказ: «Константин» должен отправиться к Батуму и попытаться отвлечь на себя внимание турецких кораблей. Недавно вражеские броненосцы подвергли зверскому обстрелу Евпаторию, Феодосию, Анапу; командование опасалось, как бы подобные нападения не повторились.
Операцию решено было провести ночью. Макаров шутил о собственной тактике:
– Днем я вижу неприятеля далеко и имею много времени справиться или, лучше, убежать, ночью же они все от меня бегут, как от зачумленного…
В половине двенадцатого два катера, вооруженные самодвижущимися минами, пошли в атаку. Погода к этому времени прояснилась, «свет луны и блеск снежных гор прекрасно освещали рейд», писал позже в своем донесении Макаров. Командиры катеров могли хорошо наблюдать цели. Атакован был сторожевой корабль, стоявший в гавани ближе всех к открытому морю. С небольшого расстояния катера выпустили торпеды, обе взорвались одновременно. Позже Макаров рассказал:
– Слышен был энергичный взрыв… Затем слышен был сильный треск от проломившегося судна и глухие вопли и крики отчаяния многочисленной команды. Пароход лег на правую сторону и быстро погрузился на дно с большей частью своего экипажа… До того, как скрылись мачты, прошла одна или две минуты.
Итак, свершилось! Вражеский корабль исчез в волнах непосредственно после удара макаровских катеров.
Победное «ура» звучит на палубе «Константина», обнимаются и поздравляют друг друга моряки. Макаров молча смотрит с мостика на это торжество. Командир должен быть сдержан. Он не может размахивать фуражкой, как тот молодой мичман на юте, не может кричать во весь богатырский голос, как те матросы, что собрались в кучу около одной из труб. Но он счастлив, как и они. Он улыбается в темноту и яростно теребит небритый подбородок, на котором не выросла еще знаменитая адмиральская борода.
«Итибах» оказался первой в мире жертвой торпедного оружия в морских войнах.
О Макарове восторженно писали газеты, он получил множество приветствий и поздравлений. Трогательную телеграмму послал ему адмирал Попов:
«Наконец-то полный успех. Позвольте считаться не учителем вашим, а учеником».
Так у двадцативосьмилетнего капитана второго ранга Макарова появился первый ученик…
Свою долгожданную победу Макаров одержал, что называется, вовремя: через пять дней было подписано перемирие.
Он полюбил атаку, стремительность, дерзость. Но при этом у него на всю жизнь осталось пренебрежение к обороне, к защитительным мерам, а порой даже недостаточная осмотрительность – за все это ему жестоко доставалось в жизни.
Ну что ж, наши недостатки есть продолжение наших достоинств… И еще Макаров понял, прямо-таки проникся тем убеждением, что нет неодолимых преград и препятствий, что все они падут перед находчивым и смелым человеком. Воля его еще более окрепла, характер закалился, рука стала сильнее, взгляд тверже. Отныне он не смущался и не робел ни перед кем и ни перед чем. Робость ведь тоже бывает разная. Иной самый отчаянный сорвиголова теряется перед ничтожным канцеляристом. Водолаз может панически бояться высоты, альпинист – воды.
Однако нельзя не добавить, что в военной страде Макаров проявил самый благородный вид отваги – спокойное мужество. Он не вставал в позу на мостике, не пил чай (или не чай) под огнем, как поступали славы ради некоторые его современники. Он делал дело и ради этого шел на самые рискованные предприятия. Только ради дела, ратного дела, которое ему было поручено. И если бы под огнем для такого же дела следовало бы выпить кружку чаю (или не чаю), Макаров спокойно бы ее испил. Не спеша.
Хотя, по совести сказать, никаких других напитков, кроме кваса и того же чаю он не любил…
* * *
Из дневника Макарова Вадима Степановича (мичман Минной флотилии Балтийского флота, двадцать три года от роду).
Итак, свершилось. Государь император подписал манифест о войне с Германией и Австрией. Вчера весь экипаж нашего минного заградителя стоял на молитве, очень истово молились все, от командира до двух кочегаров, отпущенных по этому случаю досрочно из карцера. В моей роте служат два татарина с Волги, хорошие матросы, мусульмане они. И вижу краем глаза: оба преклонили колена и истово крестятся, внимая возгласам о. Арсения. А ведь никто и никогда не склонял их к этому. Да, наверняка они чувствуют себя сейчас воинами-защитниками Великой России, русскими! Какая чудесная страна наша родина! Она истинная мать всех своих сынов, даже инославных, даже неверующих по недомыслию своему. (Ну, неверующих по злобе ничем не проймешь.) Прав был наш поэт, что все наши языки – русские, и калмык, и тунгус.
Написал вот, а теперь думаю: ну, а финн? Он ведь тоже сын Великой России. Послужив в Ревеле и Гельсингфорсе, хорошо изучил их. Молчаливый, скрытный и злой народ. Ну, ладно, мы, русские, тоже не мед, чего уж тут. Но мы же их не презираем, не угнетаем. Напротив, ограждаем их в Эстляндии от остзейских помещиков, а в княжестве Финляндском – от шведских. А те суровые хозяева, не то что мы, они бы их без нас в дугу скрутили. Но не только не благодарны, а ненавидят нас. Я это четко почувствовал, когда недавно заполыхало войной тут на Балтике. Даже лица их, вечно угрюмые, вдруг стали делаться чуть светлее при встречах друг с другом.
Нет, нет. Почувствовал я их вражду к России ранее. Сейчас вот посмотрел свою тетрадь за 907-й год, там не записано о том, а зря. Так вот, еще кадетами шли мы в шхерах в шлюпочном походе, вел нас курсовой офицер кавторанг Т., старый балтиец, тогда уже нестроевой. Я как раз шел в головной шлюпке, на корме – кавторанг. Проходим очередной узкий проливчик, кругом безлесные каменные островки, унылые, плоские. Вдруг каперанг: «Стой, суши весла!»
Он поднялся, взял рупор, поднес к губам и обратился, как положено, к кормовым трем шлюпкам, мы ведь и так услышим: «Гг. кадеты, перед вами лежат развалины английского парохода „Джон Графтон“. В 905-м враги отечества загрузили его оружием и гранатами, чтобы передать террористам на земле Великого княжества Финляндского. Господь покарал их, натолкнулись они на каменья, а потом взорвали свою посудину да разбежались кто куда. Капитаном у них был финн, команду собрали из разного портового сброда, а коноводами служили, как положено у них, жиды-эмигранты. Смотрите и запоминайте о кознях врагов России. А теперь – загребные, внимание, за-мах, за-мах! Следовать за мной!»
Прошли мимо ржавых обломков судна, каких множество на любой береговой линии. Но мне этот случай запомнился. Оружие заговорщикам? Ну, кинжал тайком, ну ящик ружей контрабандой, это понятно. Но целиком загрузить морской пароход?!
В конце того же лета я проводил отпуск вместе с мамой в имении адмирала Р. под Лугой. В Лужском епархиальном управлении оказалась превосходная библиотека, я часто брал там книги. Однажды полюбопытствовал у пожилого, подслеповатого батюшки, отца-библиотекаря, не слыхал ли он чего о том злосчастном пароходе. Он даже как бы обрадовался моему любопытству и тут же дал мне прочесть брошюру «Изнанка революции. Вооруженное восстание в России на японские средства», издание, кажется, суворинское.
Не сделал я тогда выписок, но содержание хорошо помню. Главой интриги стал полковник японского генерального штаба, бывший военный атташе микадо в Петербурге. Еще в ноябре 904-го он связался с «Финской партией активного сопротивления» (кто такие?). Затем дело перенесли в Европу, там связались с революционерами-эмигрантами (все до одного евреи!), называются имена некоторых: «Ленин», «Красин», «Литвинов» – псевдоны, ясное дело. Японцы им деньги, они им – связи в России («явки», как у них выражаются). Словом, снарядили целый пароход с оружием и бомбами. Они, мерзавцы, трижды ходили из Копенгагена с полным грузом, два раза удачно, на третий нарвались на каменистую отмель. Ну что взять с иудеев-заговорщиков, но где же русский Балтфлот?! Ведь на Аландских островах – постоянная морская разведка, круглосуточные дозоры!
Помню, возвратился я в сентябре в корпус, хотел спросить подробности у кавторанга Т., узнаю вдруг: отчислен. Представляюсь новому курсовому офицеру, ст. лейтенанту Б. (молодой, для строевого моряка слишком гладкий, пенсне на толстом носу, кучерявый, но уже лысеет). Спрашиваю о «Джоне Графтоне», отвечает: «Учтите, кадет Макаров, армия вне политики, а флот тем более». «Позвольте, – говорю, – на броненосце „Потемкин“, я сам читал статью, был одесский еврей Фельдман, который…» «Кадет Макаров, советую вам не читать черносотенных газет, ваше дело – быть морским офицером, а не казаком с нагайкой». Холодно кивнул мне, я откланялся и вышел.
Странным это мне тогда показалось, но не теперь. А помог, как часто это со мной случается, покойный отец. В «Морском сборнике» готовится еще одна публикация его архивных материалов. Мы с мамой отобрали кое-что. Она хоть и несколько сдала в последнее время, но когда занимается делами отца, преображается, даже молодеет внешне. Речь зашла у нас о предвоенных годах (1901–1903), когда отец служил начальником Кронштадтской военно-морской базы. Спрашиваю: а почему Небогатов сдал остатки русской эскадры под Цусимой? – Выкрест, Россию всю жизнь ненавидел, я хорошо помню его намеки, но особенно его кривоногой и чернявой супруги. – А генерал Куропаткин? – Масон (я тогда не понял, что это такое, но переспрашивать не стал). – Мама, спрашиваю, даже несколько оробев, а вот наш морской министр Григорович, ведь служил с папой в Артуре, папа его выдвигал, я знаю, но почему он всем бунтовщикам, приговоренным к смертной казни, исполнение приговора не утверждает, хотя мне рассказывали, что там такие страшные случаи бывают, что…
Тут мама вскинула голову и пристально взглянула на меня. Я прервал речь.
– Масон, – отчетливо и со значением произнесла мама, – но ты в эти дела не суйся. Отец твой все понимал, но молчал, даже мне не говорил, хотя я догадывалась. Я еще в Бельгии, где воспитывалась при католическом монастыре, узнала кое-что, объяснил мне францисканский монах. Молоденькой девушкой была, глупая вроде, да не очень, как видишь. Учти, отца твоего не адмирал Того погубил, а другие, здешние.
(У меня забилось сердце: те же слова сказал мне когда-то Николай Оттович, но ведь они с мамой даже не знакомы толком!)
– Учти, продолжала мама, – тебя устранить куда легче, чем твоего отца, а ты у меня…
Тут она заплакала очень горько, я принялся утешать ее. Разговор у нас более не возобновлялся.
<…> И вот теперь война. Почему, я не понимаю! Ведь с Германией у нас никаких взаимных противоречий вроде бы нет, ни территориальных, ни хозяйственных. А с нашей «союзницей» Англией у нас всю историю шла распря. А масонская Франция, наш денежный Шейлок? Что за «сердечное согласие» такое, «Антанта»? Что за «друзья» у нас? Не понимаю. Ничего не понимаю. А отца нет.
Заканчиваю. Вечером уходим в море, начнем ставить, как сказано в приказе Генмора, «центральную минную позицию». В Финском заливе набросаем тысячу мин, сделаем «суп с клецками», как шутят матросы. Сбереги нас, Господи!
* * *
2 (15) февраля 1904 года, три часа пополудни. Берлин, Унтер-ден-Линден, посольство императора Японии в Германской империи.
Кабинет военного атташе японского посольства Акасахи был обставлен исключительно по-европейски. Более того, в знак уважения к хозяевам – в «готическом» стиле: удлиненные окна, заостренные вверху, камин с массивной решеткой, на стенах – старое оружие, по углам – рыцарские доспехи в полный рост. Конечно, и хозяин кабинета, и большинство его посетителей были достаточно образованны и наблюдательны, чтобы понимать: оружие и доспехи эти не подлинные, «новодел». Но сегодня в Старом и Новом свете такая мода, приходится следовать ей. Возникла даже целая индустрия, изготовлявшая так называемые «каминное оружие».
Впрочем, оба собеседника, сидевшие за просторным столом, по стенам не глядели, куда более важные вопросы занимали их.
Полковник Итиро Акасахи не мог, к своему несчастью, похвалиться древностью и тем более знатностью рода. Его отец во время славной революции Мэйдзи был всего лишь унтер-офицером в войсках будущего императора. После победы он перешел из третьего сословия во второе, став самураем и передав это звание старшему сыну. Увы, для военной карьеры в Японии этого было недостаточно, что очень сердило полковника и о чем он никому не рассказывал, даже младшим братьям, боготворившим его за немыслимые в незнатной семье успехи. Окончив Академию германского Генерального штаба, Акасахи получил от императора звание полковника и назначение на генеральскую должность в посольстве. Но увы, вряд ли ему удастся надеть генеральские аксельбанты: высшее сословие, первое среди трех прочих, было крайне замкнутым и неохотно принимало в свой состав низкородных.
Меж тем именно полковник Акасахи выполнил задание, успех которого может повлиять, а то и изменить ход войны с русским медведем. Ну, посмотрим, к концу войны многое должно проясниться.
А пока он терпеливо слушал Азефа. О боги, на каком ужасном немецком языке он бормочет! И никакой английский смокинг не может прикрыть безобразие, от всей его личности исходящее. Но… его агенты выяснили точно: этот уродец весьма и весьма влиятелен в кругах заговорщиков, намерившихся свергнуть законную власть в России. Нарочно, нарочно высшее начальство поручило ему, худородному выскочке, копаться в этой грязи. Он уже сделал, казалось бы, невозможное, но кому достанутся лавры победы над северным врагом? Только не ему…
– Итак, господин военный атташе, я заканчиваю. Позвольте подвести итоги.
Голос у Азефа был такой же неприятный, как и внешность, – казалось, он не говорил, а шипел, словно змея, шлепал толстенными губами и брызгал слюной. А этот его отвратительный акцент! (Сам-то полковник, усердно изучивший немецкий язык и литературу, говорил на нем свободно и чисто.)
– Итог, господин полковник, таков. Ровно через две недели мой человек будет в Петербурге. Там он свяжется с указанными мною людьми, и операция «шимоза» начнет осуществляться.
– Кодовое название нашей операции вы сообщили кому-нибудь? – будничным голосом спросил Акасахи, хотя весь замер внутри.
– Код известен только двум проверенным людям – тому, кто сегодня отправится в Петербург, и тому, кто его там встретит. В письменном виде никто из нас слово «шимоза» не употреблял.
– А вам известно значение слова?
Азеф сморщился и растопырил губы, изображая улыбку, его жирная физиономия сделалась еще гаже.
– Японское название того вещества, что на европейских именуется динамитом. Хорошая штука, наши люди уже применяли это изобретение шведского инженера-самоучки. Хорошая вещь вышла у господина Нобеля.
«Откуда эта уголовная личность может знать, как действуют боевые взрывчатые вещества?» – подумал полковник, но вслух сказал совсем о другом:
– Мне доложили утром, что агенты русского Департамента полиции усиленно работают на границе с Германией, имейте в виду.
Азеф еще шире растянул губы и тяжело задышал, это обозначало у него смех.
– Не беспокойтесь, у нас есть свои люди в Департаменте полиции, и люди серьезные.
«Не врет, наглец», – подумал Акасахи. Но в стране Ямато? В Министерстве полиции, что стоит рядом с императорским дворцом, неужто и там могут появиться «свои люди» у чужеземных мерзавцев?! Нет-нет, только не это!
– Директором Департамента полиции ведь по-прежнему остается князь Лопухин? – то ли спросил, то ли утверждал полковник.
– Да, Алексей Александрович наш большой друг, – прошипел Азеф. – Это шутка, конечно.
Японский полковник опустил глаза и продолжать разговор не стал.
* * *
Зимний дворец сиял всеми своими огромными окнами. И на Дворцовой, и вдоль решетки, что против Адмиралтейства, и по набережной Невы – всюду усиленные гвардейские караулы. Впрочем, усиление караулов сделано на этот раз не по причине возможных действий террористов, а исключительно для того, чтобы наиболее торжественно встретить сегодняшних гостей государя.
А сегодня – 21 февраля тысяча восемьсот восьмидесятого года от Рождества Христова, день Святого Георгия Победоносца, что искони был покровителем православного русского воинства. Вот почему по давней традиции сегодня во дворец приглашаются все господа офицеры, имеющие честь носить орден сего святого.
Орден сей был самым почетным и в армии, и на флоте России с 1769 года, когда при благоверной императрице Екатерине Великой высочайше повелено было оный учредить. Давался он, как сказано в уставе, «единственно за особое мужество и храбрость и отличные подвиги воинские». Вот так – «за особое мужество», которое можно выказать только в честном бою, за выслугу лет и безупречную службу – тоже деяния достойные – давались иные награды. Девизом ордена было: «За службу и храбрость». Получали его (исключая, разумеется, особ коронованных, однако иностранных) исключительно храбрецы офицеры.








