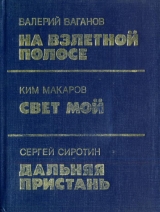
Текст книги "Дальняя пристань"
Автор книги: Сергей Сиротин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Укладывают рыбу в стальные и алюминиевые противни молодые женщины, навербованные на несколько месяцев путины в больших городах. При этом они галдят, ругаются, поют, громко хохочут, рассказывая смачные анекдоты. Тут же с разинутыми ртами толкутся молодые байстрюки с плоскогубцами, гаечными ключами, монтажными поясами. Крутятся, познают жизнь. А бабенки, хихикая, так проходят, пронося мимо противни с уложенной по сортам и размерам свежей рыбой, что иным молодцам становится дурно, и они выскакивают на воздух потрудиться. В цехе рыбообработки пожилые, знающие дело работницы сортируют, разделывают и солят наиболее ценные породы рыбы.
Мастер – совсем еще девчонка, после рыбтехникума, в кроличьей шапке, в ловко подогнанной овчинке, в резиновых сапогах на голом капроне. Лицо у нее испуганное от упавшей на ее плечи власти. Красная из-за всего услышанного, плачущим голоском прерывает разговоры: «Вы такие слова говорите, Степанида Петровна. У нас план, ножи острые, и техника безопасности может пострадать».
Бабы посмеиваются, а Степанида беззлобно ворчит в сторону начальницы: «И чего дурачье там крутятся. Вот девка пропадает: и характер, и образование – так нет…»
Мастер, через силу озаботив лицо, убегает. Она не может больше слышать стыдных намеков, тем более, что электрик Юрка Брызгин ей очень нравится.
– Эй, телка, отойди, задавлю! – Мимо проносится лошадь, запряженная в телегу.
– Грубиян, – со слезами в голосе кричит мастер и бежит в конторку.
Бригада работает в разных местах. Одни дробят лед, другие принимают с огромных деревянных тракторных саней рыбу и таскают ее на промывочные столы. Третьи в мерзлотнике ловят с бегущей ленты транспортера уже заколоченные ящики и ставят их на низкие санки по тридцать-пятьдесят штук, в зависимости от степени усталости, и катят воз в самые дальние концы мерзлотника по блестящему зеркалу ледяного пола. Там укладывают ящики в ровные штабеля до самого свода, заполняя постепенно штольню за штольней. Все делается споро, но очень добротно и аккуратно – летом сами будем разгружать мерзлотник. И поплывут наши ящики с трафаретными черными надписями на торцах по всему белу свету…
В кузне мой сосед дядя Арканя бухает тяжелым молотом. Увидев меня, скалит белые зубы на закопченной физиономии:
– Набрал силу! Теперь сумеешь поцеловать кувалду? – Он громко ржет вместе со сварным Алешкой Чердынцевым.
Они всегда смеются, встречаясь со мной.
Года три прошло с той поры, когда, приехав из райцентра, где учился в десятилетке, на зимние каникулы, я заглянул в кузницу. Мужиков было много – они любили погреться у горна. Дело было часов в семь вечера, когда кузня превращалась в небольшой клуб по интересам, с буфетом на самообслуживании.
Раскрасневшийся дядя Арканя яростно рвал бракованные подковы. По-моему, он больше демонстрировал свою находчивость, чем силу рук, так как подковы с различными раковинами и трещинами были у него заранее сложены в ящике у крайней стенки.
Мое появление привлекло внимание отдыхающей публики. Меня хлопали по плечу, предлагали за здоровье хороших людей, спрашивали, как дела в районе. Подошел и сам дядя Арканя, потрепал меня по загривку – волосы мои были настолько длинными, что свисали на воротник шубы.
– Ну как, силенка есть? – спросил кузнец, оценивающе оглядывая меня. Я не ожидал подвоха и отвечал, нажимая на низкие ноты: имеется, мол. Дядя Арканя подмигнул корешам, те замолкли. Он взял кувалду, зажал самый конец длинной ручки в ладони правой руки и, резко вывернув локтем вверх, остановил кувалду на уровне глаз. Потом тихонько опустил ее ниже и поцеловал блестящее холодное железо бьющей части.
– Ну давай глянем, какой ты у нас орел, – добродушно, даже с какой-то неохотой произнес он и подал мне кувалду.
Взяв инструмент так же, как только что брал он, я взмахнул кувалдой и вывернул так же руку.
Когда меня подняли с земляного пола, звезды еще долго, мерцая, носились перед моими глазами. Как только я, наконец, смог слышать, до меня донесся уже не хохот, гремевший минуту назад, а слова: «Так ведь и убить парня можно» – и голос дяди Аркани, испуганный и извиняющийся:
– Да нет, он здоровый парень. Только не догадался ручку на себя дернуть и кисть придержать.
Синяки под глазами у меня светились все каникулы. С тех пор шутки кузнеца я воспринимаю с оглядкой, особенно если они связаны с железом.
Жизнь шла, фокусу дяди Аркани я научился, но и чего боится мой сосед, тоже узнал. А боялся он собственной жены, чернявой цыганистой Галки-комендантши. Девчонки из женского общежития звали ее «Наполеон в юбке». Как только этот кряжистый, тяжело шагающий русый мужик приходил домой навеселе, поднаторевшая в сварах в своем общежитии Галка так верещала за стенкой, так невыносимо пронзительно орала «Убивец!», «Душегуб!» и, кидаясь на мужа с кулаками, так дико визжала, что мы с дружками, сидевшими у меня, дружно вставали и шли дышать свежим воздухом.
Моя мать, не выдержав, бежала, в который раз, спасать «убиваемую» «душегубом» Галку.
Детей у комендантши не было, и весь свой нерастраченный воспитательский пыл она отдавала днем общежитию, а вечерами «Незабвенному Аркаше».
Как-то раз я тоже попал в ее сети.
Однажды, когда за окном серел вечер не начавшейся еще весны, я мирно сидел на одной из коечек, заправленных темно-синим солдатским одеялом, и что-то, видимо, очень страстное говорил свернувшейся на одеяле калачиком девушке. В другом углу, уютно устроившись на широком подоконнике, умудренные опытом тридцатилетние матроны, пострадавшие на большой земле от пристрастия к красивой жизни, разводили в литровой банке из-под маринованных огурчиков «тройной» одеколон.
В момент наивысшего напряжения, когда я уже совсем близко склонился к уху подружки, в дальнем углу послышалось характерное как при полоскании горла бульканье, дверь с грохотом отворилась и в комнату, словно посланная грешникам в наказание шаровая молния, влетела Галина Игнатьевна.
Что там было, передать невозможно. Комендантша, дав всем нахлобучку (если все, что она за час с лишним провопила без отдыха по адресу присутствующих, можно назвать таким безобидным словом), пригласила меня в свой личный кабинет. Там в тесной комнатушке со списанным старо-канцелярским столом и тремя шатающимися стульями она милостливо сообщила мне, что не скажет о моем присутствии «в этом ужасном месте ни матери, ни общественности». Я вздохнул облегченно, а она добавила, что это только при условии, если буду сообщать ей, если увижу, где ее Аркадий Семенович выпивает и с кем. «Если замешана женщина», то я должен был сделать это немедленно.
Я испугался матери больше, чем общественности, и сдался на милость победительницы.
Назавтра сидел на наковальне и рассказывал все соседу. Он меня жалел. Потом мы нашли выход. Я сообщал яростной комендантше о своих подозрениях в дни, когда главный механик оставлял кузнеца для выполнения срочных заказов. Тигрица бежала в кузню, но, встретив покорно-торжествующий взгляд мужа, трусливо удалялась, с трезвым она не связывалась.
Так прошло месяца два, а потом за давностью я простил себе свершенные «злодеяния».
Недавно мать мне написала с помощью грамотной подруги: «Сосед и его жена воспитывают ребенка, взятого из детского дома. У дяди Аркаши побаливает печень, Галина перестала кричать на мужа. Но теперь она бегает целыми днями за парнишкой, даже в школу, и постоянно скандалит с учителями из-за Вовочкиных отметок. «А так мальчик неплохой и веселый, и покладистый».
Каждый новый день не похож на предыдущий.
Вчера работали под землей, в мерзлотнике, перегружали полные рыбой ящики в дальние штольни, где работницы маркируют торцы ящиков. Проведут мягкой кистью по приложенному к доскам трафарету из жести – и готово. На досках написано – откуда, куда и какая рыба в ящике. Тут муксун, красноглазый пыжьян, горбоносый щекур. Коротышка-сырок уложен голова к голове, а хвостами врозь. Там нельма в длинных специально для нее скроенных ящиках – жалко резать такую красавицу. Налимы лежат изогнутыми поленьями, лоснятся жирными боками. Дальше навалом насыпаны в тару толстопузые икряные ерши. Корюшка, селедка или ряпушка как была уложена на ребро вверх спинками одна к другой, так и застыла ледяными плитами. Плиты рассортированы по видам рыбы и уложены по четыре-шесть в каждый ящик. Противни разные, и это создает неудобства при укладке. Зубастые щуки порезаны на круглые цилиндры. Осетры в отдельных нишах-кладовых за мощными замками.
Сколько рыбы за многие годы уплыло, улетело? Сколько осталось на льду, не успели вывезти из-за нехватки техники, из-за ранней весны, просто из-за чьей-то нерасторопности, из-за некоторых странностей ведомственных правил?!
Не раз я наблюдал, как приходили трактора с полными рыбой санями, и рыбнадзор, сделав неожиданные контрольные замеры улова, браковал все пять-семь тонн первоклассной рыбы. Бригадир рыбаков, несчастно глядя на инспектора рыбнадзора, спрашивал: «Так куда мне ее теперь девать? Я же не могу ее обратно в прорубь спустить? И в невод я ее не гоню».
Рыбозавод имел право принять эту рыбу лишь по копеечной цене и соответственно сдать ее дальше за бесценок. Но не хватало морозильных площадей, ни людей для обработки и вывозки стандартной рыбы, и заводское начальство отказывалось от забракованной рыбы. И вот уже тянутся люди с мешками к саням, и бригадир разрешает каждому набирать, сколько унесешь и чего хочешь. Он собирает рубли и полтинники. Мешок – рубль, половина – пятьдесят копеек. Бригада на самообеспечении – есть и пить людям надо, и хотя главная пища рыбака – рыба, нужны еще и масло, сахар, соль, чай, хлеб – всего не перечтешь. За всем этим приехал бригадир. «Рыбнадзор» – свой человек, знает, что режет заработки на корню, но делать нечего, действует он по закону. Он и так старается пореже делать контрольные отборы, но у него тоже есть руководство…
Рыба – главное богатство, главная проблема и, конечно, главная неприятность поселка. То ее не вывезли с рыбацких порядков, и она огромными тухлыми пятнами плавает потом по губе летом. То ее вывезли слишком много и не успевают перерабатывать, и она опять начинает портиться. То ее очень много подготовили к отправке, а навигация задерживается – в мерзлотнике начинает подниматься температура, брикеты тают и расползаются. А если навигация ранняя, то не хватает судов для перевозки. С рефрижераторами вообще плоховато. Вот и подгоняют к пирсу небольшие паузки и укладывают в трюм – ящики с рыбой, а в специальные карманы между обшивкой трюма и бортами – лед. И идет эта посудинка, влекомая тихоходным катеришкой, свои шестьсот километров до рыбкомбината, и не понять, чего она больше везет – рыбы или льда.
Все это богатство нескончаемо, день и ночь везут трактора, впряженные в деревянные сани, подшитые железными подошвами, с дощатыми бортами в полтора человеческих роста. В каждых санях от пяти до семи тонн разномастной рыбы – все зависит от мощности двигателя трактора. А он бедный, кашляя и надрываясь, тянет сани со своим мягким скользким грузом по уже ослабшему, но еще крепкому льду. Весна – самое опасное время для трактористов. Вода накапливается на льду в широкие, на сотни метров разлившиеся лывы, и нужен опытный глаз, чтобы отличить мелкую снеговую воду от настоящих глубоких разводин, появившихся от перепада температуры между днем и ночью. В это время, по инструкции, выпущенной главным инженером, кабины должны быть с кошмой вместо двери.
Главный инженер, если встречается трактор с дверями, бледнеет. Вся его худощавая фигура трясется, он останавливает трактор и не соответствующим его перекошенному лицу тихим голосом приказывает снять дверь здесь же, на месте.
Из-за этого тихого с дребезжанием голоса, при искривленной физиономии, трактористы боятся его больше, чем крикливого матерщинника-завгара. Не попадая отверткой в прорезь винта, нарушитель снимает дверь и смывается вместе с трактором, в который раз размешивая глину на главной улице поселка, превращенной в теплую пору в непроходимое болото. Только на переездах из толстенных плах сухо.
Главный инженер – вообще достопримечательность поселка. Кроме того, что он первый в мире выдумал делать в вечной мерзлоте огромные хранилища, и не только придумал, но и построил первый мерзлотник у нас в поселке, он еще и главный враг поселковской грязи. Переезды через тротуар – его детище. А теперь он предлагает сделать лежневую обводную дорогу вокруг поселка с подъездом к мехцеху и запретить тракторам появляться на улицах. Эта его борьба вызывает глухой ропот трактористов. Они любят подкатывать к самому крыльцу и вообще используют трактор как такси. Не поддерживают главного инженера директор с парторгом. Директору жалко денег на лежневку, а парторг ворчит, что ему не до грязи. Главный раздражается, его трясет, и он цедит сквозь зубы, что «коллеги» – это его любимое слово – не видят дальше своего носа.
– Директор сегодня этот, завтра – другой, – говорит он парторгу. – Им план давай. Мы-то с тобой здесь жить думаем, а в поселке все хуже и хуже. – Говорит он жестко, лицо его пляшет, и парторг скорей переводит разговор на другое.
Инженер человек нервный. Года три назад выгнал из дому родную дочь. Она привела мужа-морячка с проходящего транспорта. И хотя тот оказался не простачком: заканчивает институт инженеров морского транспорта и уже назначен начальником порта, главный не может простить дочери самовольства. У главного инженера домашние ходят по одной половице, все знают свое место и дело.
И все же большинство жителей поселка недолюбливало главного инженера. Он суховат, обращается ко всем подчеркнуто по имени-отчеству, лишних слов не произносит, анекдотов не рассказывает и не слушает Ему никто не осмелится предложить в праздник зайти и пропустить чарочку-другую. У инженера болит желудок и завгар зовет его за глаза «язвенником», но боится еще больше, чем остальные, хотя мужик здоровенный и выпить может много.
Сегодня у бригады тяжелый день. Трактора так и валят. Один за другим они втягивают на эстакады у лабазов сани. В них свежая, даже еще живая, рыба. Нет-нет, да подскочит амфибия, полная груженной навалом, пахнущей свежим огурцом селедки. Ее зюзьгами надо скидать в ящики и снести в лабазы на транспортеры, а те повезут рыбу к сортировочным и разделочным столам. С утра сыро, моросит дождь, и мы все в плащах, натянутых на фуфайки. Ворочаться в такой одежде тяжело, но надо. Бригада разделилась на три звена. Те, кто разгружает амфибии, с ног до головы в мелкой осклизлой чешуе. Селедка хрустит под ногами. Скользко. Вон прихрамывает дед Муленюк: подвернул ногу на рыбешке.
Муленюка все же определили в нашу бригаду. Поначалу я косился на хрыча, но он первым подошел, и теперь один из главных советчиков и дипломатов бригады. Муленюк даже подружился с Гешей-братишкой, заправлявшим его новыми анекдотами. Их дед будет рассказывать пилорамщикам лет пять подряд под мерный шум пил, и те будут грохотать, смеясь не столько над солью анекдота, сколько над необыкновенной речью рассказчика, коверкающего до неузнаваемости новомодные и не совсем понятные ему словечки.
Именно Карпыч командует звеном, расправляющимся с селедкой. Там в основном люди степенные и выдержанные. Да и легче там.
В группе, где работаю сам, командует Прутов.
Вася наверху, на санях:
– Давай, давай! – орет он. – Мать твою разэтак, быстрей!
Мы с ребятами принципиально носим по два ящика за ходку. Длинный наголо бритый мужик без шапки и в расстегнутой телогрейке хрипит:
– По два тягаете? Таскайте, таскайте, может, грамотку дадут.
Сам он тяжело дышит, но, приняв ношу, бежит бегом и много успевает. Васе надоедает его ворчанье:
– Заткнись, Потапов! И ты бы таскал, если бы вчера не надрался. Вот сегодня болеешь маненько, и нечего зло сносить.
Надрывно ревут трактора, со скрежетом втаскивают на эстакаду сани. Трещит и ломается под тяжестью дерево, превращаясь в кучи трухи. У Васи на лбу вздулись вены, он снова кричит: «Наддай, резче! Давай, давай!» С его напарника Игоря Синенко пот течет ручьем, и он время от времени проводит ладонью по лицу сверху вниз, сгоняя капли. Прутов сварливо выговаривает ему насчет «нежного воспитания». Он уже предлагал Игорю снять ватник, но тот отказался.
Воют транспортеры, они перегружены – по два ящика на потоке раньше не бывало. От мощных электромоторов попахивает горелым. Вдоль транспортеров бегают ребята из третьей группы. Здесь полностью молодежь во главе с Витькой. Они снимают ящики и подают их к разделочным столам, где споро мелькают женские руки. Они тут же рассортировывают рыбу, укладывают ее в противни, а те в бунты, засыпаемые льдом, где рыба через сутки станет «готовой продукцией». Обработчицам в путину достается не меньше, чем грузчикам, может, даже больше. Через их руки проходит каждая рыбина, прибывшая с моря.
Перерыв на обед, на полчаса. Домой не идем, решили обедать на месте. Геша уже смотался в мерзлотник, раздобыл парочку мороженых муксунов. Он, видимо, опять нажал на женскую жалостливость. Он у нас сердцеед и умеет подъехать к обработчицам, да и разведенки по нему сохнут. Поэтому за айбатом на строганину всегда посылаем Гешу.
Елецкий сложил из свежих пустых ящиков, перевернув их вверх дном, стол. Геша размахивает своей шляпой и с полупоклоном, паясничая, приглашает:
– Дамы и господа, прошу откушать. Дамы, однако, нас не удостоили, у их свое рандеву.
Синенко достает из-за пазухи чеснок, Муленюк, покряхтев, разворачивает пакет. В нем шматок сала с килограмм:
– Тю, от сердца отрываю, щоб мени…
На столе появляются банки с баклажанной и кабачковой икрой, тут же охотничья закуска. Это скорей заячья закуска, столько намешано здесь капусты с морковью. Прибегает Витька, достает из мешка несколько буханок хлеба. Хлеб свежий, и его теплый дух перебивает все другие запахи и вызывает слюну.
Наконец сели. Едим, вкусно закусывая мягким хлебом ледяные кусочки подсоленной строганины. Потом разделываемся с салом Ивана Карпыча и, доев охотничью капусту, запиваем все чистой студеной водой, зачерпнутой здесь же, из чана. Молодые встают, разминаются и идут перекинуться парой-другой слов с разудалыми вербовками. Мужики же сидят, покуривают, делая вид, что еще не закончили трапезу. Я знаю, в чем дело, и, спохватившись, удаляюсь к ребятам. Как-то без специальной договоренности сложилось, в такие тяжкие дни, когда мы обедаем вместе, мужики, якобы втихаря, выпивают по сто граммов. Как говорит Геша, «для гибкости членов», но не больше. С этим делом покончено было сразу. У нас условие – кто пришел под хмельком, получает прогул, а если не удержался и хлебнул хотя бы за час до конца работы, исключается из наряда на весь день. Первое время доходило до драки, когда мужички, явившись поутру навеселе, пытались тягать меня за воротник. Но потом поняли, что таращить из орбит глаза и рвать на себе рубахи бесполезно – это почти не действовало, да и в ответ, по случаю, можно было схлопотать.
Был случай – новобранцы «забастовали». Они полдня сидели у стены лабаза и зло зыркали на нас, а мы разгружали сани за санями. В конце концов они не выдержали и стали поодиночке отчаливать от стены и помогать нам. Об этом «небывалом инциденте» узнал парторг. Он рвал и метал, грозился всех вывести на чистую воду, но мы так и не сознались в том, что произошло, и в один голос твердили, вопреки «показаниям очевидцев», что мужики приустали, и им дали отдохнуть…
После обеда мужики блестят глазами, становятся до приторности добрыми, меньше ругаются и даже отечески предлагают таскать по одному ящику, чтоб не надорваться…
Всеобщие обеды у нас не часты. Чаще бессемейные ходили в столовку, поставленную на крутом берегу, тут же у пирсов. Иногда кто-нибудь из молодых водил таких, как Прутов, домой, когда видел, что мужик мается и дырявит руками карманы. Иной раз Витька приносил после обеда из пекарни от матери свежий хлеб и оставлял его на ящике. Для виду он отрезал ломоть и себе, но он больше рекламировал хлеб, чем ел его. Это было видно по его круглой, с проявляющимися к апрелю веснушками, физиономии, по его мощному чавканью и по тому, как он уже явно с трудом проглатывал отщипываемые от куска крошки. Те, кто вовремя не поел, раздраженные Витькиными фокусами, тоже принимались за хлеб, и через минуту булки как не бывало…
После обеда опять много работы. Пот ест глаза, рукавицы скользят по ящикам в рыбной слизи, каждый следующий становится все тяжелее. Прутов спрыгивает с очередных очищенных саней, зовет Синенко: «А ну давай, Игореша, помаемся». Он указывает мне и длинному на сани. Мы без слов все поняли. Взбираемся наверх. Поначалу подача ящиков у нас не клеится. Длинный не успевает подходить к очередному, мне приходится дожидаться его. А сам я хлопаю ящик с размаху, не донося его до спины грузчиков. Одни, сцепив зубы, молчат, другие безадресно матерятся. А татарин Сунгатулл Елемесов взрывается и вопит: «Мой спина не весы, твоя зачем хряпает ящиками». Но следующие в очереди за грузом подталкивают его:
– Давай, давай, отчаливай.
Потапов дышит, как запалившаяся лошадь.
– Слышь, Санек, – наконец выдавливает он из себя. Мне удивительно, в его голосе впервые слышатся человеческие нотки. – Ты вот что, не бегай так, я за тобой не успеваю, – сознается он.
Еще через полчаса мы приноравливаемся друг к другу. И уже всем легче, хотя многие по-прежнему костерят в бога и черта.
Прошлой зимой тянули от электростанции новую линию. Влез на столб, а мороз за тридцать, поддает жару. Кричу сверху Брызгину: «Давай плоскогубцы, кусок проволоки». Надо было закрепить на изоляторе натянутый остальными тремя электриками провод. А он в палец толщиной, и держать тридцатиметровый пролет ребятам тяжеловато. Юрка подает на веревочке проволочку. У меня уже руки закоченели, пальцы не гнутся, а надо еще крепить. Спрашиваю: «Где плоскогубцы?» А он – «Сейчас подам». Ух и разнеслось в морозном воздухе, на весь поселок, все, что в эту минуту я думал о Юрке. На улицах никого – все на производстве.
Но недельки через две встречает меня у клуба пожилая учительница, она меня в младших классах учила. И как всегда, то да се, как дела. Отвечаю, все, мол, нормально. А она мне: «Санечка, не думала, что ты умеешь эти слова произносить. Я с малышами у школы гуляла, как услышала, стыдно за тебя стало». Пришлось попросить извинения.
Официально рабочий день уже закончился, а сани все подтаскивают и подтаскивают. Полчаса – и готово, переходим на другие. Полчаса, и эти тоже оттягивает трактор. Бабоньки в лабазах уже не поют и не смеются. Нам тоже не до смеха. Прибегают от Яновичей, договариваемся сходить домой похлебать горяченького, переодеться – и назад. Столовая уже не работает. Делимся на несколько компаний. Веду домой Прутова, Длинного и Лешку из Ярославля. Едим щи из квашеной капусты. Мужики торопятся, обжигаются, им еще надо поспеть переодеться, если, конечно, есть во что. Как бы там ни было – сухие портянки найдутся.
Через час снова на пирсе. Уже восемь вечера. Видно это только по часам, а так, как встала с утра серая неприятная морось, так и стоит. После девяти начал поджимать слабый морозец. Несколько раз уронили ящики, и рыба раскатилась в разные стороны по покрытому тонкой корочкой льда настилу – пришлось собирать.
После одиннадцати прибежала девчонка-мастер и пропищала:
– Все. Больше не разгружайте. Хватит. Женщины устали, идут домой. Ночью по прогнозу – мороз, ничего с рыбой не случится.
Стылая роба шуршит при каждом движении, так и шагаем безмолвно, только шварк-шварк рукав о рукав соседа, шир-шир штанина о штанину. Резиновые сапоги застыли и, как копыта, стучат по подмерзшей грязи.
Вот и дома. Легкий пар идет от подвешенной сушиться над плитой одежды. Пар становится все гуще и гуще, он расходится по комнате, сквозь него тускло светит голая лампочка. Тело наливается горячей истомой, и уже в полусне чувствую, как мать заботливо укрывает меня старым стеганым одеялом.
Ночью мне и моим друзьям ничего не снится. Сны смотреть некогда, утром день снова начнется с работы.
Начало июля. Жизнь на причалах замерла – кончилась весенняя путина, но еще не началась навигация. Все в ожидании первого почтового катера, транспортов с грузами для поселка, первого пассажирского теплохода.
Тундра вся в яркой зелени, и странно видеть в ясный солнечный день необычное сочетание сочной зелени берега, темно-синей воды между берегом и льдом и яркого цвета уходящего, насколько хватит взгляда, белого ледяного поля. Отгромыхала залпами пора охоты на перелетных птиц. Они теперь в гнездах, и в тундре не слышно ни одного звука. Комаров, надоедающих своим гудом, еще нет. Даже собаки перестали лаять и, вывалив языки, лениво лежат на нагретых тротуарах. В тишине гулко и неестественно раздаются голоса рыбообработчиц, убирающих мусор путины с причалов, да дребезжит по неровно набитым доскам настила таратайка Нюрки-водовозки.
Она, увидев меня, милостиво, но не изменяя выражения лица, кивает головой. Высоко поднятой рукой я приветствую эту странную женщину и провожаю ее взглядом.
…Нюрке-водовозке было лет сорок восемь. Она сухая, жилистая и сильная, как, впрочем, многие бабы, вынесшие на себе все тяготы военного тыла. Таскала мешки, катала бревна в штабеля, пилила дрова и за все это имела очень много благодарностей и грамот. Они были разной величины и помещались в рамочках под стеклом, занимая всю стену над двуспальной кроватью с никелированным верхом.
Среди множества рамочек в самом центре висел и выцветший портрет ее первого мужа – мужчины представительного и серьезного, любимого и навсегда потерянного ею в сорок втором. Портрет второго мужа Нюрка не вешала. Мужик он был никчемный – она взяла его себе по бабьей скуке и жалости из бродяжьей публики.
Сын от первого мужа, такой же основательный, как отец, работал на заводе где-то на Урале. Сын от другого – Петька – был балбес лет девятнадцати от роду, похожий лицом и сложением на Нюрку, а характером на своего отца – тряпку.
Нюрка по-своему любила и того и этого сына и, глядя на младшего, все сетовала, что война выбила самостоятельных людей, а им, бабам, пришлось жить с кем попало. Она не называла впрямую, о ком говорила и только кривила лицо.
Нюрка возила воду. Работа была тяжелая, но работали на этом месте одни бабы. Мужики не удерживались – молодые были нежного воспитания, те, что постарше, начинали закладывать за ворот до такой степени, что падали поперек бочки и в таком виде катались по морозу до обморожения конечностей А Нюрка привозила воду, брала свои пятьдесят копеек и ехала дальше. Навозив воды в пекарню, грелась у пышущей жаром печки.
Неразговорчивой Нюрка была до невозможного. Бабы в пекарне, смеясь над ней, говорили: «Вот дал бог – мужик мужиком. Штаны ватные, голос хочь самому директору, сидит сычом. Чего молчит – деньги, что ли, про себя считает? И куда только она их девает? Петька робит – хорошо заколачивает. Алкоголику своему ничего не дает, вечно здесь побирается: «Красависа, налей кружечку браженции, моя мне и пятака не дает…»
До Нюрки доходили эти разговоры, но она швыркнув своим большим простуженным носом, отворачивалась от доставщицы новостей.
Ела она здесь же, в пекарне, доставала кусок черного хлеба, сыпала на него соль и, вприкуску с луковицей завтракала, обедала и ужинала Она никогда не брала в пекарне ни хлеб, ни булку – ничего из того что ей предлагали. Исключением был квас, который пекарские бабы заводили для себя. Зачерпнув в бочонке ковшичком, она запивала свою трапезу.
Однажды, дело было в самом конце декабря, поднялась метель. Она покружила легкой поземкой, затем начала подвывать себе и, наконец, под собственную музыку завертелась в каком то бездумно цыганском танце.
Это был канун Нового года. Люди готовились к встрече праздника.
Пекарня работала на полную мощь, и Нюрка за день ни разу не присела у теплого огонька печки. Бочку за бочкой привозила она воду, а воды все не хватало. Поздним вечером ее попросили съездить в последний раз.
Пурга уже не шутила, но в поселке еще можно было ехать по тусклым пятнам фонарей, несчастно раскачивающихся на покосившихся столбах.
На льду же бухты Нюрка поняла, что дело серьезное и надо поскорей убираться восвояси, однако привычка взяла свое, и она решила доехать до майны и набрать воды.
Прорубь она нашла быстро, но пока черпала воду ковшом, сделанным из ведра и длинной палки, не заметила, как пурга превратилась в жестокий буран.
Морозная буря – страшна особенно на открытом месте. Снег, как наждачной бумагой, дерет замерзшее лицо. Против ветра ни смотреть, ни идти невозможно, а по ветру видна лишь снежная пыль…
Может быть, впервые Нюрка испугалась – она потеряла ориентиры. Но холодный разум все испытавшей женщины заставил ее действовать. Первым делом она вычерпала из бочки воду, потом дотошно проверила крепления оглобель, подтянула гужи, убрала лед из-под хомута и подседельника, протерла тряпкой трущиеся о сбрую места крупа лошади… Еще раз оглядела сани и тронула вожжи.
Лошадь у Нюрки всегда ходила без удил и понимала хозяйку с полуслова. «Нн-о-о… милая», – попросила Нюрка, и они двинулись в свой пятисуточный поход. Всю новогоднюю ночь Нюрка водила лошадь кругами. Но когда сквозь снежную мглу засветился недолгий глазок следующего дня, она опустила руки.
Лошадь встала.
Успокаивая животину и бормоча у уха что-то ласковое, Нюрка выпрягла ее из саней и уложила за бочкой. Потом постелила мешковину, на которой всегда сидела, и легла рядом. Нюрка знала многие премудрости жизни в Заполярье. Знала она и то, что снег, их первый враг, будет другом, когда занесет ее вместе с лошадью…
В поселке водовозки хватились на следующий день. Как бы там ни было, а хлеб нужен и в праздники, но знаменитая Нюрка, возившая воду самому директору рыбозавода (это доверялось лишь самому наиположительнейшему водовозу), вдруг не явилась на работу. Бабы, завидовавшие большим заработкам Нюрки, злорадно хихикали: «Наконец-то и «святая» попалась».
Проходили часы. Отправили к Нюрке посыльных.
Мужа водовозки дома не было, а болевший с похмелья сын заявил, что не видел мать уже два дня. Через полчаса весь поселок знал – Нюрка пропала.
Объявили аврал.
У подружек, таких же сухожильных баб, Нюрки не оказалось. Сбегали на конюшню и увидели, что ни любимой вислобрюхой Нюркиной кобылы, ни саней с ее персональной двухсотпятидесятилитровой бочкой нет на месте. Стало ясно – Нюрка заблудилась в буране.
Итак, шум в поселке усиливался, и, несмотря на буран, было послано несколько поисковых обозов. Через трое суток вернулся последний. Еще через сутки директор рыбозавода доложил в район о пропаже, а пурга все не переставала. И тут, на шестые сутки, в дверь пекарни ввалилась Нюрка. Она в прямом смысле упала через порог, потратив свои последние силы на то, чтобы открыть дверь.






