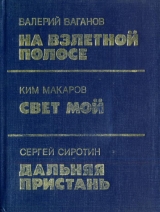
Текст книги "Дальняя пристань"
Автор книги: Сергей Сиротин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Вот мы и на месте. Кругом щепа, кругляки разрезанных бревен, соштабелеванный брус. Сбросили с саней тюки. Грузчики и плотники перемешались, зашли в бытовку погреться, закурили и стали сообща ругать стекловату и вспоминать добрым словом паклю. Грузчики про то, как легко было разгружать бухты с канатами: «Выкатили и готово там, где надо». Плотники – как приятно было, вытряхнув из мешков паклю, раскладывать ее по брусу легко приминая ладонью и не опасаясь, что потом если куда попадет, будешь чесаться, или натрешь где.
Что бы там ни было, а вкалывали грузчики наши здорово.
По итогам навигации бригада стала первой в соревновании с бригадой дяди Яна. Впервые многие из потенциальных прогульщиков стали людьми, принародно награжденными за свой труд грамотами, подарками, и впервой им было слышать о себе от руководства не слова обидной хулы, а благодарности и величание по имени, отчеству, с пожатием руки и уважительным обращением на «вы». К ледоставу уже было ясно, что в поселке появилась еще одна профессиональная бригада. Работы было навалом, поэтому решили оставить на заводе две штатные бригады.
И все же с осени бригада стала заметно редеть. Вернули на электростанцию электриков, в мехцех слесарей. Возвратился к бурильному станку чудак Геша-братишка, досрочно прощенный начальником экспедиции. Ушел в бригаду к Яну Яновичу Вася Прутов. Но оставшиеся мужики, почувствовав свою необходимость, отдавались работе полностью. Одни, словно очнувшись от тяжкого безвременья, теперь вечерами писали письма женам, если те еще не успели отказаться от своих пропавших мужей. Другие стали настраивать нормальную жизнь здесь, на месте. Уже не раз за зарплатой вместе с еще не совсем «завязавшими» мужчинами приходили смущающиеся, но твердые в своей жалости, решающие за двоих, женщины. Получая деньги, они пока отдавали, как некую дань, десятку-другую своим спутникам. Но было понятно, что скоро и это кончится, и вместо подзаборника в поселке появится новоиспеченный семьянин.
Такие семьи живут по-разному, но несмотря ни на что – это семьи, с вечно занятыми, спешащими домой женами и мужиками, умеющими в праздник крепко выпить, «выступить» и повиниться. Эти мужики не желают вспоминать свое иногда еще такое недавнее прошлое и обижаются на того, кто пытается им его напомнить. Такие любят похвастать своими успехами на трудовом поприще и подолгу рассказывают подвыпившему собеседнику, как его ценит и уважает начальство.
Это естественный ход жизни. Именно здесь, на краю земли, человеку в большой мере приходится оценивать свою пригодность и необходимость, потому что иного выхода нет. Рано или поздно, по-своему, но всегда каждый приходит к истинной оценке прожитого.
Лишь только тот, кто находит в себе силы честно, без оговорок, осознать себя, способен начать сначала. А иначе полный и неминуемый моральный крах.
Прошло больше года с тех пор, как наша странная бригада впервые появилась на пирсах и эстакадах порта. Мы отработали уже три путины: две весенних и одну осеннюю, продержались навигацию и вот приближается следующая.
В этом году лед унесло необыкновенно рано, в одну буревую ночь. Конец июня. Легкий ветер чуть-чуть шевелит вывешенные сушиться сети и невода, приносит с моря холодноватую свежесть. Мелкая рябь бежит по воде. Дышится небывало свободно – такое случается только в первые после ухода льда дни, когда вода еще обжигающе-холодна, а воздух уже достаточно нагрет круглосуточным солнцем, тепло и свежо одновременно. Еще не пришел ни один катер, боятся, что задует «Северный» и опять нагонит в губу мощные льды.
Ну вот и все решено – Игорь Синенко, Юрка Брызгин и я собрались учиться дальше, Витьке не до учебы – мать совсем плоха, отец запивается, и на нем остались сестренки и младший брат. Вчера получили расчет, попрощались с бригадой.
Пока за бригадира остался Елецкий Колька, но ему осенью в армию. Как-то, смеясь, Синенко спросил его: «Ты, «тундровой человек», вообще-то собираешься когда-нибудь учиться?» Елецкий помялся и, как всегда не очень охотно, ответил: «Наверное, буду че-нибудь, связанное с промыслом». Коля у нас самый заядлый охотник и вообще любитель шляться с ружьем по болотинам. Этому он приучен с самых малых лет еще дедом. Никто из нас не знает лучше его проходы в болотистых топях, броды в глубоких илистых речках, названия трав, повадки птиц, и, когда мы бываем в тундре, он для нас самый главный авторитет. Всегда неповоротливый, здесь Коля чувствует под ногой каждую кочку, знает наперед, что надо сделать в любую трудную минуту. Елецкий самый местный из всех нас, его дед родился и вырос в Обдорске, а когда капитаны Убекосибири нашли место для нашего поселка, он оказался одним из самых подходящих людей для организации первых факторий.
…До отъезда оставалось всего несколько дней. Колька и Витька взяли отгулы за те несчитанные выходные и вторые смены, что работали в путину. Мы вместе ходим по поселку, навещаем знакомых ребят, останавливаемся и подолгу стоим в некоторых местах, бывших когда-то любимыми уголками нашего детства. Постояли у детсада, посмотрели на резвящихся ребятишек и поболтали с воспитательницами-девчонками из нашей школы, побеседовали степенно с начальником «бондарки» Гребеневым, уже одолевшим строительный техникум, но по-прежнему рассказывающим мальчишкам новых поколений про службу на границе. Дедов-мастеровых уже нет – сидят на полном пенсионе, по ветхости.
Безделье надоело. Хуже нет ожидать без определенного срока. Никто не знает, когда появится почтовик – связи нормальной нет, сплошные помехи. И тут Елецкий предложил сгонять на Юркиной моторке на дальние гусиные поляны.
Речки, что вырезали поселковский мыс, как ломоть, из всей остальной тундры назывались странно и непонятно – одну называли «Пугорчная речка», другую «Радистская речка». По обе стороны поселка, вдоль по побережью, в губу впадало множество речушек, но те, что были севернее, имен вообще не имели, те же, что текли южнее, за Пугорчной назывались по номерам, в порядке отдаленности от жилья, от Первой до Пятой, а за той уже была «Находкинская речка». По ее берегам было построено около тридцати домиков поселка Находка. Он уже несколько лет пустовал, оставленный людьми. Не так еще давно, подростками, мы находили гусиные поляны сразу за речкой Пугорчной и бегали туда на охоту, собравшись компаниями по пять-шесть человек.
Но теперь гусиные стаи, напуганные ревом тракторов и вездеходов, не селились у Пугорчной, а на месте полянок высились огромные баки для хранения бензина, солярки и всего прочего, что сейчас постоянно плыло по речке радужной пленкой от расположившихся на ее берегах гаражей экспедиции. Мы решили съездить на самые дальние поляны, где была охотничья избушка-полуземлянка, ее мы когда-то подремонтировали и в сезон выставляли тут профиля, стреляя, при перелете, клюнувших на обман гусей. Время охоты прошло, и мы взяли с собой крупноячеистую сеточку, думая заварить на месте шикарную уху. Моторка шла в абсолютной тишине, мерно постукивая движком, километрах в пятнадцати от берега, чтобы не наткнуться на мели, далеко заходящие в море. Самого берега видно не было, и только далеко-далеко впереди маячила черная черточка мыса у Четвертой речки.
Предчувствуя, что вот так, все вместе, уже никогда не соберемся, мы наперебой старались заменить друг друга на руле, негромко перебрасывались словами, и совсем не спорили, что было для нас совершенно неестественно. Мыс все приближался, черточка превратилась поначалу в бревно, плавающее у кромки горизонта, а затем выросло в отвесную зелено-белую стену, надвигающуюся на нас. И вот Юрка, отобрав водило у Витьки, сам ввел лодку в устье.
Волна от винта, шумя, набегала на низкие берега, прилизывала траву и выгоняла из затончиков уже гнездующихся уток. Они выплывали и, обнаружив причину беспокойства, с неудовольствием пару раз крякали и вновь прятались в траве. Повернули, вот и знакомый изгиб берега. Пристали, зацепили якорь за мощную корягу, лежавшую здесь много лет и невесть откуда взявшуюся. Дерево у нас не гниет, а становится в воде как камень.
Вдруг не очень далеко раздались выстрелы – один, второй, через интервал – еще два и еще.
– Вроде охота запрещена.
Игореша Синенко ответил:
– Витек, мы с тобой вроде не егеря. Чего волнуешься?
У избушки нас застала еще одна неожиданная новость. У бревенчатой стены, возле входа, стояли две бочки, закрытые грубо сколоченными крышками из нетесаных свежих досок. Игореша стукнул снизу кулаком по краю крышки но она не подалась. Синенко подул на ладонь и явно провоцируя Кольку Елецкого, заявил:
– Во туго сидит, одному не осилить.
– Смотри, как надо! – Елецкий пнул крышку так, что именно каблук сапога зацепил ее за кромку, и она слетела. Любопытный Игореша заглянул в бочку.
– Ух ты?!
Все кинулись к бочке, а Колька так же, как в первый раз, сбил крышку с другой бочки и тоже всмотрелся в ее нутро. Бочки, одна доверху, вторая наполовину были заполнены уже выпотрошенными, без лапок и голов, худосочными гусиными тушками. Они были уложены плотными рядами и пересыпаны дефицитной даже на рыбозаводе кристаллической солью. Не успели мы переварить то, что увидели, как за спиной затарахтел подвесной мотор и рядом с нашей лодкой приткнулась низкая носом вверх байдарка. Из нее выскочил с ружьем в руке известный нам Степа Топляк.
Топляк был еще молодой, лет тридцати пяти, но уже жиреющий мужчина. Появился он у нас с самой первой партией нефтеразведочной экспедиции лет шесть назад. Кем он был по профессии и что делал в нефтеразведке, мы не знали, но почти сразу Степа перешел на службу в Рыбкооп и через некоторое время стал старшим кладовщиком продовольственных складов.
Степан жил без семьи и, как только наступало лето, первым пароходом отправлялся в отпуск в сопровождении нескольких большущих обшитых белым полотном тюков. Чего греха таить, почти все брали с собой и рыбку, и пару шкурок для родных и знакомых, но все это можно было унести в двух руках, а за Топляком его накрепко увязанные тюки несли по двое, а то и по трое мужиков Все мы догадывались, что в багаже и откуда. В месяцы «сухого закона», измученные ожиданием нового завоза крепких напитков, охотники за бутылку водки предлагали песца или чернобурку, если же были навеселе, то отдавали обе зараз. Бригадиры привозили с рыбацких порядков прямо Степе на квартиру сложенных, как бревнышки, мороженых осетров, которых уже лет десять нельзя было ловить – все лишь для того, чтобы порадовать бригаду, там на холоде, ящичком белоголовой.
– А-а-а, друзья-приятели! – словно обрадовавшись, подбежал Топляк. – Давайте к нашему шалашу, чем богаты – тем и рады!
Елецкий передернул плечами, словно сбрасывая оцепенение, и шагнул навстречу Топляку.
– Во-первых, шалаш не твой! А во-вторых, – Колька сорвался на крик, – ты что же, гадина, делаешь?!
Степа скомкал улыбочку:
– А вы, товарищ Елецкий, что, в охотнадзоре состоите или сами в это времечко ружьишком не балуетесь?
– Балуюсь!!! – заревел Колька.
Я никогда не видел вечно обветренного до черноты Елецкого таким бледным. Губы его дрожали, и он в волнении помогал руками, беспорядочно махая кулаками перед вечно красной физиономией Степы.
Меня поразили глаза услужливого и уступчивого тихони Топляка – они светились такой злобой, что я стал незаметно заходить сбоку.
– Чего разорался, щенок? Иди-иди, жалуйся! Тебе больше всех надо, вечно лезете не в свои дела…
Это уже относилось ко всем нам. Елецкий рванул резинку ворота толстого свитера, но она, на мгновение отпустив перехваченное жаром горло, хлопнула Кольку по кадыку. Елецкий заперхал:
– Т-т-ты! Т-т-ты, – он заикался, – т-т-такие, как ты, стреляют по фотографиям на кладбище! Такие, как ты, после себя ничего не оставляют – все испоганят, изомнут! Ты, «халей», сбежишь отсюда, когда нахапаешь, если тебя не посадят А я, а мне здесь оставаться…
– А ну, стой, – взвизгнул тот тонко. – Пристрелю, молокосос!
Но за спиной у Топляка вырос Синенко, а Витька кинулся к Кольке. Елецкий так оттолкнул Витьку, что он отлетел в сторону и, рванувшись еще на шаг, схватил ружье за дуло, выдернул его у Топляка, механически выбросил из патронника гильзы и с таким остервенением саданул им об острый, резанный сваркой край бочки, что ложе с треском разлетелось в мелкие щепки, а цевье отскочило на несколько метров. Он еще раз хватил ружьем по бочке и далеко отбросил погнутый ствол с остатками механизма.
Топляк побежал к байдарке. Прыгнув в нее, оттолкнулся багром от суши и трясущимися руками стал заводить мотор. Подвеска чихала и никак не хотела заводиться, а Степа все дергал и дергал тросик стартера. Игореша поднял брошенную Колькой тушку гуся и с криком «Возьми на суп, бедняга!» кинул ее в байдарку.
Под командой Кольки Елецкого, чуть-чуть уже пришедшего в себя, мы подкатили бочки к берегу и столкнули их в темную глубину. Потом Колька вынес из землянки почти полный мешок соли и высыпал соль в воду…
В этот день, расстроенные стычкой с Топляком, мы так и не порыбачили. Лежали на мягком, пряно пахнущем мхе, каждый думал о том, что мы видели, о том, что выплеснулось из нашего покладистого и спокойного друга. Мы, наконец, начинали постигать смысл случившегося сегодня. И нам не хотелось верить, что когда-нибудь и эти гусиные поляны, как и те, между речками Пугорчной и Первой, превратятся в безобразные глинистые пустыни, искореженные гусеницами, где из песка торчат скрюченные трубы и искромсанные доски, где, стальными игольчатыми цветами, растут размочаленные в махры обрывки тросов, где в заливчиках у берегов ржавеют кучи наваленного металла, а по воде расходятся синюшные круги, затягивая речку сплошной масляной пленкой. И тогда, кричи не кричи, ничем не поможешь.
Мы верили в нашего друга и желали ему всяческого добра и побед над всевозможными топляками, прибитыми разными ветрами к нашему далекому берегу, ведь мы прощались с ним, а Колька оставался…
Итак, я уезжаю. Катер-почтовик, готовый к отплытию, покачивается под ногами. Стоит синий, с ветерком, августовский полдень. Еще никто не знает, что он не повторится. Мне кажется – время так и замрет на радостном моменте расставания, между юностью и всей дальнейшей жизнью. И всегда будет длиться новизна этого полдня, с качающимися на ленивой волне чайками и серебряными стрелками рыбешек в прозрачной воде. Будет мать, с заплаканными глазами, повторяющая: «Сынок, не груби старшим, не груби».
Мне было стыдно за себя, рядом с матерью стояли мои друзья-приятели. С ними я рос, учился, узнавал окружающий нас просторный мир. В толпе людей, стоящих на пирсе, нет ни одного незнакомого – всех я знаю, все знают меня и желают только добра. Это я знал точно.
Завыла сирена, дежурный матрос убрал сходни. Концы отданы. Катер, застучав мотором, отвалил от причала.
Послышались одинокие крики последних напутствий. За шумом двигателя, воды, бегущей из-под винта, уже ничего нельзя разобрать. Но еще долго было видно, как люди на берегу что-то кричат и машут руками.
Впервые стало не по себе от каких-то еще слабых предчувствий. Быть может, впервые пришли мысли о невозвратности всего происходящего. Чайки с протяжными стонами взлетели перед катером и, плавно кружа на своих острых крыльях, поднялись над пристанью.
На уху
Мы долго плыли вниз по сибирским рекам. Сначала по Иртышу, казалось, поскребывая бортами по измочаленным механической откатной волной глинистым берегам. Потом река стала темнеть и из мутно-желтой превратилась в мутно-коричневую и, наконец, у Тобольска, потемнела до черной. Но вот, недалеко от Ханты-Мансийска, чуть-чуть севернее, темная с белесыми пятнами от поднятого винтами ила вода влилась в глубокую синеву – и в этом слиянии далеко-далеко разбежались берега. Иртыш вместе с теплоходом втек в Обь, и наутро уже зеленовато-солнечная вода откатывалась под напором белоснежного носа теплохода. Еще дальше, после совсем, казалось, близко придвинувшихся к реке остро ограненных отрогов Полярного Урала, плясали стальные волны Обской губы, и на их разогнавшихся по мелководью от берега жестких гребнях качало до неприятностей. Но вот волна присмирела на глубине и уже ровным чешуйчатым валом плавно поднимала и опускала сухогруз, на который мы пересели в Салехарде. По этому убаюкиванию я знал – до родного дома осталось всего семь-восемь часов хода.
Утро застало нас в бухте. Сусальное золото, разлитое по штилевой глади, дымка, одновременно и прячущая, и как-то ярче очерчивающая большое: суда на рейде, узкие косы, отмелями перегораживающие вход в бухту, далекий поселок, приподнятый на прибрежном накате, набитом тысячелетними приливами, – все это – романтическая реальность северного приморья на протяжении от Ямала до Таймыра. Иногда и на большом равнинном озере можно увидеть подобное, на несколько минут задохнуться от огромности и красоты мира, но это, если оказаться на нем в тишине и безлюдии самой ранней стадии утра, когда зоревая дымка только-только приподнялась над горизонтом, окрасив воду и небо в розовые цвета молодости.
Картину портили только комары, уже налетевшие и безжалостно жалившие, не признавая никаких законов землячества. На сухогрузе все, кроме вахтенных, спали. Мои тоже посыпали в каюте, милостиво освобожденной нам по распоряжению капитана. Спал и поселок, хотя над ним стояло, вернее, ходило по спиральным кругам незакатное солнце полярного лета. Я так и провел остаток ночи на палубе, то яростно воюя с комарами, то закемаривая на чугунном кнехте, после того, как завернулся в плащ-куртку и затянул наглухо капюшон. Я смотрел на желтый неровный, словно мелко измятая, поставленная на ребро лента, берег, и в груди тихо-тихо прищемливало приглушенно приятной, но все же болью. Я узнавал крыши, облазенные когда-то с риском для шеи и еще одного места, если поймают. Мне даже показалось, что разглядел скат своего дома. Я живо представил мать, одинокую, постаревшую, укладывающуюся на свою панцирную кровать, других она так и не признала, на свою толстенную упругую перину из пера добытой братом на охоте птицы. Как она, мучимая бессонницей и ожиданием, вглядывается в наши знакомые, но уже отдаленные временем и от карточки к карточке изменяющиеся лица, а они, бесстрастно и всегда с одним и тем же выражением, глядят из-за стекла большой рамы на прикроватной стене.
Несмотря на все мои внутренние просьбы и мольбы, поселок спал. Спали причалы, дремали разномастные катеришки, даже не покачиваясь на ровной воде. Халеи – эти вечные любители поглазеть и поживиться возле вновь прибывшего судна – и те куда-то задевались. Дрых и брат – иначе он был бы тут как тут на своей быстроходной «Казанке», любимой и холимой им ничуть не меньше, чем в иных краях легковой автомобиль. К тому же на легковушке здесь не разбежишься – от «лужи» до «лужи» всего-то два-три десятка метров сухого пространства, а за поселком и вообще болото. Зато хорошая лодка с мощным мотором, да еще с удобствами – это уже средство и для рыбалки, и для выпендража. Знакомых женщин здесь катают тоже на лодках – словом, все, как везде. И вот теперь, в утро перед понедельником – ни тебе любопытных, ни катающихся…
А солнце, взбираясь выше, цепляло своими лучами спящих, будя тех, кому было вставать. Первыми проснулись халеи. Они прилетели и, гортанно покрикивая, стали гоняться друг за дружкой, выдирая из глоток отходы, выплеснутые за борт из окна камбуза поварихой. Хотя, по морской традиции, эту полную, еще молодую женщину команда звала коком. Через пару часов, разогреваясь, застучал на всю округу двигатель электростанции, возвещая о наступлении рабочего утра. Ну, а когда над пирсом вдруг дернул своей жирафьей шеей кран и расходившемуся не на шутку главному дизелю поселка стал весело подстукивать мотор дежурного катерка, оторвавшегося от причальной стенки, пришел и мой черед обрадоваться предстоящему дню. Точно, чутье не подвело – катер, отражаясь стуком в пространстве, а черно-серым корпусом в воде, шел к нам. Я разбудил своих и, с непонятным сыну восхищением, рассказал ему про бухту, про халеев и катера, на которые он уже насмотрелся за время плавания, на всю последующую жизнь. Катер сделал как бы круг почета вокруг сухогруза и начал поджиматься к нашему борту. Еще не передали чалку, а с него кричат мне: «Ого, наконец-то приехал», – и не дожидаясь, когда переберусь на катер, сообщали новости о друзьях – кто здесь, на месте, кто в отпуске, а кто и вообще убыл в иные «лучшие» дали. В ответ я кричал, кого привез с собой и сколько пробуду дома. Когда бросили трапик – доску с набитыми поперек брусками – и успели хмыкнуть над женой, обутой в босоножки на высоком каблуке, все уже было известно мне и понятно им. Дочку с сыном забрали в рубку и около получаса они испытывали верх блаженства, держась вместе с дядей Васей за большие рога деревянного полированного штурвала.
Вот и я дома. Под ногами черная, по щиколотку, пыль – время разгрузок, а уголь – это энергия и жизнь на зиму. Правда, весь Союз знает о газовом крае, и при чем здесь теперь уголь, мне тоже как-то не очень понятно. Я спросил об этом школьного товарища, выскочившего из «Беларуси» с тележкой, поставленной под загрузку. На мои слова он только кривовато усмехнулся и проронил: «Газетки читаете?» И я не знал, что сказать дальше. А ведь верно, читаю: и про газ, и про романтиков, и про новые города, все описывается с массой цифр и взахлеб. Чемоданы наши уже несут, а на соседнем пирсе, на расстоянии крика, вразвалку, впереди своих мужиков из бригады, в ветровке, американских джинсах, наконец-то используемых по назначению, и домашних тапочках на босу ногу, идет мой младший братишка, брат – здоровенный парень с обветренным до загара лицом, простым и резко высеченным. Тяжелый физический труд грузчика не оставляет в человеке лишнего. И только при близком общении в глазах можно рассмотреть те особые черточки, что отделяют людей друг от друга, делают их такими разными. Кричу: «Ми-ша-а-а! Мишка-а-а!! Михаи-и-ил!!!» Парень приостановился, его словно за полу придержали, повернулся на голос, замахал руками над головой и побежал назад. Я видел, как сбились с ноги, потом сгрудились в кучу остальные, некоторые повернулись в нашу сторону и тоже поприветствовали нас поднятой рукой – эти меня знают, а потом чинно, неторопливо пошагали к головке причала, где, чуть-чуть возвышаясь над водой, сидел груженный под завязку понтон. Шла не бригада – шло само достоинство рабочего человека, сознающего, что вот сейчас, своими руками разгрузит этот понтон, вон ту баржу, подошедший сухогруз и еще много-много больших и малых судов за короткий срок навигации, и именно он, а никто другой, даст поселку все необходимое на долгую холодную зиму.
Прошло несколько суматошных дней радости и встреч. И вот, после недолгих переговоров с ребятами, которым было уже за тридцать, решили съездить за рыбкой, на уху. Особенно радовался сынишка – он голосил: «Поедем! Поедем!» – подпрыгивал, топал ногами, словом, выказывал счастье современного городского мальчишки. Вечером я в новенькой штормовке, в братниных запасных болотных сапогах, сопровождаемый сыном, появился на берегу. Гошка, один из стародавних друзей, указал на лодку, ближе других болтающуюся с задранным подвесным мотором на слабом прибое: «Вон та, моя. На ней и двинемся». Спустились под берег. Откинув выцветший до белизны брезент, Гошка уставил палец на большую сырую от недавнего лова сетчатую кочку, уложенную на разрезанный ковриком огромный канадский мешок:
– Бери за тот край, поволокем вниз. Ты уж, наверное, отвык от тяжестей?
Мы стащили невод по пологому, изрезанному талыми потоками, травянистому склону и, пробредя метров ста до «Казанки», осторожно уложили его в корму. С моря показалась еще одна лодка и, на малом ходу, вспенивая и мешая воду с песком, подъехала к нам. Сынишка перебрался к брату. Уложили припасы, устроились сами, Гоша дернул шнур стартера, и ветер свистнул в уши, а в поясницу стало отдавать от ударов днища о верхушки волн, не хуже чем в машине на плохой дороге. Шли против ветра в сторону Марсалинского маяка. Было время отлива. Впереди стали хорошо различимы очертания морских трубовозов, они привозили северным путем трубы для всей Тюменщины и здесь, на траверзе поселка, сгружали их на речные суда, уходящие вверх по губе и Оби на тысячи километров. Так вот, только тогда, когда очертания транспортов стали четкими, лодки повернули обратно к берегу. Этот маневр нужен был для того, чтобы объехать северную косу. Иначе ее не преодолеть – десятки квадратных километров водной глади лишь чуть прикрывают песчаное дно, и если во время мощных весенних и осенних приливов еще можно проскочить поближе, то в июле судьбу лучше не испытывать, чтобы не толкать потом тяжелую лодку многие километры по скрипучему засасывающему песку И ребята не рисковали. Гошка вел моторку ровно, а брат, скалясь и махая свободной рукой, лихачил, бросая свою «Казанку» то вправо, то опять к нам, влево, качал нас на своей волне, проскакивал в полуметре от нашего борта и кричал: «Ну, как, братан, нормально!!» Я кивал, хотя шутки его вызывали у меня сердцебиение, так как рядом с Мишкой сидел мой сын. Но тот тоже хохотал и, обдаваемый брызгами, подначивал дядю: «Дядь Мишь, давай их обольем». И дядя, круто меняя направление, поливал нас веером летящей из-под винта воды. Словом, экипаж у них был несерьезный. Берег, раньше утерянный из виду, теперь опять приближался. Поначалу он стал тоненькой черточкой, потом вырос в небольшой барьерчик, а еще через минут двадцать превратился в высокий желто-зеленый, местами обрывистый яр, который все приближался и приближался, однако был намного дальше, чем сочная густая кайма поймы, надвигавшаяся на нас. Неожиданно махровый бордюр расступился, и лодка плавно вошла в речку Хабиди-Яха. У изъеденного течением берега причалили. Теперь надо ждать момента прилива, когда речка, под напором быстро прибывающей с моря воды, как бы потечет вспять, то есть она не совсем будет иметь противоположное течение, а именно два разнонаправленных потока – один, верхний, потечет в сторону истока, а нижний по-прежнему будет пробивать себе дорогу к морю.
Гошка в накомарнике, остальные отмахиваются от немногих из-за ветра, но все же надоедливых комаров. Вот он присел на корточки, достал из коробка спичку и положил ее в воду. Спичка постояла на месте, словно укрепленная на донном грузике, потом нерешительно и медленно поплыла вверх по речке.
– Пора. Эй, вы, городские, – это он так меня с сыном величал, в лодку! – И опять мне: – Ты – на веслах! Не забыл еще?!
– Да нет.
– Тогда давай двигай!
Гошка выложил подсохший на ветру невод на клеенку, расстеленную на плоском носу лодки, досадливо побубнил, отцепляя ячею от защелки лючка, и встал туда же. Подвесной мотор и сынишка возле него, посаженный для равновесия, задрались под тяжестью рыбака и его орудия лова. Он махнул мне, мол, греби, а Мишке кинул конец длинной капроновой веревки:
– Держи!
Я стал грести. Лодка должна была двигаться задом наперед и подавалась тяжело – усеченную корму тормозило приливное течение. Ветерок, казавшийся благом на берегу, превратился в неодолимую силу. Спина взмокла, стекла очков запотели, дужки соскальзывали с ушей, и очки сползали с носа. Пытаясь их поправить, я отпускал весла, и лодка вставала поперек реки. Гошка ругался, иногда даже очень крепко. Но вот дотянули до осок, густо проросших на болотистом берегу. Кулички засуетились, забегали, засвистели отрывистым посвистом: чьюйко при! чьюйко при! Казалось, они кричат: «Чего пришли, чего пришли!»
– Держись ближе! – почти рычит Гошка, в жизни добрый и мягкий человек, обычно улыбчивый и немногословный. В свои далеко за тридцать сохранивший юношескую красоту. Только несколько морщинок, тянущихся от глаз к вискам, указывают на истинный возраст. Войдя в ритм, цепляя веслами траву, а ртом воздух, я все же греб уже ровнее, без толчков и дерганий, от которых Гошка раз чуть не свалился в маслянисто поблескивающую на закатном солнце воду. Это вообще искусство – стоять на мокрой утлой поверхности и, балансируя корпусом, аккуратно, чтоб не запутать ячею, по отдельности опуская поплавки и грузики, выставлять невод. Еще гребок, еще один, еще и еще – вот мы снова на Мишкиной стороне речки. Невода на лодке уже нет, а в руках у Гошки моток толстого шнура.
– Чаще! Скорей! – командует он.
Лодка ткнулась в песок, а по речке, дугой, от берега до берега, цветут белые пенопластовые балберы – поплавки.
– Тяни, Мишка! Тащи!!
Брат, перебирая веревку, потянул. Гошка спрыгнул на траву и тоже быстро-быстро стал подтягивать свой край невода. И тут же мне:
– Брось лодку! Выбирай подбору!
Подбора – это та же веревка, но только продернутая на нижний срез невода. К ней же привязаны грузила – небольшие, с кулак, красно-кирпичные ядра, с двумя дырками, на манер пуговицы. За них и привязываются грузила к подборе тонкими крепкими бечевками. Брат, подтягивая свой край, приближался к нам все ближе и ближе. Он выбирает сразу и верх и подбору, но его работа не главная, основной выбор невода ведем мы с Гошкой. Вот Мишка уже возле нас, и тогда Гошка просит сынишку:
– А ну, Боря, сумеешь, как папа!?
– Сумею! – обрадовался сын доверию. Он набрал в сапоги, но рад стараться, как-никак взрослые поручили ему такое серьезное дело. Невода осталось всего метров двадцать, вода в конце полукружья из поплавков стала побурливать. Гошка повернул лицо, красное от натуги, к брату:
– А ну, пугнем! – И они начали шлепать верхней веревкой по воде, отгоняя вглубь ищущую выхода из западни рыбу Вода теперь кипела от множества хвостов, бьющих у поверхности.
– Эхма, есть уловчик! – радовался Гошка.
Брат вторил ему: – Нельмушку бы?!
– Да, не помешало бы для туристов. А по нам лучше муксунчика – для копченки мило дело.
– А и щекурок с пыжьянчиком сойдут. Как думаешь? – откликается брат.
– Сойдут, – подтверждает Гошка. – Тащи!
У наших ног горки темно-коричневой сетчатки, кое-где в ней водоросли, их потом предстоит тщательно выбрать, иначе потом гнилостный запах будет отпугивать рыбу.
Вышла мотня – длинный сетчатый мешок, расширяющийся к основанию, с маленьким иллюминатором-отверстием. А там, в ней, бьется множество рыбы, сверкающей блестящими боками разных оттенков. Сын бросил подбору и заревел.
– Ты чего разнюнился? – спрашивает Гошка.
– Укололся-а-а!
Гошка предупреждает:
– Осторожно, робя, ерши пошли, а чтоб вас, – он тоже ожегся.
– Ну, чего ты ревешь, как оглашенный? В какой класс перешел?






