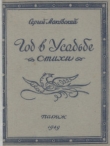Собрание стихотворений

Текст книги "Собрание стихотворений"
Автор книги: Сергей Маковский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
«Спеши, душа! Уж близок перелёт…»
Стонет ночь, куда-то манит,
вся слезами исходя,
в окна мелко барабанит
дробь осеннего дождя.
Стонет ночь о неизбывном,
нерушимом в мире зле,
о каком-то счастье дивном,
недоступном на земле, —
о далёком, безвозвратном,
где-то бывшем так давно,
что на языке понятном
не расскажешь всё равно…
«О, мир двоящийся, мир отражений…»
Спеши, душа! Уж близок перелёт
в иную, призрачную землю.
О, птица вольная! За годом год
она слышней зовёт, зовёт —
а я всё тише внемлю.
О, птица певчая! Прилежней пой
о том, что было недопето.
Любовь и боль и смертный ужас твой
никто не допоёт другой,
а важно только это…
Гр. П. А. Бобринскому
Нищий («В городском саду за рекой…»)
О, мир двоящийся, мир отражений
в лазури озера пылающий закат,
час невозвратности и вечных возвращений,
вечерней памяти благословенный яд.
Две глуби сонные. Какой – поверим?
Где загорелся луч непризрачной звезды?
Зарю небесную озёрный манит терем,
подводные леса – как райские сады.
И ближе ночь. Гореть заря устанет,
растают в сумраке прибрежные холмы,
и дымный Серафим с мечом на страже станет
непостижимости, молчания и тьмы.
«Когда в тебя толпой ворвутся…»
В городском саду за рекой,
под каштанами, день-деньской
старый нищий сидел на пне,
всякий раз попадался мне.
Всякий раз минувшей зимой,
через сад проходя домой,
десять су я совал ему
в утешительную суму.
Он был очень убог и тощ, —
на посту и в холод и в дождь,
как заморщенный серый гриб,
к придорожной траве прилип.
Всё о чём-то просил старик,
но в его слова я не вник;
что-то шамкал беззубый рот,
да понять я не мог весь год.
А недавно я мимо брёл,
никого в саду не нашёл, —
только пень торчал сиротой
над примятой слегка травой.
И с тех пор, уж не первый день,
мне мерещится этот пень,
и на сердце комом тоска.
Видно, я любил старика.
1946
Восток («Две истины, два Бога-Света…»)
Когда в тебя толпой ворвутся
слова, которых ты не ждал,
и звуки спящие проснуться,
которых ты не пробуждал;
когда на землю с безучастьем
вдруг взглянешь, и во тьме души
повеет холодом и счастьем, —
тогда забудь себя, спеши,
спеши облечь мгновенный трепет
в сияющие ризы слов,
души волшебной слушай лепет,
журчанье тайных родников…
«Ах, эти горы! По утрам…»
Две истины, два Бога-Света
в душе, раздвоенной навек,
два мира чуждых и завета —
тебе заблудший человек!
«Увы, – гласит завет Востока, —
всё в жизни тлен, земля и твердь.
Смирись, пловец, в пучине рока,
обманна явь, блаженна смерть».
И голос Запада хвалебный:
«Целуй земные алтари,
избранник вечности волшебной, —
борись, роскошествуй, гори!»
Когда же, Господи-Владыко,
Ты просветишь немудрых чад,
и люди мудрости великой
Твои пути соединят?
Отчизна милая, не ты ли,
отвергнув полуправды ложь,
дерзаньем праведных усилий
две истины в одну сольёшь?
О, этот юг!
Тютчев
Певица («В четверг под моё окно…»)
А х, эти горы! По утрам,
чуть свет, какие озаренья!
Молюсь нагорным алтарям —
и мира непорочен храм,
как в утро первое творенья.
Ах, улететь бы в эту высь
от тьмы, от ужаса земного —
туда, где горы вознеслись
и с бесконечностью слились
пучины неба голубого.
Ах, раствориться в этой мгле,
пронизанной его сияньем,
не помнить о добре и зле,
не быть собою на земле —
быть только светом и мерцаньем…
«Все слезы к старости да сны воспоминанья…»
В четверг под моё окно
приходит женщина петь.
Пусть ей-то уж всё равно,
да жуть на неё смотреть.
Во взоре не то вопрос,
не то, как ножом, печаль,
и грязная прядь волос
бахромкой седой – на шаль.
А песню поёт она
такую – хоть плачь навзрыд,
всю душу мою до дна
призывной тоской пронзит.
Любого греха страшней,
нельзя никому простить.
И хочется крикнуть ей:
Неправда, не может быть!
«Судьбы перехитрить не пробуя…»
Все слезы к старости да сны воспоминанья,
душа утихшая – как озера вода
в предсумеречный час, когда своё мерцанье
отдаст ей нехотя вечерняя звезда.
Померк усталый день, а всё – воды зеркальной
не гаснет глубина: в лазури озерной,
покинув небеса, клубится остров дальний
и озаряется последней тишиной.
«Полжизни душно-плотской яви…»
Судьбы перехитрить не пробуя,
Смири свой дух – и плоть, и страсть.
Нет, человеческою злобою
Суровых будней не заклясть.
Заботой сердце перегружено.
Хоть любит, любит, а больно.
Гитара старая простужена,
Хрипит и кашляет смешно.
Но ржавых струн не перетягивай.
Пусть фальшь. Далеко ль до беды?
Терпи и бережно потрагивай
Закоченелые лады.
Так, ты жилица двух миров…
Тютчев
«Мне снилось, будто умираю…»
Полжизни душно-плотской яви
и недостойной суеты;
полжизни – сон, и тот же ты
живешь,
томясь в другой державе,
в тоске, в слезах по горней славе
тайноречивой красоты.
В тебе душа как бы двойная:
мятежной гордости полна,
грешнее грешного одна;
другая – о, совсем другая! —
всё шепчет что-то, засыпая.
Проснулась… и не помнит сна.
1948
Венецианские ночи (сонеты)
Мне снилось, будто умираю…
Вот-вот – минута, и уйду,
в последнем страхе замираю,
последнего забвенья жду.
Казалось – кончено… И в муке,
в осиротелом забытьи
к вам я протягиваю руки,
друзья и недруги мои!
Прощайте. Не судите строго
за то, что, сердцем одинок,
любил я многих, но немного
и больше полюбить не мог.
1959
Всю ночь – о, бред! – в серебролунных залах
Венеции я ворожу, колдун.
И дышит мгла отравленных лагун,
и спят дворцы в решетчатых забралах.
Всю ночь внимаю звуков шаг усталых, —
в колодцах улиц камни – как чугун,
и головы отрубленные лун
всплывают вдруг внизу в пустых каналах.
Иду, шатаясь, нелюдим и дик,
упорной страстью растравляю рану
и заклинаю бледную Диану.
А по стенам, подобно великану,
плащом крылатым закрывая лик,
за мною следом лунный мой двойник.
Ленивый плеск, серебряная тишь,
дома – как сны. И отражают воды
повисшие над ними переходы
и вырезы остроконечных ниш.
И кажется, что это длится годы…
То мгла, то свет, – блеснет железо крыш,
и где-то песнь. И водяная мышь
шмыгнет в нору под мраморные своды.
У пристани заветной, не спеша,
в кольцо я продеваю цепь. Гондола,
покачиваясь, дремлет, – чуть дыша
прислушиваюсь: вот, как вздох Эола,
прошелестит во мне ее виола…
и в ожиданье падает душа.
Скеле («Как ты мне дорого, приветное село…»)
Ленивый плеск, серебряная гладь,
дурманы отцветающих магнолий…
Кто перескажет – ночь! – твоих раздолий
и лунных ароматов благодать?
Ночь! Я безумствую, не в силах боле
изнемогающей души унять,
и все, что звуки могут передать,
вверяю – ночь! – разбуженной виоле.
И все, что не сказала б никому —
ночь! – я досказываю в полутьму,
в мерцающую тишину лагуны,
и трепещу, перебирая струны:
вон там, у пристани, любовник юный
взывает – ночь! – к безумью моему.
НАГАРЭЛЬ (Сонеты) Посвящаю памяти Н. С. Гумилева
Как ты мне дорого, приветное село,
Меня пригревшее в ужасную годину,
Когда на всей земле царили смерть и зло,
И я, как родину, обрел твою долину.
Ах, до того в Крыму я прожил целый год,
Не зная о тебе, год гнева, слез и пыток.
Я выпил до конца, скорбя за мой народ,
Обидами людей отравленный напиток.
Все вынес я, всю боль отчаяний земных,
Внимая летописи дел и слов бесславных.
Томился мыслями о милых и чужих,
Постиг терзание, которому нет равных:
Бездействуя, не знать покоя никогда,
Следить внимательно, минута за минутой.
Как в одурманенных сердцах растет вражда
И разгорается междоусобной смутой;
Как подлый торг идет на кладбищах войны,
Как совершается вблизи и там, далеко,
Голгофа жуткая замученной страны,
Немилостивый суд неведомого рока…
Все видеть и молчать. И плакать долгий год
Над тем, что навсегда так горько обмануло,
И ждать: вот и тебя случайно захлестнет
Волна нечистая безумья и разгула…
И я не выдержал томительных обид.
Мне опротивела слепая, злая смута,
И черноморский брег, и Симеиза вид.
И в горы я бежал, в горах ища приюта.
Куда? Не все ль равно! Я шел вперед, вперед,
Под тяжестью сумы моей сгибая спину.
Туда, где не было южнобережных вод,
Через Шайтан-Мердвен, в Байдарскую долину.
Был пасмурный февраль. Всходила чуть трава.
Белели кое-где подснежники лесные.
Пустынный вечер гас и золотил едва
Крутые скаты гор и тучи дождевые.
Местами на камнях весенний таял лед,
И было холодно. Поток шумел в ущелье.
Усталый, раненый всей суетой невзгод,
Не радуясь весне, я брел на новоселье.
Без цели, наугад. Скорей, куда-нибудь!
Дубы корявые, ободранные буки,
Как злые нищие, мне преграждали путь.
Шипы кустарников кололи больно руки.
Все выше, между скал вилась моя тропа.
Вот перевал. И вновь безлюдная дорога.
И снова хмурый лес, и камни, и толпа
Осиротелых пней, черневших так убого.
И вдруг… Передо мной – сияющий простор,
Овеянный живым, волшебно-юным югом,
И в золоте зари – чуть видимый узор
Холмов, раскинутых широким полукругом.
Виденье нежное, обетованный край,
Мечта художника о недоступных странах,
Долина вешняя, прекрасная, как рай,
Как остров сказочный в дымящихся туманах!
Я ахнул… Никогда, нет, никогда во сне
Не грезился мне мир чудесней и безбрежней,
И Божья красота не улыбалась мне
Спокойнее, добрей, блаженней, безмятежней.
И стало так легко. Недавняя печаль
От сердца отлегла. Я вырвался из плена.
И мне мерещились Фра-Анжелико даль,
Закаты Гоццоли и сумерки Пуссена.
Прохладная изба. Широкий, светлый двор.
Колодезь, клумбы роз, табачные сараи.
Соседок за стеной нерусский разговор.
Коровы, овцы, кур звонкоголосых стаи…
Душе все любо здесь, милей день ото дня:
И на окне цветы, и в огороде грядки,
И эта пасека у ветхого плетня,
И песня грустная хозяюшки-солдатки —
Ее рассказ о том, как нынче трудно ей
Управиться одной с работой деревенской,
И выводок ее подростков-дочерей,
Уже пленяющих задумчивостью женской;
Мила и детворы непрошеной гурьба,
Что весело шумит, под окнами играя…
И бедная моя беленая изба
Волшебней для меня дворцов Бахчисарая!
Работой полон день. Везде и млад и стар
В чаирах возится и поливает гряды.
Не умолкает скрип нагруженных можар.
Свершаются труды, как тихие обряды.
Не налюбуешься! Смотрю, дивлюсь, брожу.
Порой направлю путь к Узундже иль Саватке.
Там у татар прием радушный нахожу:
Мне нравятся их быт и гордые повадки.
Люблю и танец их на свадебных пирах,
И верность древнюю гостеприимства праву,
«Селямы» важные и, в сакле, на коврах,
Степенный разговор и кофе – по уставу…
Настанет вечер. Тишь. Кузнечик засверлит.
У завитых плетней – играющие дети.
Задумчивый мазин на минарет спешит.
И молча старики присели у мечети.
Вот жалобно звенят гортанные слова
В вечернем воздухе, протяжные, как стоны.
Им вторит иногда, вдали, едва-едва,
Церковный колокол. И вместе плачут звоны.
А вешняя заря зовет уже ко сну.
Все – в ризах золотых закатного пожара.
И солнце желтое, большое, за волну
Лилово-синих гор садясь, пылает яро.
Все ниже, ниже… Вот в огне его луча
Прощального холмов порозовели склоны.
И гаснут… В сумерках, понурые, мыча
Отрывисто, бредут волы в свои загоны.
И где-то в хуторах, уснувших на реке,
Сторожевые псы залают спозаранок,
И песню заведет татарин вдалеке,
И слышны голоса гуляющих гречанок.
И дружною толпой, окончив страдный день
В окрестных кабаках, работницы-хохлушки
Пройдут по зеленям и, проплывая в тень,
Затянут вольные, знакомые частушки.
И Русью вдруг пахнет, и сердце защемит…
Уйти бы вдаль, туда, туда в поля родные,
Туда, где страда слез кровавых и обид.
О, родина, прости! Воскреснешь ли, Россия?
И наступает ночь. Прохлада, аромат.
Сияет Млечный путь над гребнями опушек.
Трещат кузнечики, и в глушь свою манят
Блуждающие «сплю», призывы совок-сплюшек.
А там опять рассвет и таинство красы,
Которой нет конца, единственное Скеле!
И дни уносятся, как быстрые часы,
Мелькают месяцы, как резвые недели.
Весна давно прошла. Отпели соловьи.
Кукушка милая вдали откуковала.
Повылетали пчел мятежные рои,
И буйной зеленью долина заиграла.
Короче солнца путь, и жарче летний прах.
Ручьи повысохли на дне ущелий сирых.
Черешня дикая поспела на горах,
И яблони цвели и отцвели в чаирах.
Как скоро! Уж в саду румянятся плоды
И пухнет помидор в осеннем огороде.
Желтеют пажити. Огромные скирды
Насупились в лугах… И лето на исходе!
А вот, нахмуренный, и август в дверь стучит
И нерадивого клюкой своей торопит.
Работа сельская еще живей кипит.
Всяк на зиму добро умноженное копит…
Но так же все горят а нежат небеса,
И так же на заре туманы гор колдуют,
И по краям ложбин кудрявятся леса,
И в рощах горлицы без устали воркуют,
Все той же музыки мечтательной полна
Краса осенняя твоих угодий, Скеле, —
И утра благовест, и ночи тишина,
И звоны полудня, и вечера свирели.
И я, под липами, все в том же уголке,
Обласканный теплом природы светозарной,
Внимаю лепет их, качаясь в гамаке,
И строфы дружные слагаю благодарно…
1918
Нет, – больше, сударь! Шестьдесят четыре.
Уже двадцать два – на Флоре капитан.
А раньше: Грек, Меркурий, Океан…
Да старость, ох, не радость в этом мире.
Бессонье, зябь, и голова – чурбан,
а ноги – во! стопудовые гири.
И то сказать: по кругосветной шири
намаялся в ненастье и туман!
Ну, правда, пожил. Sacrament… нехворо.
Где не гулял, что? песен да вина!
Какие женщины! Эх, старина…
Но крепче всех запомнилась одна:
плясунья из таверн Сан-Сальвадора.
Креолка… Нагарэль. Дочь матадора.
Извольте! Расскажу. Хоть забулдыга —
поверьте на слово. Не врал досель.
Что было, сударь, было. Нагарэль…
Оглянешься, и память – словно книга!
Ну-с… В ту пору уж несколько недель,
у Бахии, на палубе Родрига,
испанского сторожевого брига,
я проклинал тропический апрель.
Зной, ливень, штиль. По вечерам из порта —
и музыка, и песни. Как дурак,
ночь напролет стоишь-стоишь у борта,
в мечтах прикидываешь так и сяк,
и отпуска, бывало, ждешь до черта.
Однажды утром… Чокнемся, земляк!
Однажды: «Юнга», слышу голос, «в рубку!»
Бегу. А капитан (старик, добряк
и пьяница, да трезвый не моряк)
глядит хитро, пожевывает трубку.
«Что ж? твой черед!» – и показал на шлюпку.
В порту весь день, из кабака в кабак,
сидел я с матросней, курил табак
и вздрагивал, в окне завидя юбку.
Тогда же под вечер в таверне «Крот»
ее и встретил… Ну, мигнул украдкой.
Пришла, подсела. Черным глазом жжет.
Молчит… И вдруг, змея, прильнула сладко
и на тебе! – целует прямо в рот.
Так началось. А кончилось… не гладко.
Да, началось. На долгую беду.
Не ем, не сплю. Болтаюсь день без толку,
а ночь – скорей на бак: залезу в щелку
и притаюсь, да за борт! Как в бреду.
Плыву, ныряя чайкой, на гряду
горбатых дамб, к рыбачьему поселку,
и там, на отмелях, мою креолку
между сетей и старых тряпок жду.
Частенько – не придет. Плывешь обратно,
и Божий мир не мил. А невдомек,
что девка-то, поди, куда развратна,
в тавернах ночь прогуливает знатно…
Эх, сударь, молодость!.. Жил паренек,
да наскочил, как рыба на крючок.
Влюбился – смерть! Красавица? Нимало.
Жердинка смуглая, пятнадцать лет.
Но взор, повадка, бровь углом… да, нет,
в словах не то. Ну, – бес. А уж плясала!
Сорвется – вихрь, запляшет белый свет.
Плывет, горит! Вот кружится, вот стала,
и – прыг на стол и каблуком удало
отстукивает трели кастаньет.
А то – раздета, бубен, – ишь сноровка!
Танцует голая. И грех и стыд, —
какой любви мужчинам не сулит!
Вся выгнется и грудью шевелит,
и бедрами поводит этак ловко.
Дурная, сударь, – истинно чертовка!
Наш парусник грузился понемногу,
когда задул попутный нам зюйд-вест.
И капитан решил: не медля в Брест.
Для храбрости глотнув маленько грогу,
простился я. Она сняла свой крест
и мне надела с клятвой на дорогу,
а я клялся – себе, и ей, и Богу
вернуться через год из новых мест.
Разбойничьей доверившись примете,
мы снялись в ночь. И долго на рассвете
с брам-реи вдаль смотрел я. Вешним сном
казался порт в тумане золотом:
и отмели, и там – рыбачьи сети
и словно кто-то, машущий платком.
И что же? Ровно через год, в июне,
до одури любовью вдохновен,
покинув бриг у гибралтарских стен,
пришел-таки я в Бахию, на шхуне.
Да, молодость… Чего не дашь взамен!
Как я был горд и счастлив накануне…
А за год-то в моей морской фортуне
произошло немало перемен.
Я прикопил деньжат и стал матросом —
не юнга, чай! – большим, густоволосым
(мне было прозвище «Кудрявый гусь»)
и, кажется, не чересчур курносым.
Я так мечтал: посватаюсь, женюсь
и фермой где-нибудь обзаведусь.
Знакомые места! Живым манером
к отцу, тореро. След простыл. Беда!
Я начал поиски: туда, сюда,
в таверны, к рыбакам, в притон к мегерам…
Один ответ: весной сбежала. Да!
Не то с заезжим русским, офицером,
не то с другим таким же кавалером, —
в Европу, в Азию, невесть куда.
Ах, сударь, тут, уединясь в сторонку,
я понял, что любовь и злость точь-в-точь
похожи… Я любил, любил девчонку,
а в помысле: вот взять бы, истолочь
да в море вышвырнуть, как падаль, прочь!
И кулаком грозился я вдогонку.
Но время лечит все: рубцы от ран,
обиды сердца, медленное горе.
Мою любовь угомонило море,
развеял ветер, усыпил туман.
Не скоро, а забыл, для новых стран
и новых встреч, о днях в Сан-Сальвадоре.
Утешился. Сначала в Балтиморе,
потом – в горах Невады, у гитан…
Из порта в порт, за грузом, без оглядки!
Сегодня Рио, завтра Уругвай.
В Тай-пей чаи, в Гюэ бананы сладки.
На Яве чуть не помер: лихорадки.
Тонул в тайфун, – ну, думаю, прощай!
Бывало тяжело, случалось – рай.
Матросам, сударь, что? И небогаты,
а веселы в свой час. То здесь, то там,
небось, научишься по кабакам
расшвыривать последние дукаты.
Да, времечко! Жилось! Команда – хваты.
И сколько ж их, красавиц, льнуло к нам,
всех званий и пород: марсельских дам,
фузанских гейш, гречанок из Галаты…
У нас, у моряков, особый дар.
Пусть женщины охочи до обновок,
да любят нас, будь только парень ловок,
без умысла: за молодость и жар,
за якоря и золотой загар
и голубой узор татуировок.
Прошло лет шесть… Нет, восемь. Из Босфора
спешили мы в Кале. Как вдруг – норд-ост.
Волна взбесилась: шторм. Не будь так прост,
укрылся я в Лагосе от простора.
На набережной – толпы. Вдоль забора,
смотрю, афиши в человечий рост.
Прочел: «Минерва… кабаре… средь звезд…
мисс Нагарэль, звезда Сан-Сальвадора».
Я обомлел. О, Господи! Пречист…
И слезы, верите ль? Ну, – к черту! Нервы.
Бросаюсь в кассу. «Ряд? – Поближе, первый!»
И ровно в семь, за час, приглажен, чист,
разглядывал я занавес «Минервы»
и зал пустой… а сам дрожал, как лист.
Не рассказать, что было! Ни актрисы,
ни женщины не видел я грехом.
Все – сцена, зал – летело кувырком,
душа – котел, а мысли разбрелись и…
в антракт, собравшись с духом, – за кулисы.
«Что? Узнаешь?» Сначала – нет. Потом:
«Ах, ты?» спросила, «поминаешь злом?»
И выбежала кланяться на бисы.
Я все сказал: «Клялась ты, Нагарэль!
Твой крест на мне… Куда бы ни бросала
меня судьба – в полярную метель
или в грозу тропического шквала,
на всех путях единственная цель
ты, как звезда, передо мной мерцала!»
Стучусь опять, а сердце – хоть умри.
Вот – на! У ней какой-то португалец.
Я замер. «Ну», смеется, «мой скиталец,
коль хочешь, приходи сегодня в три, —
мой адрес – десять, улица Бари»…
И протянула надушенный палец.
Как пьяный, вышел я, смешной страдалец:
«Приду ужо, – ты только отопри!»
Был дождь, и ветер гнул стволы, бушуя,
когда, в кромешной тьме, я подходил
к назначенному дому. У перил
остановился я, беду почуя.
И слышу: песня, смех, звук поцелуя…
Ощупал нож. И в двери. Отворил.
И вот… ее увидел я… раздетой, а рядом
стол, на нем вино, цветы,
и тут же – наглого в шелках тахты,
того сеньора, с длинной сигаретой.
Мне в душу кровь ударила: «Эй, ты!»
Я сшиб его и волю дал кастету.
Искомкал, искромсал всего – в галету!
И шлепнул труп с балкона, в грязь, в кусты.
Затем уж к ней: «Молись!» Хрипит от страху,
проклятая. И вдруг мою наваху
как выдернет, да мне же в щеку: «На!»
Боль чертова. Но ненависть сильна.
Я бросился опять… Кровь… Тишина.
Рука не дрогнула. Я не дал маху.
«О, ты, которой нет…»
Так свой рассказ – мы были в кабачке
обугленного дымом Порт-Саида —
окончил шкипер, сумрачного вида
гигант, с багровым шрамом на щеке.
О, как близка была его обида
мне, грешному! В его седой тоске
печаль всего, что скрылось вдалеке,
вмиг ожила… О, память-Немезида!
Я вспомнил: гавань, парус над волной, —
слепые силы бурного простора
несут его… Все кануло. Так скоро!..
Простила ль ты, бежавшая весной,
ты, Нагарэль, похищенная мной?
Да – мной! Давно… тогда… из Сальвадора.
О, ты, которой нет
и не было на свете,
ты вечности ответ
на зов тысячелетий!
Кто ты над дольней тьмой
небес прообраз нежный,
владычица земной
надежды безнадежной?
Ты – чудо? или бред?
Один Господь рассудит.
О, ты, которой нет
и никогда не будет.