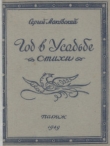Собрание стихотворений

Текст книги "Собрание стихотворений"
Автор книги: Сергей Маковский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
На поляне лесной исполин вековой
одиноко спит,
в мураве молодой на поляне лесной
древний дуб стоит.
Много весен и зим отшумело над ним,
он и хмур и сед;
но стоит невредим всем дубам молодым
старый, старый дед.
Много видел он слез и невзгод перенес
в дни былых годин,
но от ветра и гроз, как гранитный утес,
он не пал один.
Зеленеющий всход на поляне цветет…
Только он поник.
От весны он не ждет ни утех, ни забот:
глух и нем старик.
Меж соседей своих он не видит родных.
Пусть шумит весна!
Он навеки затих, сновидений былых
его грусть полна.
Он грустит о лесах, где в зеленых шатрах
был он – гордый царь,
о могучих дубах, да о тех соловьях,
что певали встарь…
На поляне лесной исполин вековой
смотрит в чуждый бор.
Он поник головой, и грозы роковой
ждет он с давних пор.
Холодное, странное, серое море
мерцает, беззвучно ласкаясь к земле.
Две зори алеют, две бледные зори
в бессветно-серебряной мгле.
И чудится мне, что земля, осыпая
сомкнуть не могла утомленных очей,
и тьма не настала ночная…
И вечер склонился над ней
с улыбкой закатной печали,
и утро, придя из неведомой дали,
не смеет зажечь золотые струи,
любуясь вечернею грустью земли.
И чудится мне – после долгой разлуки
два странника бледных над бездной сошлись,
и взоры их, полные муки,
в одну безначальную думу слились.
И чудится мне – в этом светлом молчаньи
они что-то знают и слышат одни,
и столько тоски в их невольном свиданьи,
что снова не могут расстаться они.
Только небо, только море…
Веет влагой ветер свежий,
еле слышны шумы волн.
В очарованном просторе,
мимо сонных побережий
по волнам скользит мой челн.
И в безлюдии великом
чайки носятся толпою:
то взлетают в высоту,
то над морем реют с криком,
и закатною зарею
золотятся на лету.
Чайки вольные! Любуясь
вашим трепетным полетом
в блеске гаснущего дня,
тайным снам я повинуюсь,
тайным думам и заботам,
овевающим меня!
Беспредельным миром полны
ваши царства: ветер свежий,
дали моря, небеса.
Только тихо ропщут волны,
умирая у прибрежий,
да мелькают паруса,
и, как вы не зная плена,
исчезают без возврата
в зыбких безднах синевы —
тоже белые как пена,
золотые в час заката
и свободные как вы…
Нелюдимо ваше счастье!
Меж утесов одичалых
родились вы и росли.
Вас баюкало ненастье;
сосны хмурые на скалах
ваши гнезда стерегли.
Море – ваш отец могучий,
волны – сестры вам родные.
Все подвластно вам – лазурь,
ветры темные и тучи.
Вы – как вихри грозовые.
В вашем крике – эхо бурь.
Чайки вольные! Скажите
из какой угрюмой дали
вы примчались? Много ль дней,
белокрылые, летите?
Много ль, странствуя, видали
незнакомых кораблей?
Над хребтами волн сердитых
не всплывают ли, как прежде,
в дни Норманнов удалых,
трупы викингов забытых
в окровавленной одежде
и в кольчугах золотых?
Славя подвиги былые,
не кочуют ли толпою
в дальних, северных краях —
их дружины боевые
на украшенных резьбою
темнопарусных ладьях?
И не слышится ль порою
в диком вое урагана,
в песне мирных рыбарей —
голос их, зовущий к бою
из гробницы океана
спящих в нем богатырей?
Грозен пир над морем черным.
Волны ропотом упорным
заглушают голоса.
Ветер гонит их, бушует;
ветер стонами чарует
грозовые небеса.
На призывы непогоды,
с ликованьями свободы,
изо всех подводных нор,
небывалые уроды,
собирая хороводы,
выплывают на простор.
К ним красавицы морские,
нереиды молодые,
на свидание спешат.
Отуманенные влагой,
их глаза горят отвагой,
страстью бледною горят.
Полны неги их извивы;
серебристые оливы —
на зеленой чешуе.
Кудри пышные цветами,
перламутром, жемчугами
разукрасили они.
Ночь звенит от кликов чудных.
Вся в мерцаньях изумрудных
ветром зыблемая мгла.
Нереиды не боятся,
в блеске молний серебрятся
их змеиные тела.
Грозен пир над морем черным.
Волны ропотом упорным
заглушают голоса.
Нереиды не внимают
и смеются, и купают
в белой пене волоса.
Как бледный сапфир в изумрудной оправе,
блестит это озеро между холмами,
хранимое гордыми снами,
мечтами о прожитой славе.
Теперь все окрест и бедно, и уныло,
тенями столетий пустыня объята.
Но было здесь людно когда-то,
и пышно когда-то здесь было.
Вдоль пастбищ, где ныне сереют бурьяны,
сады и чертоги в лазурь возносились;
и там, на холмах, серебрились
священные рощи Дианы.
Когда-то, в тени заповедной дубравы,
на этой давно опустелой вершине,
где камни белеются ныне,
был храм в честь Юпитера-Славы.
Отсюда, как бог в челноке золотистом,
под грозное пенье победных пеанов,
под звоны литавр и тимпанов,
увенчанный лавром душистым,
любимец солдат, победитель, диктатор,
в откинутой гордо назад багрянице,
на белых конях, в колеснице,
к народу спешил триумфатор.
За ним шли патриции в ярких покровах,
сверкали на солнце орлы легионов,
и, молча, без жалоб и стонов,
шли варвары следом, в оковах.
Шумела толпа. И его осыпали
цветами, венками из миртов зеленых,
и девы в прозрачных хитонах
его на пороге встречали…
То было когда-то. Все умерло ныне.
Лишь ты – неизменно, хранимое снами,
ты, озеро между холмами,
ты, зеркало мертвой богини.
Я плыву одиноко в моем челноке,
уношусь незаметно по сонной реке,
и волна мои думы колышет.
Серебрится звучанье невидимых струй.
Беспредельности нежной ночной поцелуй
непонятной истомою дышит…
Сумрак полн ароматом смолистых ветвей
кипарисов прибрежных, олив, миндалей,
задремавших в садах апельсинов…
Вот последние звуки везде улеглись,
и в воде отраженные звезды зажглись,
как в пустыне огни бедуинов…
Словно дым из кадильницы горы вдали
вознеслись к непорочным туманам.
Вдоль острова, с юга плывут корабли,
уносятся к северным странам.
Огибая залив, зеленеют светло
берегов бледнолиственных мысы.
И воздух над ним – золотое стекло,
и в золоте спят кипарисы.
На вечернем заливе сверкает, дрожа,
ожерелье из зыбких алмазов.
В саду над заливом пахуче-свежа
листва засыпающих вязов.
На утесах прибрежных вершины видны
одиноко-развесистых пиний.
Цветы олеандров воздушно-нежны,
как сказочный, розовый иней.
Все – во сне золотом. От небес до земли
все зовет к лучезарным обманам.
Вдоль острова, с юга плывут корабли,
уносятся к северным странам.
Серебряный сумрак пустынно-печален,
и тихо в селеньях окружных,
и дымно белеются стены развалин,
и небо в разливах жемчужных.
Волнистое море от лунных узоров
блестит как стальная кольчуга.
Плывут корабли в беспредельность просторов,
на север из дальнего юга.
Развалины замков на дали туманов
взирают, веками объяты.
Утесы прибрежий – ряды великанов,
закованных в белые латы.
И море, во мгле серебристых сияний,
блестит как стальная кольчуга.
Плывут корабли среди лунных молчаний,
на север из дальнего юга.
За грани пространств и времен,
из пленов земного желанья,
к блаженным вершинам познанья
возносится дух мудреца.
Мечта, созерцанье и сон —
три лестницы в горние храмы,
к престолам великого Брамы —
три двери брамина-жреца.
Для мудрого благо и зло,
отрада и мука – обманы.
Над безднами тихой Нирваны
все явное – дым волшебства.
Закон мирозданья – Число;
бесчиленны формы и звенья:
едина стихия творенья,
единство – закон Божества.
Начало всему и конец,
творящая вечно, бесцельно,
нигде и во всем нераздельно —
в песчинке в стебле камыша
и в памяти гордых сердец,
в камнях и в душе человека,
слепая навеки, от века,
скорбит мировая душа.
Все к новым далям, к новым зорям,
забыв о береге родном,
в великой тьме, пустынным морем,
вперед, бесстрашно мы плывем.
Все к новым зорям, к новым далям —
плывем, не ведая о том,
к какому берегу причалим,
в какой отчизне отдохнем.
Плывем, не зная, что нас манит,
какая сила гонит нас,
какое счастье нас обманет
когда-нибудь, в последний раз.
Не все ль равно? Пусть цель – далеко;
для нашей скорби нет преград.
Мы будем плыть. Мы дети рока.
Мы не воротимся назад.
СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ
«России нет. Россия разбрелась…»
России нет. Россия разбрелась.
Как нищие, взяв на плечи котомки,
Её творцов бездомные потомки
Кочуют по свету.
И смерд и князь.
Нарушена тысячелетий связь.
Мы – беженцы, хоть речи наши громки.
Мы – по волнам плывущие обломки
Храмины той, что Родиной звалась.
О чем же спор? Кто океан принудит
Взбесившийся вернуться в берега?
Мы все – враги перед лицом врага.
Кто виноват? Кто прав? Господь рассудит.
Как ночь без звезд, судьба строга, долга.
Не мы решим. Она решит. Да будет!
1922 г
«Я есмь. И нет меня – исчезну…»Рим
Я есмь. И нет меня – исчезну,
в несотворенном утону,
от звуков, света, жизни – в бездну,
в довременную тишину.
Так, вечер каждый умирая,
наутро вновь рождаюсь я,
внезапным чудом возникаю
из вечности небытия.
О, смертный дух, поток прерывный,
на что тебе земные сны,
тебе, исполненному дивно
первоначальной тишины?
Saget, Steine, mir an, o sprecht
ihr hohen Palaste!
Goethe
Ольге Александровне Шор
«Затишье виллы… Мерным стоном…»
Издалека
Как ярок – ослепительно! Но странно:
он издалека светит весь туманно,
и кажется, что с неба эта мгла
сияющая на него сошла.
Дома, дома и, островами, парки,
а выше – звонницы, столпы и арки.
Присмотришься: монастыри, дворцы
и стен полуразрушенных зубцы,
Сан-Пьетро, и – похожие на скалы
изглоданные – термы Каракаллы.
О, дивное покоище миров,
богохранимый вертоград Христов!
Заворожён прошедшим вечносущим,
каким векам внимаешь ты грядущим?
San Pietro
Когда метёт по Риму трамонтана,
выплёскивая в небо непогоду,
и клонит кипарис и морщит воду
бормочущих на площади фонтанов —
прозрачнее от света и от ветра
вкруг обелиска мрамор чудотворный,
таинственнее в заводи соборной
колончатые неводы Сан-Пьетро.
Плывём, воистину, в ладье рыбачей
у берегов обещанного рая,
откуда мы когда-нибудь, взирая
на этот мир, увидим всё иначе…
Да будет! Не повергнуть, не увлечь нас
теченью к гибельным водоворотам!
В тиши, страстям далёкой и заботам,
уносит к ослепительным высотам
река земных времён, впадая в Вечность.
Сад Корсини
Уж были сумерки, когда привратник
впустил меня в пустынный сад Корсини, —
темнели призрачные кущи пиний
и пахли ароматней.
Куда-то в гору повела аллея:
всё лавр, дубы, магнолии, каштаны.
На перекрёстках смолкшие фонтаны,
обломки мавзолея.
Крапивной грустью поросли боскеты,
заброшенные клумбы одичали,
по-прежнему одни ручьи журчали
журчаньем вечной Леты.
Как в царстве мёртвых, я бродил по саду, —
с площадок лестницы монументальной
безлюдию аллей внимал печально
и шуму водопада.
И всё казалось мне таким знакомым —
гигантских пальм стволы с корой косматой,
и в заросли увечный мрамор статуй,
и с тиной водоёмы.
Тиволи
По-разному здесь воды плещут:
то серебристым говорком,
то льются песней, то, кругом
глуша все звуки, буйно хлещут.
Вода, вода! На горный склон
спешат потоки отовсюду,
и внемлет их живому гуду
молчание былых времён.
Ключом, сверкая, струи бьют,
плюются сказочные гады,
грохочут, пенясь, водопады
и дымной влагой обдают.
Из зевов мраморных фонтаны
взлетают дугами везде,
и отражаются в воде,
двоясь, и кедры и платаны…
Но есть аллеи: глухо в них.
Там кипарисы вековые
о смерти думают, чужие
тревогам и словам живых.
«Горит полуденное лето…»
Затишье виллы… Мерным стоном
всё чьи-то гаммы. Солнце. Лень.
Из детской – сад, а над балконом
опущенной маркизы сень…
И ветер с моря, под маркизу
ныряя весело, хмельно,
слегка пощёлкивает снизу
в напруженное полотно.
И это всё: одна минута,
Одна зарница волшебства.
Прошли года, но почему-то
во мне с тех пор она жива…
Уносят к югу, к счастью, к детству
тугие всплески полотна —
и чьи-то гаммы по соседству
из незнакомого окна.
«Осиротел бассейн. Давно ли дружно…»
Горит полуденное лето,
от зноя дымно в синеве,
сухая серебристость света —
как пыль на выжженной траве.
Не шелохнётся воздух чистый,
не дрогнет горная сосна.
Юг средиземный, день лучистый,
сияющая тишина!
Таинственна, первоначальна —
в ней тонут небо и земля,
и как-то радостно-печально
ей отвечает жизнь моя.
«Не ты ль однажды, девой-жрицей…»
Осиротел бассейн. Давно ли дружно
в нём отражались купы старых лип,
и блеск играл золотопёрых рыб,
и шелестел фонтан струёй жемчужной…
Теперь он пуст, теперь его не нужно.
В немых аллеях только ветра всхлип,
синицы писк, дуплистых вязов скрип,
да ты, печаль моя по дали южной!
Примолкла жизнь, далёко племена
болтливых птиц, кроты зарылись в норах.
Лишь вороньё: кра-кра! И тишина.
Куда ни глянь – пожухлых листьев ворох…
Безлюдье, грусть, сухой предзимний шорох
и первых заморозков тишина.
«Зноен день, но с гор прохлада…»
Не ты ль однажды, девой-жрицей
на празднике Панафиней,
меня задела колесницей
золотоблещущей своей?
Не ты ли, – помнишь: вечер, форум,
литавры, – мимо шли как раз —
и сердце мне пронзила взором
твоих патрицианских глаз?
Не ты ль, со стен острозубчатых,
заслышав издали мой рог,
на камни уронила смятый
гербами вышитый платок?
О, да! Стократ красой желанной
ты разум обольщала мой.
Тогда, представ мне Донной Анной
в Севилье чёрнокружевной,
или тогда – в садах Версальских,
танцуя пудреный гавот,
или тогда – всходя по-царски
на якобинский эшафот…
И не тебя ль ещё недавно
встречал я, – в оны дни, увы,
Пальмиры севера державной, —
на берегах моей Невы?
«Вдали от города и от людей…»
Зноен день, но с гор прохлада:
и жара, и не жара.
В этих старых липах сада
ветер шелестит с утра.
Небо, даль, просторы… Боже!
этакая благодать —
на качалке полулёжа
и дремать и не дремать,
слушать тишины безбрежной
голоса: цикады скрип,
гуд пчелы и шорох нежный,
шелковистый шорох лип.
И беззвучье и звучанье,
песня золотого дня…
Этой музыке молчанья
нет названья у меня.
«Бескрайные сумрачны земли…»
Вдали от города и от людей,
от сутолоки общей несвободы,
вдали от жизни прожитой своей
опять я гостем у природы.
В лесу, на перекрёстке трёх дорог
заглохнувших, стоит скамья по дубом, —
облюбовал я этот уголок
в уединении сугубом.
Чуть шелестит вокруг лесная тишь,
рассказывает сны тысячелетий.
И только слушаешь её, молчишь
и растворяешься в тепле и свете…
Крест («Свой крест у каждого. Приговорён…»)
Бескрайные сумрачны земли,
которыми сердце полно.
Люблю их, люблю – не затем ли,
что покинул давным-давно?
Загублено, выжжено, стёрто…
А вспомнишь когда невзначай —
пустыней покажется мёртвой
берег твой, средиземный рай.
«Пусть отчизны нет небесной…»
Свой крест у каждого. Приговорён,
взвалив на плечи ношу, каждый
нести её, под тяжестью согбен,
и голодом томясь и жаждой.
За что? Но разве смертному дано
проникнуть тайну Божьей кары?
Ни совесть не ответит, всё равно,
ни разум твой, обманщик старый.
Но если не возмездье… Если Бог
страданья дарствует как милость,
чтоб на земле, скорбя ты плакать мог
и сердцу неземное снилось?
Тогда… Ещё покорнее тогда,
благослови закон небесный,
иди, не ведая – зачем, куда,
согнув хребет под ношей крестной.
Не помощи. Нет роздыха в пути,
торопит, хлещет плетью время.
Иди. Ты должен, должен донести
до гроба горестное бремя.
«Не покоряйся искушенью…»
Пусть отчизны нет небесной
и чудес не ждёт земля —
всё Творение чудесно:
время, солнце, звёзды, я,
мысль моя, вот это слово,
прозвучавшее в веках,
свет и тени сна земного,
сон о райских берегах…
Коль обманет – что же, что же?
Здесь, во тьму из темноты,
этот луч сознанья, Боже,
этот луч сознанья – Ты.
«Не может быть, чтоб этот мир трёхмерный…»
Не покоряйся искушенью,
безбожному не верь уму,
не верь тоске, не верь сомненью,
не верь неверью своему.
Лицом к лицу пред вечной тайной,
в ничтожестве – о, как велик!
Всему единое мерило,
всего единый судия —
твое сознанье озарило
слепые бездны бытия…
Дождь («Ах, воистину чудесен…»)
Не может быть, чтоб этот мир трёхмерный,
куда-то уносящийся в веках,
мир святости, любви – и тьмы и скверны
и красоты божественно-неверной,
чтоб этот мир был только прах…
Не может быть, чтоб огненная сила,
пронзающая персть, была мертва,
и правды благодатной не таила
испепеляющая всё могила —
все подвиги, все жертвы, все слова.
Не может быть, чтоб там, за небесами,
за всем, что осязает наша плоть,
что видим мы телесными глазами,
не веял Дух, непостижимый нами,
не слышал нас Господь.
«Не мысль – предчувствие, прозренье…»
Ах, воистину чудесен
день весенний! Даже в дождь.
Лес мне дорог и без песен,
сладок запах мглистых рощ.
В гнёздах прячутся наседки,
плачет небо, на траву
тихо каплет с каждой ветки
сквозь намокшую листву.
Низко облака над лесом.
Грустно, сыро и темно.
Пусть! И дождевым завесам
завораживать дано.
Лужи, грязь, вода в овраге.
Дождь… А всё ж как хороша
этой животворной влаги
лес обнявшая душа!
Земля («Когда к земле вплотную прикоснусь…»)
Не мысль – предчувствие, прозренье:
земля и мир и жизнь моя —
как сон небес, как провиденье
неузнанного бытия.
Преображающим рассветом
сияет полдень надо мной,
и нет границы между светом,
бессмертием и тишиной.
«Был создан мир или не создан…»
Когда к земле вплотную прикоснусь
и всеми чувствами в неё поверю, —
себе каким ничтожным покажусь,
себя какою мерою измерю!
Земля, персть косная и жизни персть.
Покинули её давно уж боги,
и от небес единственная весть —
не сон ли человеческий о Боге?
Но если… если этот сон не ложь!
Тогда весь прах земной предстанет ложью,
и ты в себе безмерность познаёшь
и образ и подобье Божье.
«Пылает небо над пустыней…»
Был создан мир или не создан,
а прибывает нерушимо,
отвека и вовеки сущий
и гибнуть вечно обречённый…
Что знаем? И до нас – что звёздам
в пучинах неба? Мимо, мимо
вчерашний день и день грядущий
летит во тьму мертворождённый.
Из бездны в бездну мчится время,
хоронит всё в одной могиле.
Как искры быстрых метеоров,
зажглись на миг и гаснут люди.
И нет границы между теми,
которые когда-то были,
и теми жизнями, которых
сегодня, завтра ли не будет.
Огарок («Погаснет электричество в квартире…»)
Пылает небо над пустыней,
слепят полдневные лучи.
Далеко – море, в котловине
лепечут горные ключи.
Туда, в лесную тень, по скалам
иду тропинкой не спеша —
каким-то счастьем небывалым
томится певчая душа.
Жук прожужжит иль свистнет птица,
или в траве зашелестит —
всё, всё земное будет сниться
и вечность тайную сулит.
Нездешней правдой сердце дышит
и чутко замирает вдруг
и в каждом звуке слышит, слышит
неслышный уху, тайный звук…
Сочельник («В эту ночь, когда волхвы бредут пустыне»)
Погаснет электричество в квартире —
спешишь огарком заменить.
И станет в комнате и в целом мире
все по-другому как-то быть…
Нарушен установленный порядок,
насторожилась тишина.
Предчувствий, обольщающих догадок
душа встревоженно полна.
Как маленький огарок, луч вливая
в заманивающую тьму,
она мерцает призрачно-живая,
подобная во всём ему.
Фитиль то вспыхнет, то как бы от страха
зажмурится. И вновь темно…
И громче дряхлая бормочет Пряха,
жужжит веретено.
Плиты («Где-то, где-то на бугре песчаном…»)
В эту ночь, когда волхвы бредут пустыней
за звездой, и грезятся года
невозвратные – опять из дали синей
путь указывает мне звезда.
Что это? Мечты какие посетили
сердце в ночь под наше Рождество?
Тени юности? любовь? Россия? или —
приведенья детства моего?
Тишиной себя баюкаю заветной,
помня всё, всё забываю я
в этом сне без сна, в печали беспредметной,
в этом бытии небытия.
«Эта белая тишь – чарует она!..»
Где-то, где-то на бугре песчаном
обречённой, вымершей земли
стелется покоище: бурьяном
сплошь могилы заросли.
Ни венка, ни урны и в помине,
всё сломали заступы веков.
Преданные пыльной паутине —
только плиты без крестов.
Надписей иных не разбираю:
буквы стёрлись, имена – не те.
Призрачное что-то вспоминаю,
от плиты брожу к плите.
Боже, как давно-давно под ними
затаилось мёртвое жильё!
На одной с трудом прочёл я имя
полустёртое – моё.
«Опять, опять у моря стоя…»
Эта белая тишь – чарует она!
Никогда не снилась такою:
красоты земной всеблаженно полна,
к неземному зовёт покою.
Это небо и, в синем блеске, наряд
кружевной лесного приволья;
этот в инее сад, садовых оград
запушённые снегом колья!
Эти чёрные пни у дорог торчком
и соломы стог под навесом;
эта мгла вдали розоватым дымком
над сквозным заснеженным лесом…
И душа этой белой тишью полна,
ничего ей больше не надо.
Надышаться морозом хочет она.
И печаль её – как отрада.
«Снег россыпью алмазной падает…»
Опять, опять у моря стоя,
не нагляжусь на небеса
и в шуме слушаю прибоя
глубин и далей голоса.
Рождённых водною пустыней
внушений тайных не прочесть…
Но в них угадываю ныне
слова премудрые: Он есть.
Он есть, исток и огнь сознанья,
к Нему священные пути, —
Он, вседержитель мирозданья,
Тот, от Кого нельзя уйти.
«Возлюбленная тишина…»
Снег россыпью алмазной падает,
на солнце светится с утра.
Земля и умирая радует,
и в зимней скудости щедра.
Мирами искорок бесчисленных
мерцает белый полог зим,
а кружева ветвей безлиственных
вдали – как лиловатый дым.
Февральскими снегами скована,
она не верит нищете.
Земная вечность уготована
её небесной красоте.
Возлюбленная тишина…
Ломоносов
Возлюбленная тишина,
вечернее очарованье,
виденьями какого сна
овеяно твоё молчанье?
Возлюбленная тишина,
преображение заката,
недостижимая страна,
покинутая мной когда-то.
Слилось грядущее с былым,
неизмеримое с ничтожным,
и кажется пережитым
всё, что казалось невозможным.