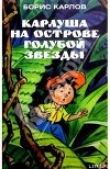Текст книги "Малоизвестный Довлатов. Сборник"
Автор книги: Сергей Довлатов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 31 страниц)
Игорь Смирнов-Охтин [184]184
Игорь Иосифович Смирнов-Охтин (род. в 1937 г.) – инженер-проектировщик, прозаик. Печатался в отечественных журналах и сборниках, автор романа «Кружится ветер» («Нева», 1994, №№ 10–12). Живет в С.-Петербурге.
[Закрыть]
Сергей Довлатов – петербуржец
Когда летом 1978 года в аэропорту «Пулково» он подряд всех обнимал, успевая каждому из нас сказать что-то, могущее принадлежать только «каждому из нас», мы знали, что больше не увидим его. Знали, что, конечно, письма своими пунктирами нас свяжут – но это ненадолго; связь прервется, и еще некоторое время будем слышать его в письмах самым близким ему здесь людям, и начнем ходить к ним в гости, читать его письма, но и это ненадолго, потому что все связи растают, размоются. И разделит нас бездна…
И уже тогда – летом семьдесят восьмого – я решил писать о нем воспоминания. Решить-то – решил, но писать не начал. Тормозила, вероятно, недопустимость подобной мемуаристики, когда, включив «Спидолу», можно услышать его голос, его – живого, здравствующего, лапидарно-ясного, естественного…
Ну вот, а теперь настало время…
Начну с одной рассказанной им чудесной истории: я ее не встречал в записи.
Довлатов получил от детского журнала «Костер» командировку в город Элисту – столицу калмыков. Командировочное задание имело этнографический характер – требовалось разыскать и описать для журнала детские национальные игры. Надо сказать, работая в журналистике, Сергей Донатович беллетриста в себе сильно не угнетал, полагая, что славная история ценнее постного факта. И уж конечно, ему и в голову не могло прийти отыскивать несуществующее средневековье, в то время когда все увлекательное можно придумать в поездке, по пути к калмыкам. Так он и поступил.
Но все же одно дело, непосредственно с командировкой связанное, для Элисты осталось – необходимость отметить командировочное удостоверение. Журнал «Костер» принадлежал комсомолу, а комсомол, как известно, со всеми потрохами принадлежал партии. Короче, командировку следовало отметить в Элистинском обкоме. Там Довлатову сказали, что ему нужен товарищ Нармансангов, но товарища Нармансангова нет, он должен скоро прийти. И только сказали, как идет товарищ Нармансангов – небольшого роста скромный человек. Великого роста артистичный Сережа Довлатов при виде товарища Нармансангова радостно и вальяжно раскинул руки и сказал: «О! На ловца и зверь бежит!..» Товарищ Нармансангов вздрогнул, остановился, побледнел и спросил: «Это кто «звЭр бежит»? Это я – звЭр бежит?» Сергей понял, что малость оплошал, и принялся выправлять положение, объясняя, что есть такая русская поговорка. Когда кого-то ждешь и тот вдруг появляется, говорят: на ловца и зверь бежит.
«Это я – звЭр бежит?!» – не унимался товарищ Нармансангов.
«Да поймите, – объяснял Довлатов, – когда даже друга ждешь и друг вдруг появляется – говорят: на ловца и зверь бежит».
«Почему не сказал «друг»? – негодовал товарищ Нармансангов. – Почему сказал: звЭр бежит?! Пойдем со мной!»
И повел Довлатова в кабинет первого секретаря обкома. Вошли в огромный зал, в конце которого за большим столом сидел крошечный человек. Товарищ Нармансангов, обогнув стол, склонился над ухом первого секретаря, и Довлатов услышал, как тот шепчет в ухо первого секретаря: «Крл-срл-брл-звЭр бежит!.. Брл-срл-крл-звЭр бежит!..»
И тогда первый секретарь Элистинского обкома говорит Довлатову:
«Почему вы моему ближайшему помощнику сказали: «ЗвЭр бежит»?»
Довлатов заново начал: что – нет обиды, что – поговорка!.. – но все яснее становилось при виде партийного чиновника, что доводы и объяснения в эту голову проникнуть не могут, и тогда он… плюнул и пошел, отметил командировку в другом месте.
Потом Довлатов, конечно, выяснил, что нет у калмыков большей обиды, чем сказать человеку: зверь. Поди знай!
А в Элисте случилось с ним еще одно приключение… Его поселили в гостиничный номер, где лежал покойник – тихий покойник, под простыней. Правда, на отдельной кровати.
– Это что такое?! – сказал Довлатов администратору.
– Человек умер, – спокойно сказал администратор. – Должны за ним приехать, забрать.
– Ладно, – сказал Довлатов.
Покойник не приванивал, и он стал жить с ним по соседству.
Довлатов уверял, что в его жизни это было самое спокойное, а потому и самое приятное соседство.
Неудобств «наружной» жизни Сергей Донатович как будто не замечал. В семье жила легенда о том, как однажды Нора Сергеевна – его мама, – одевая маленького Сережу, по рассеянности пропустила обе его ножки в одну штанину. Штанина была широкая, короткая, и все же мальчик испытывал большое затруднение при ходьбе, но за трехчасовую прогулку ни разу не пожаловался. Родители удивлялись.
Уже будучи взрослым, Сергей Довлатов однажды отбегал по городу день, не обратив внимания на здоровенный гвоздь в башмаке, который основательно продырявил ему пятку.
И вот я его обидел.
Хотя обижать не стоило.
Пригласил на вечеринку. Публика – технари, мышление – клишированное. Довлатов – прима застолья, и все ему в рот смотрят. Искусство подчинять людское внимание, которым Довлатов прекрасно владел, основано на жестких канонах и не прощает малейшего сбоя. А тут получилось, что качество зáкуси поощряло выпивку. Сергей расслабился, упустил поводок, и разговор без его присмотра сбился. Сергей Донатович попытался восстановить позиции. Пошло еще хуже. И в связи с этим он стал пить еще больше. В благородном порыве хоть малость выправить положение он назвал собравшихся «бухгалтерами». Что из всего затем сказанного оказалось не самым обидным.
Через несколько дней на занятии литературного объединения я выказывал ему свое неудовольствие тем, что избегал всяческого общения и старался даже на него не глядеть. И тогда, в перерыве, он подошел ко мне и публично – то есть многие слышали – принес свои извинения. А произошло это так… Я полулежал на каком-то канцелярском диване, а эта громадина встала передо мной и сказала: «Игорь, я хочу принести вам и вашим друзьям свои извинения! Я понимаю, что вел себя безобразно».
И тут я сказал: «Бросьте переживать, Сережа! Вы были такой незаметный…»
Лицо Сергея Донатовича исказилось, и хотя он попытался сохранить спокойствие, но с оторопью не справился и в растерянности ретировался.
Я поступил, конечно, дурно – тому подтверждение, что память моя этот эпизод сохранила. А вот Довлатов, я думаю, о нем вскоре и забыл. Если только не включил его в байку или в рассказ.
Ему было свойственно откровенно рассказывать о своих безобразиях, давая им вполне жесткую оценку. Он старался ничего не скрывать, все называть своим именем. Не хвастался, но особенно и не печалился. То есть как бы – что есть, то есть. Мужественно и мудро сознавал собственное несовершенство. И это имело у него идейный фундамент.
Сергей Донатович, видите ли, считал, что художник, творя свою вторую художественную реальность, в подсознании освобождает себя от законов первой реальности, которые оказываются для него как бы неписаными, – и тому в подтверждение любил приводить компрометирующие факты из жизни корифеев – служителей муз. Спотыкался, правда, на Антоне Павловиче Чехове.
В молодые годы писатель Владимир Марамзин настоятельно советовал мне не бросать инженерную деятельность, которая меня кормила, а писать по вечерам… «Иначе, – говорил он, – тебе все равно придется зарабатывать на жизнь, но уже тогда какой-нибудь литературной поденщиной, а это для писателя плохо, потому что и «литература» и «литературная поденщина» из одного места берутся». Сергей Довлатов, наоборот, считал, что настоящему писателю надо решиться на литературную судьбу и для этого первым делом уйти с государственной службы.
«Но, Сережа, – возражал я, – у меня нет жировых запасов, а уже на следующий день мне приспичит делать шам-шам и нужны будут деньги». – «Вы знаете, Игорь, – говорил мне важно Довлатов, – это невозможно объяснить, но еда как-то образуется: то соседи нальют тебе супчик, то приятель… иногда Глафира («Глаша», терьерчик Сергея) с тобой поделится…»
Об обстоятельствах и перипетиях своей нищей жизни Довлатов размышлял часто. Его всегда искренне поражало, как это получается, что денег на еду никогда нет, но случая не упомнит, чтобы не раздобывались деньги на выпивку. Поражало его и собственное отношение к деньгам: «Я вот иду по Невскому, хочется пить, но жалко трех копеек на газированную воду, а вечером буду легко расставаться с пятерками, десятками!» Такое «сожительство» в себе аскета и лихого кутилы Довлатова всегда удивляло.
Однажды, купив водку и хлеб, мы пошли за колбасой. Из бывших в магазине двух сортов вареной я выбрал ту, что на двадцать копеек дороже. Довлатов пришел в ужас: «Заче-е-ем?! Вы же все равно ее съедите!» Впрочем, возможно, эту замечательную шутку он прокатывал неоднократно.
Довлатов славился тем, что всегда пунктуально возвращал долги, вел тщательный учет. Он очень дорожил своим имиджем и постоянно перезанимал деньги. На все такое уходила уйма времени и сил, так что вполне можно считать, что финансовые манипуляции составляли существенную часть его жизнедеятельности.
Когда Довлатов брал долг целевого назначения – то есть на выпивку, то всегда поил водкой и заимодавца, не ставя расходы в зачет при возвращении долга.
О чем бы Довлатов ни рассказывал – о себе, о тебе, о собачке Глаше, о домике Арины Родионовны, – слушать было не только безумно интересно (даже если ты знал наверняка, что он врет), но и огромное эстетическое наслаждение испытывал всякий от замечательной его речи. Так что знание экскурсионного материала, которое в необходимом минимуме Довлатов, конечно, имел, было вовсе не главным в его экскурсии… Нокаутирующее воздействие на публику оказывало появление перед ними огромного супермена, в строгом лице которого ничего приятного экскурсанты для себя обнаружить не могли – к экскурсиям, экскурсантам, как ко всему коллективному и массовому, Довлатов относился с великим отвращением. Служебная необходимость, правда, заставляла это чувство прятать, но краешек его всегда оказывался виден. Возможно, отчасти и преднамеренно. Ну, а затем начинался его экскурсоводческий монолог. И тут с аудиторией происходило то, что называется катарсисом.И тогда, овладев публикой, Довлатов уже мог перегонять покорную отару от объекта до другого (а расстояния значительные!) в очень быстром темпе, не рискуя ни бунтом, ни кляузами.
Помню финал экскурсии… Довлатов «отработал» село Михайловское и вывел людей за околицу – к реке Сороть…
– Перед вами, – сказал он, – вон там на холме, наш последний экскурсионный объект – Савкина горка. Что вы можете увидеть на Савкиной горке? – тут Довлатов с нарочито пренебрежительным оттенком упомянул два или три могильника. – А также вид на Сороть, – продолжал он, – уступающий своей живописностью пейзажу, наблюдаемому нами с этого места. Желающие могут пройти на Савкину горку вот по этой тропинке.
Экскурсанты после такой оценки на Савкину горку не ходили, а Довлатов получал в личный досуг тридцать минут экскурсионного времени.
Однажды я помог Довлатову переправить в Америку фотопленки текстов всех его сочинений. До этого он уже дважды пытался с какими-то архинадежными «почтальонами» передавать за кордон рукописи, но всякий раз бандероль до адресата не доходила. А тут – полное собрание сочинений в шести (или в восьми?) крошечных рулончиках!
Довлатов волновался! Волновался очень! Тем соблазнительней, для бесовского раздела моей души, показалось разыграть вот такую сцену… фоторулончики – каждый завернутый отдельно – лежали передо мной на краю стола. Довлатов, находясь в каком-то панически-стрессовом состоянии, бормотал, насколько важно для его судьбы, чтобы этовсе не сгинуло!.. И тут я, ловко переведя разговор на совершенно другую тему, раскрыл и поднял громадный пустой портфель, одним небрежным движением руки смахнул в его чрево все собрание сочинений моего друга и, как бы не замечая ужаса в расширенных глазах, портфель захлопнул, попрощался и ушел.
Уже когда Довлатов получил сигнал из Америки, что все пленки благополучно прибыли, Сергей сам рассказал мне о том, что пережил, когда увидел мой небрежно-смахивающий жест, уносящий в «никуда» всю его жизнь!
А вот когда его «Невидимая книга» стала видимойи оказалась, к моему восторгу, в моих руках, в очередной раз стало мне очевидно всеми знаемое: всякие наши услуги услужают и нам самим.
«Почтальоном» же была гражданка Франции, ныне покойная, Катрин Яконовская – уроженка Ленинграда, славная русская женщина Катя. Во многом благодаря ее самоотверженности читающий мир знает теперь писателя Сергея Довлатова.
Когда кагэбисты стали выпихивать Довлатова из Союза и Довлатову ничего не оставалось, как забрать маму – Нору Сергеевну – и собачку Глашу и отправиться в Америку, выяснилось, что всякой собачке полетать на аэроплане – стоит хозяевам хлопот бóльших, чем собственное путешествие. Особенно возмущал Довлатова предписанный собачке Глаше объем медицинского обследования. «Безобразие! – негодовал Сергей. – Ее мочой интересуются, а моя моча никому не интересна!» Надо сказать, он был ревнивый.
Зачем живет человек?
Довлатов часто говорил, что цель его жизни – это то, чтобы его внук (тогда еще не было сына) мог бы снять с полки книгу и сказать: «Вот! Эту книгу – все слова, все фразы в этой книге – написал, сочинил, придумал… мой дед, Сергей Донатович Довлатов!» Наивно понимать такое лишь как честолюбивую программу. Это – метафора, главенствующий смысл которой – страстное желание писателя не кануть в забвение, не только «родить», но и «вывести в люди» свои тексты, произведения…
Это Наполеон сказал: «Я чувствую, что меня что-то влечет к цели, мне самому неизвестной. Как только я ее достигну, как только я перестану быть нужным, будет достаточно атома, чтобы меня уничтожить. До того времени никакая человеческая сила ничего со мной не сделает».
Никакая человеческая сила не могла ничего сделать с Довлатовым, и сам он не мог ничего непоправимо-разрушительного с собой сделать – до того времени, когда… Когда вышли в свет его книги, когда самый престижный литературный американский журнал стал регулярно печатать его рассказы, когда сбылось кем-то предсказанное и он узрел либеральные перемены на своей родине, когда уже в его отчизне престижные литературные журналы стали печатать его произведения…
…и тогда он умер.
Виктор Соснора [185]185
Виктор Александрович Соснора (род. в 1936 г.) – поэт и прозаик, автор многих книг стихов и прозы. Живет в С.-Петербурге.
[Закрыть]
Сергей
Мы подружились в Нью-Йорке.
Живя бок о бок, ходя нога к ноге по Невской першпективе, звеня рюмкой в разно-тех же компаниях, встречаясь с теми же восточноглазыми красавицами, выходя по утрам из одних и тех же полудомов, полубольниц, читая в одних и тех же аудиториях, в Ленинграде мы не были близки.
В Нью-Йорке же началось не с Довлатова, а с Вашингтона. 11 ноября 1987 г. ночью выпал снег, ударил гром и все замерзло. Самолеты остановились. Теледиктор говорила, водя глазами, что это случается раз в сто лет. Но это случилось со мною, и пришлось сидеть у моего Львовского друга Василия Аксенова, пить лжепиво без градусов, есть сосиски сталинского периода, красную икру и др. предметы, которыми прелестные хозяева меня угощали.
Я пишу сию балладу, ибо пища у нас сейчас – область снов.
Я перечитал 16 романов Аксенова, мы осмотрели его рабочий кабинет с компьютерами и ксероксами. Майя подарила мне шубку и звездочки для холодильника, ошейник для пса и ежика с писком и, наполненный едою и идейно-художественным содержанием творчества мною любимого писателя, я спросил Васю:
– Что делать?
– Да, – сказал Грустный Бэби, – самолеты заморожены. Читай Довлатова.
Я стал читать.
Наша литература в основном угрюма, дидактична и для чтения неинтересна. Неинтересно читать формалистическую прозу Пушкина и Толстого, бездуховных скучноносых Чехова или Тургенева – все учат, как тучи, нависая надо мною своими бородами, бакенбардами и пенсне. Это эпическое отступление я перечеркиваю и читаю Довлатова.
Мне не нужен Курт Воннегут, что повсюду хвалит С.Д., называя его вундеркиндом. Я слишком хорошо знал это буйное и длинное существо, как мне казалось. Так всегда кажется, когда смотришь в лоб, а не сбоку. Книги Довлатова написаны в профиль, его герой Долматов – такой же двойник, как у Чаплина – Чарли. Сергей Довлатов – уникальный случай в русской литературе, когда создается всеми книгами – единый образ.
Его герой – двухметровый чудак, неудачник, то фарцовщик без денег, то конвоир спецвойск, упускающий заключенных, то неожиданный муж, влюбленный и не знающий, где его жена, то русский в Америке, которого шпыняют люди намного ниже его и ростом, и умом. Это Долматов. Но Довлатов, пишущий, пристален, жесток, непрощающ, он создает себе множество щитов то грубого, то изысканного юмора и иронии, и за всем этим стоит тот мальчик, ранимый, добрый, чудесно-умный и чистый, которого я впервые увидел на университетском балу в новый, 1962 г., на елке, где он стоял в галстуке, под потолок, и думалось: как жить тому, у кого головы всех друзей – под мышкой, а женщины – по пояс?
Они встретили меня на ж.д., на вокзале в Нью-Йорке, и Сергей взял мой гигантский чемодан и понес, помахивая, как дамской сумочкой. Он бы и меня взял как тросточку, но я шел с Еленой (в роскошной шубе!), и оказалось, что ее тетя, да и она, были дружны в Ленинграде с моею мамой (на почве книголюбия!). Меня поразила юность Елены и цветущий вид Довлатова. Такая красивая и дружная пара, отличный автомобиль, начало заграничной славы Сергея, начало денег, «все в будущем, за морем одуванчиков»!
Верный товарищ, он взял на себя все мои передвижения по Нью-Йорку, он плохо водил машину, тыкался в бамперы, но, слава богу, не разбились. Он был бодр и деятелен, выдумывая новые приключения. Ел я как божество в их доме. Он страшно радовался, что я первый советский ч-к, выступивший по радиостанции «Либерти», и это сделал он. Интервью со мною вел он, весело и виртуозно. Мои вечера в отелях вел он – лихо и тактично. Он был очень артистичен. У него не было пустых амбиций, он никогда не говорил о своих книгах, он любил книги сверстников – случай редчайший и драгоценный.
Его книги – изящно ограненные серии-бриллиантики, миниатюры.
Он учился живописи.
ХОРОНИМ.
Мы прощались – он улетал в Вену, я в Техас. Стояла ночь и чернота, кафельный Нью-Йорк. Мы обменялись часами и очками. Больше мы не встречались. Я ношу часы Довлатова и хожу в его очках, мир притемненный. Узнав о его смерти, я запил и пил 12 дней стакан за стаканом, яд за ядом (по талонам), пока не свалился в руки медиков института им. Бехтерева, 5-е отделение, хорошо хоть, врачи были друзья, откачали. Русские банальности. НЕ ПЬЮ.
Владимир Уфлянд [186]186
Владимир Иосифович Уфлянд (род. в 1937 г.) – поэт, автор книг стихов «Тексты» (1978), «Стихотворные тексты» (1993) и книги прозы «Подробная антиципация» (1990). Живет в С.-Петербурге.
[Закрыть]
Мы простились, посмеиваясь
– В Америке человеку не возбраняется управлять автомашиной, если он перед этим выпил не больше двух дринков, – не сдержал рокочущего удовольствия в голосе Сережа Довлатов. – Это примерно пятьдесят шесть граммов крепких напитков.
– Ты, конечно, не забываешь перед тем, как сесть за руль, выпить эти два дринка? – спросил я.
Сережа, одним глазом продолжая глядеть на дорогу, краем другого взглянул на жену Лену.
– Иногда заставляю себя забыть. Но не сегодня.
Он затормозил перед огненным задом предыдущей машины. Вытащил два безымянных пакетика темной упаковочной бумаги и стопку одноразовых стаканчиков.
В одном пакетике оказались охотничьи колбаски из русского магазина. В другой он конспиративно запустил широкую привычную ладонь. Щелчок винтовой пробки заставил нас с Аллой и Мишей насторожиться.
– Из такого анонимного пакета в Америке вы можете пить все, что вам угодно, – с бархатной гордостью в баритоне объяснял Сережа, – прямо перед носом полицейского. И он не может нарушить вашего права на частную жизнь и поинтересоваться, что вы пьете и сколько. Кто умеет держать стаканы, чтобы рука не дрогнула, если машина вдруг тронется?
Наши руки не дрогнули.
Тем временем рядом с нами затормозила еще более длинная, чем довлатовская, машина, и четверо чернокожих с нескрываемым интересом начали нас разглядывать.
– Что это они так смотрят на нас? – вдохнул я аромат отменного виски без льда и прочих американских прибамбасов.
Сережа, взглянув влево, застыл с поднятым стаканчиком. В нем плескалось граммов шестьдесят-семьдесят.
– Это полиция, – как всегда ровно и успокоительно сказала Лена. – Они ждут, когда мы выпьем, а потом остановят нас и проверят концентрацию алкоголя в дыхании водителя.
Держа одной рукой стаканчик, Сережа другой рукой пустил машину следом за дернувшейся с места вереницей.
Закусили охотничьими колбасками при скорости, измеряемой в милях.
На стоянке под опорами заброшенной ветки надземного метро Сережа с Леной предупредили, чтобы не оставляли в машине недопитые стаканчики. Разобьют стекло и допьют.
Солнечный нью-йоркский январь был похож на удачный петербургский октябрь. Нью-йоркские платаны были вдвое толще и выше петербургских тополей.
– Кажется, это называлось «Вечера у камина», – вспомнил Сережа. – Мы три часа с пересохшим горлом слушали концерт для расстроенного рояля без оркестра композитора Гринблата.
– Была масленица, – уточнил я. – Значит, называлось «Вечера у самовара». Я помню на всех столах блинчики и чайники. А концерт модернового композитора Гринблата состоял из коротких музыкальных фраз и длинных пауз. В паузах я слышал бульканье и думал, что ты разливаешь под столом полбанки в чайные чашки.
– А я думал, это ты булькаешь. – Сережа шагнул внутрь ангара, где вибрировала воскресная барахолка. – У меня не хватило бы храбрости. Я в первый раз попал в Дом композиторов. Я думал, что там не принято пить водку из чашек.
– Может, это Ося Бродский булькал? – предположил я.
– Не смею утверждать, – здороваясь направо и налево, разворачивался в узких проходах Сережа. – Я видел только, как Иосиф во время особенно длинной паузы показывал из-за своего столика композитору Гринблату пальцем, что пора ударить по клавише. Дескать: зачем удовольствие затягиваете, маэстро?
Знакомый торговец подарил Сереже сувенир. На нем была надпись, виденная мной в американских автобусах: «В случае крайней необходимости – разбейте стекло». Стекло сувенира было крепковатое. Но молотком или каблуком разбить можно. Внутри стекла заключалось самое старинное и единственно надежное средство от злобного вируса иммунодефицита. Сережа переподарил сувенир мне.
Любуясь достижением западной культуры, я рассказал Сереже случай.
Мы с Осей Бродским пили в Лондоне пиво. В нужнике я обнаружил сверкающий автоматический ящик.
– Ося, – спросил я, – ты уже семнадцать лет живешь на Западе. Скажи, правильно ли я понял: на ящике написано, что если хотите спасти свою жизнь, бросьте туда сколько-то шиллингов?
– Так и написано, – подтвердил озадаченный Ося.
Коварные альбионцы. Хитрецы-англичане. Ящик молча хранил тайну.
Я предложил подождать, пока кто-нибудь бросит сколько-то шиллингов, и посмотреть, что выскочит. Но Ося уже не мог сдержать любознательности. Он опустил монету. Выскочило то же самое изделие, что заключалось в моем непробиваемом стекле.
– Таких дикарей, как ты с Бродским, я бы к цивилизованному Западу ближе, чем на тысячу километров, не подпускал, – рассудил Сережа, покупая и преподнося мне то авторучку, то набор фломастеров, то универсальный нож.
– Ты же сам знаешь, в какой дикой стране мы прожили лучшую часть жизни, – сказал я в наше оправдание.
– Знаю, – не стал отрицать Сережа, заказав всем по огромной американской порции разноцветной еды. – У вас там сейчас, говорят, в очередях за водкой задавливают насмерть старушек.
– Бывает, – подтвердил я. – Но некоторые гибнут возле кассы просто от недостатка кислорода. Это у вас в Нью-Йорке воздух чист, как выдох после водки «Абсолют». У нас в питерских магазинах воздух – как перегар после настойки горелых портянок на дезинсектале.
Мы сидели в лакированно-никелированном кафе и пользовались свежестью утра, еды и мыслей. Я тянул время в надежде, что американская еда утрамбуется и освободится место для следующего куска.
– Кажется, это называлось «Вечер молодых писателей и поэтов Ленинграда», – вспомнил я. – На лестничной площадке Дома писателя такая же давка, как в винном отделе. У нашего соседа за пазухой тосковала бутылка водки. Но он не мог из-за тесноты поднять руку на уровень лацкана, чтобы вытащить ее из кармана.
– Если бы я тогда знал, что у нашего соседа за пазухой бутылка водки, – мысленно открутил двадцать два года назад Сережа, – я бы запустил голову ему за пазуху, открыл зубами пробку и выпил свою треть.
– А чем бы занюхал? – задним числом забеспокоился я. – Как бы ты поднял к носу руку с рукавом?
– Я бы занюхал воротником, – не растерялся Сережа.
Я внутренне содрогнулся:
– Водка, нагретая до температуры человеческого тела! Из горла! Занюханная воротником! Это чрезвычайно чревато.
– Особенно для печени, – согласился Сережа. – Хорошо, что я тогда не выпил. И пусть патриотический клуб «Россия» послал в обком донос, что мы во главе с Иосифом Бродским устроили сионистский шабаш. Зато он не посмел обвинить нашу еврейскую половину хромосом в том, что она спаивает нашу русскую половину души и тела.
Трофеи, взятые при открытии Америки, были умяты, уплотнены и увязаны до разумных габаритов и успешно сданы в багаж. Мы с Сережей сушили пот ветрами аэропорта имени Джона Кеннеди.
– В следующий ваш приезд мы не будем так самозабвенно ностальгировать, – сказал Сережа. – Мы обратимся мыслями в будущее.
– В следующий наш приезд мы застанем тебя на твоей вилле возле камина, читающим Марселя Спрута, – уточнил я.
– Марселя Струпа, – поправил Сережа.
Мы простились, посмеиваясь.
Кладбище в Квинсе, где лежит Сережа Довлатов, называется «Маунт Хеброн». Деревья кладбища видны из окна квартиры, где жил Сережа. Завершилась вереница невероятных и в то же время совершенно обыкновенных совпадений, из которых составлялась жизнь.
Читая книги Сергея Довлатова, удивляешься, до чего же стремительным, непредсказуемым и увлекательным может выглядеть на бумаге повседневное бытие. Если, конечно, не грызть перо в Доме творчества, натужно выгрызая сюжеты. У Довлатова был иной метод: быть всегда искренне замешанным во все благополучные и катастрофические происшествия с ближними и не очень ближними.
Писал он ежеутренне с рассвета после любых неумеренных поздневчерашних разговоров и распитий. Встречные едва успевали осознать, что стали очередными персонажами сверхмастерской прозы Довлатова. Жизнь была неиссякаемым источником литературы. Литература была часто иссякавшим источником средств к жизни.
Сережа Довлатов без устали балагурил, перешибая самых высокоавторитетных острословов. И тут же превращался в ненасытного слушателя. Ловил собеседника на слове и делал из этого слова прозаический маленький или не очень маленький шедевр.
На надгробном камне Сережи Довлатова выгравирован его автопортрет. Одна непрерывная, изящная, смешная, артистически завершенная линия.
Я с трудом представляю, чтобы Сережа анализировал или теоретизировал на тему, как он пишет или рисует. Он просто писал и рисовал.
Еще труднее мне сравнить Довлатова с каким-нибудь другим писателем. Легче других писателей сравнивать с ним.



![Книга Геймер[СИ] автора И. Печальный](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)