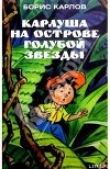Текст книги "Малоизвестный Довлатов. Сборник"
Автор книги: Сергей Довлатов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 31 страниц)
Сергей Вольф [182]182
Сергей Евгеньевич Вольф (род. в 1935 г.) – прозаик и поэт, детский писатель, автор восемнадцати прозаических книг. Живет в С.-Петербурге.
[Закрыть]
Довлатову
Ай лайк джэззззз! Да и какой русский не любит быстрой езды?!
И как говорит Мастер Утиных Стад – Сережа Курехин, – «даешь налет легкого идиотизма». Простая, чуточку лирическая ситуация вдруг превращается в больную. Еще совсем недавно он подарил Андрюхе Арьеву пластинку, а тот привез ее из Штатов в Питер, а я переписал на кассету. Великий ансамбль с выдающимися музыкантами: Довлатян любил джаз. «Модерн Джаз квартет». На пластинке (как всегда почти в этом «случае») есть великая же хрестоматийная тема (и композиция) – «Джанго». Тема трагическая. В память (извиняюсь за разжевывание) Джанго Райнхарта, беспалого цыгана-гитариста, джазмена, серого человека, уснувшего перед уникальной возможностью – сыграть в концерте с Великим Дюком. А Джанго – подзадержался в отеле. Вот так…
Сережа любил, вероятно, эту пластинку, и так я ее, переписанную, и слушал, как некий изящный случайный привет. Потом – резко и навсегда – по-другому. Это, оказывается, был иной привет.
О том, какон, Сережа, писал (и в России, и в Штатах), говорить сейчас и рано, и поздно. Это наверняка важно, как он писал, но для меня не в эти дни, месяцы. Существуют, правда, минимум две точки зрения на то, что же дороже – жизнь или литература. Если я и ошибаюсь, не зная своего чертова подсознания, за которое потому и не отвечаю, я считаю, что жизнь дороже. По крайней мере – чужая. Для меня. Отсюда эти наши распрекрасные (сейчас вовсе уж спровоцированные) воспоминания, как, мол, все это начиналось. Эта литература. Эта жизнь. Эта собачья жизнь в литературе. Начиналась-то как? Да никак.
Царил еще в Питере, не зная заранее своей гибели от руки «Садко», великий «Восточный» ресторан. На Бродского. Я любил заходить туда каждый день, за вшивые 2 руб. 50 коп. выпить бутылку сухого с сыром, ну а вечером – чанахи, ничем не запивая, так как это следует делать наоборот. Впрочем, возможна аритмия.
Однажды подходит. Высокий, красивый, якобы застенчивый (да нет, застенчивый!) – огромный, право, на фоне портьеры между залом и, ну как его… не залом…
То ли поклонился, то ли улыбнулся, то ли скомбинировал. Мне пятнадцать, ему – десять. А я покурить вышел, за столиком, где я сидел, я, видите ли, стеснялся. А то накурено, и скрипача Степу, росточком чуть ниже холодильника (куда его однажды и засунули), не видно. То ли Сережа в университете тогда учился, то ли учился писать, – не знаю. То ли знакомы были в быту, то ли нет. Но вот так, о литературе применительно к себе – нет.
– Я, – говорит, – извините, простите, пишу, пытаюсь писать прозу, а вы…
Запнулся. Он-то – никто. А я – мэтр. Уже написал ранние рассказы. В Питере, по углам, из-за моей прозы – переполох. Джойса, говорят, узнают по шороху крыльев. Кому какое дело, что я тогда только фамилию его, Джойса, и знал.
– Я…. – говорит.
– Да, – говорю. – Так что же «я»?
– А вы – уже. Не прочли бы вы мои рассказы, так сказать, опусы?
По причинам не литературного, но пресловутого внутреннего литературного свойства, я, кажется, ответил – нет. Да что там! – просто «нет».
Отсюда, позже, окрепнув уже в некоторой наиболее общей технике свободного прозаического письма (это еще до дружбы с Воннегутом… или потом?), Сережа и родил мифчик, что-де я сказал ему «нет», так как на столе «Восточного» меня ждала рюмка водки и я торопился. Скромен был Сережа необыкновенно, осудил меня лишь за торопливость, а вовсе не за то, что я, наверняка польщенный вниманием юнца, его к этой моей рюмке все-таки не пригласил. Скромен и вариативен необычайно. Позже, когда откуда-то сверху, с малых небес, ему велено было называть иногда меня «старый дурак», он часто ловко уходил от общения, извиняясь по телефону, что – нет-нет-нет! – он занят, приглашен в гости к «приличным пожилым людям».
Он был действительно несколько великоват. Приятно пузоват (это в России. В Штатах – не знаю, там я не был). «Ты же знаешь, Серенечка, догадываешься, что я физически очень сильный человек, – говорил он три раза на день. – Меня обязательно приглашают двигать наполненные шкафы или чаще – на похоронах – нести гроб».
Однажды, как известно, он пер с лучшей почты Питера несколько странную (ящик, 80 кг) посылку с предполагаемыми джинсами, джерси, обувью и прочим из Бельгии. Там оказался после вскрытия нестоящий тогда продукт – сахар: Сережин батя, эстрадный человек с ощутимым бантом на груди, неосторожно послал пятиюродному брату в Бельгию старинную головку сахара (синенькую, на буфета партобкома), а брат-бельгиец, миляга, решил сдуру, что в России плохо с сахаром.
Что они там, в Бельгии, все такие ясновидящие, а?!
Но больше, нежели вес сахара, сильный Довлатов любил держать на вытянутых руках – стул… или, присев, в одной руке, или – без рук. Он был почти неограниченно обаятелен. За это и за его силу и мощь часто его метелили на улице хорьки-комплексанты маленького роста.
Плакал ли он, оставаясь вдвоем с девушкой, приятелем, женой? Мне он, разумеется, такое не говорил, а писал ли в остраненной форме, но именно о себе? – не знаю, не думаю, иная природа дарования, мне кажется. Да нет, писал, наверное. Или я чего-то. – увы! – не читал.
Он ходил по Невскому проспекту в вольных брюках типа штаны, тапочках и «тенниске» (зеленой, вроде бы). В или без пиджака, старого, кожаного. С девушкой рука об руку, уже тогда воспринимаемой мною как американка. Не знаю, любил ли он ее (а она нет), она его (а он ее – нет), нет – друг друга или друг друга – да, но они любили ходить, взявшись за руки. При соотношении допустимой любви одного из них к другому 0,25 к 0,75 они составляли ощутимую единицу.Даже невольно для жильцов Невского и прочих проспектов, улиц и закоулочков это не было эротическим эпатажем. Но, похоже, никто и не «возбуждался», глядя на них, скорее – завидовал. Но позже и больше, чем та девушка-женщина, Эй Пи, мне нравилась его жена Лена. Я до сих пор помню и люблю ее характер.
А этот эпизод (не миф) не знает почти никто. Лена, скорее всего, его забыла. Эпизод в Пушкинских Горах, где Сережа был экскурсоводом (супертрио – Арьев, Довлатов, Герасимов). Благодаря покойному Дантесу и посреднику, мистеру Гейченко, Сережа поехал в Питер за зарплатой.
– Это не опасно? – спросил я у Лены. – Деньги, то да се…
– Ну, – сказала она, засмеявшись. – Это всегда опасно.
– Ведь он… – сказал я и закончил фразу, и это тогда (рядом – дочь Катя) был паскудный промах, цитировать который теперь стыдно. Позже мы шли к собственно Пушкинским Горам какими-то мягко горбатыми лугами. Сережа не возвращался на работу уже третий день. Перед нами, по ходу, был большой холмик, холм травы, и в траве, из травы, выпирал длинный горб немалого камня, снаружи по длине слегка согнутого.
– Смотри, Катя, – нежно хохотнув, сказала Лена дочке. – Это спит наш папа.
Конечно, все было истинно тогда,в ту минуту. Весело. И нечего морочить себе голову сейчас, теперь.Но сейчас это, как и в случае с пластинкой «МДК», «считывается» по-другому.
Я не посвятил ему ни одного стихотворения. Глупо.
Я писал тогда трепливые стихи, а позже начало его «величия» (в отрыве меня рядом с ним) мешало посвящению. Я иногда думал, довольно вяло, что вот можно приехать в Штаты, или даже только в Нью-Йорк, более горячо – слегка побалдеть, клюкнуть с ним, – при чем тут посвящение? Посвящать же теперь – пока слишком значительно, да и тот свой облик, какой он увез с собой, он оставил и мне. Ведь сумел он сделаться оформившимся писателем, во многом, а то и целиком, оставаясь для меня «Серегой» и как бы вне его литературы, шутником, уже в России больным клаустрофобией во всех смыслах, хотя тогда – не глобальной, хохмачом не до конца «понятным», если он в своей прозе приписывал мне чужие каламбуры, например банный «Апдайк'а», который, кажется, принадлежит Эдику Копеляну. Ай, да что говорить!
Это ощущается не ново и не умно, повторно, но Нью-Йорк, где я никогда не был, обеднел для меня с уходом Сережи. И никакая заземленная тяжесть встречи с его отсутствием не восполнит тот треп, которого я втайне явно ожидал.
Сейчас идет снег, дождь в Комарове, мелкий бисер с небес, поет Леннон из моего кассетника, и, ей-богу, тяжело писать здесь об этом, и никак не хочется влезать в монументальность крупного Довлатова, в монументальность того, что с ним случилось в жизни и в смерти.
Огромный Сережа и его много повидавшая фоксиха временно парят в небесах не как герои или персонажи Шагала, но как уличные шлепанцы, брошенные когда-то в колющий идеологический ядерный вихрь.
Борис Рохлин [183]183
Борис Борисович Рохлин (род. в 1942 г.) – прозаик, переводчик, закончил шведское отделение филологического факультета ЛГУ, печатался в «Гранях», «Звезде», автор книги «Превратные рассказы» (1995). Живет в Берлине.
[Закрыть]
Скажи им там всем…
Однажды Сергей сказал фразу, которая – вероятно, в силу некоторой непонятности для меня – сохранилась в памяти:
«Я вышел из «Голубого отеля» Стивена Крейна».
Почему Стивен Крейн, а не Хемингуэй, например, который и сейчас кажется мне автором, наиболее ему близким? Хотя рассказ, точнее, его начало, имеет прямое отношение к Сергею Довлатову, если не как к рассказчику, автору, прозаику, то как к человеку. «Голубой отель» начинается фразой:
«Отель „Палас“ в форте Ромпер был светло-голубой окраски, точь-в-точь как ноги у голубой цапли, которые выдают ее всюду, где бы она ни пряталась».
Сергей в жизни был, пожалуй, именно такой «голубой цаплей», спрятаться ему было невозможно и негде, впрочем, я думаю, он и не стремился к этому, а посему и доставалось ему больше, чем другим.
Изгнание из университета, служба в охране лагерей для уголовников могли бы сломать любого. У него же это обернулось прекрасной прозой. Но ощущение выброшенности из жизни, своего «отставания», «аутсайдерства» было, насколько я знаю, в те времена ему присуще.
Однажды, после возвращения Сергея в Ленинград, ко мне зашел приятель и сообщил, что Довлатов сидит дома, никуда не выходит и всех ненавидит. Последнее больше говорит о нашем общем приятеле, чем о Сергее. На что на что, а на ненависть он не был способен. Правда, было, пожалуй, и затворничество, и ощущение безвозвратно утраченного времени. Но здесь на помощь пришло творчество.
Не знаю, как в эмиграции, но тогда он писал очень много, по два-три рассказа в день, словно наверстывая упущенное не по своей воле. Казалось, это был бег на длинную, почти бесконечную дистанцию, где надо было во что бы то ни стало догнать и обогнать всех тех, кто, как ему казалось, ушел вперед.
И, в общем, так и получилось – дистанция длиной в жизнь, увы, слишком короткая, если складывать ее из дней и лет, но заполненная письмом, русским алфавитом… Как говорил сам Сергей: «Какое счастье, я знаю русский алфавит». Что ж, для художника судьба прекрасная – двенадцать изданных при жизни книг, успех у читателей, признание критики, – увы, американских читателей и американской критики… До издания сборника на родине Сергей, к сожалению, не дожил.
Во второй половине шестидесятых, в семидесятые годы он, действительно, много писал. Как-то он сказал: «Я написал уже три тысячи страниц». Но, как ни странно при такой работоспособности, внешне Сергей жил скорее жизнью праздного гуляки. Труд был незаметен, был виден только результат: написанные рассказы.
Не знаю определенно, но навряд ли это был сознательный метод, во всяком случае, мне казалось, что рассказы пишутся, именно пишутся, в два приема. Вначале это было устное повествование, излагаемое за бутылкой водки, излагаемое с блеском, легкостью и остроумием. Что здесь можно сказать? Это было настолько талантливо, я бы сказал, расточительно, избыточно талантливо, что на этом все должно было бы заканчиваться.
Представлялось ненужным, да и просто невозможным переносить это на бумагу, все будет потеряно: точность каждого слова, детали, завершенность всего устного текста, и, пожалуй, главное – слова, перенесенные на бумагу, превратятся из живых звуков в мертвые буквы, правильно расставленные, и только.
Это ощущение или, точнее, боязнь была скорее всего связана с обаянием Довлатова-рассказчика. Ведь нельзя перенести на бумагу с помощью пишущей машинки жест, улыбку, гримасу или опрокидываемую стопку водки.
Но на следующий день происходило другое чудо. Вечером за тем же столом – или уже за другим – Сергей читал рассказ, а то и два-три рассказа, написанные непонятно когда, – и они были столь же блистательно остроумны, столь же завершенны, как их устные прототипы.
Только в нашей странной, перевернутой, поставленной на голову жизни эти рассказы могли остаться ненапечатанными, обречены были на почетное существование в столе писателя.
Мне кажется, что как художнику Довлатову в высшей степени свойственно чувство детали, подробности. Думаю, это его врожденное качество, хотя и знакомство с американцами, и любовь к ним не прошли даром.
Однажды при написании рассказа (названия его я не помню, но речь в нем шла об американском матросе, «арестованном» двумя блондинками в клубе моряков и влекомом ими по Новой Голландии) он увидел, что ему недостает деталей этого района старого Петербурга, и решил позаимствовать подробности в моем рассказе, который так и назывался: «Новая Голландия», – и был просто возмущен, не найдя там ничего, что говорило бы о том, что место действия и вправду Новая Голландия, а не, как он выразился, к примеру, Новая Каледония.
Он пользовался словами не для создания некоего неопределенного ощущения, а для передачи плотности, вещности того, о чем рассказывается.
Как человеку Довлатову была свойственна острая рефлексия и одновременно боязнь обнаружить ее. Он удивительно болезненно реагировал на любой отзыв приятелей о написанном им, а отзывы частенько стремились быть не менее «художественными», чем сама проза. Скажем, поди догадайся, что значит такой отзыв:
«Гениальное неудачное произведение Довлатова» (о повести «Стена»).
Так какое же все-таки написал ты произведение: гениальное или черт-те знает что?
Он часто возвращался к старым рассказам и переделывал их. Одно это говорит о том, насколько серьезно Сергей относился к своей литературной работе, а внешне это часто казалось веселым балаганом на потребу публике, шутовством и балагурством. Он доказал, что не обязательно творить с серьезной физиономией, в молитвенной позе, показывая всем, что приносишь себя в жертву творчеству, хотя, возможно, его писательство и было жертвоприношением, незримым для окружающих.
Вообще Довлатов был совершенно чужд пафоса и восторженности. Он воспринимал и принимал людей – да и самого себя – такими, как они есть, не ожидая и не требуя от них подвигов, на которые – он это прекрасно сознавал – способен не всякий.
Реакция на события августа 1968 года у каждого, видимо, была своя. Наша реакция, будучи отрицательной, была, конечно, неадекватна событию, но она была такая, на какую мы были способны.
Наша реакция дала Сергею повод горько пошутить.
«Ну что мы за люди, – сказал он, – жена ушла – пьем, друг предал – пьем, танки в Чехословакию вошли – пьем».
Что правда, то правда. Мы, действительно, в тот день как-то одичало и безнадежно пили.
Сергей Довлатов был участником прекрасного сборника ленинградских прозаиков «Горожане», так никогда и не вышедшего в свет. В Таллинне, работая журналистом, он подготовил к печати сборник своих рассказов, – я помню, как вернувшийся из Таллинна общий наш приятель передал Сережину фразу, мне кажется, очень довлатовскую фразу:
«Скажи им там всем, что у меня книжка выходит…»
Но набор готового сборника, как известно, был рассыпан, и книжка не вышла. Сергей вернулся в Ленинград. А через некоторое время уехал в Америку и стал там русским американским писателем, «русским американцем».
Свою попытку сказать несколько слов о Сергее Довлатове я начал с фразы самого Сергея о том, что он «вышел из «Голубого отеля» Стивена Крейна». Мне вспомнилась еще одна, впрочем, касающаяся не столько его, сколько меня.
Однажды мы случайно встретились на Невском, и уже вместе пустились на поиски не то персонажей, не то автора, не то водки. Вполне возможно, что, двигаясь вместе, мы перемещались в пространстве с разными целями. Относительно меня почти со стопроцентной уверенностью должно сказать, что моей целью все-таки была выпивка. Если не «Коленвал», «Белое Крепкое», «Ратевани» или «Агдам», то, на худой конец, пиво. Сергей, не исключая и такой возможности, явно надеялся на большее, скажем, на приключение, не столько лирического характера, хотя не отбрасываю полностью и такой вариант развития событий, сколько на приключение с сюжетом, которое завтра, вероятно, стало бы рассказом.
Мы перебрасывались незначащими фразами, скорее, междометьями. Каждый был занят собой и не скрывал этого. Вдруг совершенно неожиданно он задал мне вопрос:
«Чего ты не пишешь?»
Я был несколько ошарашен внезапностью, немотивированностью вопроса, да и отчасти некоторой его некорректностью. Что здесь можно сказать? Я что-то промямлил, вроде того, что не пишется, или такую же глупость.
Он помолчал, подумал, посмотрел на меня и неожиданно брякнул:
«Все равно не живешь, так пиши…»
Пожалуй, можно сказать, что если Сергей вышел из «Голубого отеля», то я в каком-то смысле из этой фразы.
Если у меня иногда и выписывается нечто, похожее на рассказец, то первичным толчком к его написанию всегда служит воспоминание об этой довлатовской фразе. Она бессознательно, вдруг, выныривает на поверхность сознания.
Я говорю себе:
«Чего ты не пишешь? Все равно не живешь, так пиши».
И начинаю писать. Иногда даже что-то получается, в пределах, как говорится, возможного.
Я написал об этом вот почему. Любой другой человек, сказавший мне нечто подобное, стал бы навсегда если не врагом, – слишком сильно сказано, – то человеком, вызывающим неприязнь, или, точнее, какой-то мутный осадок неприязни, быть может, даже злобы. Но эти слова были сказаны не кем-то другим, а именно Сергеем, и поэтому, вспоминаясь, всегда непонятным образом улучшают мое настроение. Странно, но становится весело… более того, становится смешно. Возможно, это веселье отчаяния, пир наедине с собой во время персональной чумы. Почему нет? Но, как говорится, главное не в том. Действительно, отчего не писать, если все равно не живешь? Положение столь дикое и комическое одновременно, что ничего не остается другого, как рискнуть и на письмо. В таком состоянии ничего не страшно, никакой образец, никакой мэтр, никакой критик. Они перестают тебя связывать, пугать.
Но и это не то, во всяком случае, не главное. Главное в другом, трудно передаваемом, скорее всего, и не могущем быть переданным. Или мне, вне всякого сомнения, недоступном. Хотя, как я думаю, секрет моей реакции, – по крайней мере, на поверхности, – прост: обаяние Довлатова, Довлатова-человека, поведенческое обаяние… Понимаю, звучит чудовищно, но точно.
Удивительна его несвязанность, свобода при всех, видимо, достаточно многочисленных комплексах. Он как-то сказал мне, имея в виду тогдашних своих приятелей:
«Было время, когда я думал, что эти люди даже здороваться никогда со мной не будут».
До сих пор я чувствую какую-то боль в этих словах. Эти люди стали его приятелями, друзьями и даже почитателями, по меньшей мере, постфактум, посмертно.
Однако именно это смешение «неуверенности» и – я бы сказал – «дерзости», наподобие «дерзости» героя известного анекдота, выпавшего с какого-то этажа небоскреба, – «Как дела?» – спросили его, когда он пролетал сто первый этаж. «Пока все идет хорошо», – ответил он, – позволяло Сергею неосознанно, естественно избегать хамства, всего того, что, действительно, могло задеть, обидеть, оскорбить.
С другой стороны, его склонность к неврастении разрушалась именно этим «бретерским» отношением к самым малопочтенным и печальным обстоятельствам и позволяла преодолевать их, преобразуя или даже преображая – почему нет? – всю «дурноту» и «тошноту» жизни в маленькие печальные и смешные шедевры.
Пока жив, все идет хорошо, вопреки тому, что временами и не совсем живешь…
Это редчайший дар, – вероятно, души, – когда слова, по природе своей обязанные производить отрицательное воздействие, должные вызвать у человека обиду, раздражение или неприязнь, наоборот, к его собственному удивлению, действуют совершенно обратным образом.
Говорят, стиль – это человек. Чтобы был стиль, должен быть человек. Довлатов им был.
Когда мы поступили в университет, нас еще до начала занятий послали в колхоз. Там почему-то была очень популярна глупая присказка:
«Только шведы и албанцы игнорировали танцы».
Сергей не игнорировал «танец жизни» даже тогда, когда он больше напоминал «пляску смерти».
Но одновременно в Довлатове была какая-то боль. В нем как-то естественно уживалась склонность к «танцу жизни» с болью. Возможно, «боль» вообще одна из составляющих дара, во всяком случае, дара слова. Если нет боли, это уже не художник, это – начальник…
Часто повторяемая Сергеем шутка:
«Обидеть Довлатова легко, понять его трудно».
Весьма незатейливый юмор, но если на мгновение остановиться и задуматься, то начинаешь понимать, что в нем много горечи и, похоже, правды. Наши, свои – это для стаи. Человек всегда один. Художник – один вдвойне. Это не похвала, это констатация.
Не случайно именно Довлатов, говоря о лагере, сказал, что «ад не вокруг нас, ад в нас самих». Добавлю: у каждого свой.
Но Сергей как раз обладал талантом превращать ад если не в рай, то по меньшей мере в трагикомедию. В его рассказах, даже при самых мрачных темах и сюжетах, всегда есть свет, свободное, открытое пространство, остается возможность дышать.
И даже его шутки, вроде таких, как «железный поток сознания» или «комплекс полноценности», отнюдь не свидетельствуют о монолитности. «Гетеанство» было ему явно чуждо.
Однажды Довлатов, как всегда очень смешно, рассказывал о своем знакомстве с Шевцовым, автором романа «Тля» (на самом деле это оказался другой Шевцов, журналист).
На каком-то литературном вечере отец подвел его к Шевцову и представил:
«Мой сын – пародист».
По-моему, Сергей был несколько обижен подобной рекомендацией. Но я думаю, что это определение совершенно непреднамеренно для его автора оказалось очень точным. И вот в каком смысле.
Жизнь, да и сам человек – не более чем пародия на изначальный план, идеальный образец, так сказать, первообраз, спущенный сверху.
Сергею Довлатову удалось в своих рассказах передать именно это искажение, извращение образца, реально существующее влечение к отчуждению от первообраза. Довлатов не сочиняет «пародию», она у него перед глазами. Он просто делает зарисовку с натуры. Виноват ли автор, если натура оказывается пародией на саму себя? Секрет довлатовского обаяния, обаяния мастера, в том, что он замечает это раньше других.
Любое слово сомнительно. Слово об умершем всегда неправда, результат обратного воздействия, воздействия смерти. Она накладывает свой отпечаток как на лицо, лик умершего, так и на рожу или харю вспоминающего.
Слово пасует перед фактом смерти. Смерть, возможно, преодолима, но сам факт – число, месяц, год, имя – это уже неизменно. Отсюда возможные неточности или несоответствия.
Ко всему сказанному мне хотелось бы добавить одну маленькую сценку. Двигаясь по Невскому, мы встретили у «Баррикады» Иосифа Бродского. Я не был с ним знаком. Довлатов меня познакомил.
«Мой приятель Боря Рохлин. Пишет рассказы».
Но Бродскому было в тот момент не только не до приятелей, но и не до самого Довлатова. Он пребывал в несколько экстатическом состоянии.
Оказалось, что в этот день, буквально вот-вот, у него родился сын. Бродский, не обращая никакого внимания на нас, практически не видя нас, уселся вдруг на ящик, валявшийся у кинотеатра, задрал голову и уставился в небо. Поток людей, на мгновение словно споткнувшись, затем плавно, неторопливо стал обтекать с обеих сторон это неожиданное препятствие.
Я думаю, это и был его звездный час. Жаркий летний день, высокое теплое небо с редкими облаками, легкими, почти прозрачными… Так мы и расстались с ним, сидящим на этом ящике, обращенным лицом к небу, двинувшись в поисках неизвестного, ожидавшего нас.
Как принято говорить, никто не знал своего будущего.
Один умер. Другой стал лауреатом. Скучная история.
Увы, невозможно оставить Бродского вечно сидящим на винном ящике с задранной головой, а Довлатова вечно идущим по Невскому проспекту…



![Книга Геймер[СИ] автора И. Печальный](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)