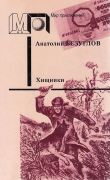Текст книги "Путь отважных"
Автор книги: Сергей Баруздин
Соавторы: Михаил Коршунов,Юлий Анненков,Амирхан Шомахов,А. Безуглов,Ник. Суровцев,Иосиф Курлат,Г. Юркина,Сергей Омбыш-Кузнецов,Э. Теосян,Василий Великанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
– Vorwärts! – и показывает на Витю.
* * *
…Среди цветов, которые люди положили тогда зимой на площадь, был ещё пионерский вымпел с надписью: «Мы никогда не забудем вас!»
* * *
Ложатся на море звёзды, кладёт щёку луна.
Где-нибудь на корабле радист крутит радиоприёмник, и в тишине города то пролетит обрывок песни, то шелест далёких туч, то вспыхнут, загорятся струны скрипок.
Недалеко от моря стоит бронзовый памятник двум бесстрашным разведчикам.
Памятник поставили девчонки и мальчишки, которые сейчас живут в этом городе.

В. Великанов
РАНЕНАЯ СКРИПКА
Рисунки Е. Ванюкова.

На Кавказской шла большая посадка. В вагон входили транзитники из Ставрополья, местные станичники, командировочные, которых в эту хлопотливую уборочную пору немало бывает в кубанских станицах. Мимо нашего купе проплывали огромные чемоданы, сетки с душистыми яблоками, озабоченно сновали пассажиры, потому что невозможно проехать мимо Кавказской, чтобы не купить огромный арбуз или пяток ароматных дынек-«колхозниц».
В дверях нашего купе показался инвалид. За плечами у него мотался армейский сидорок, в руке был новенький, только из магазина чемодан.
– Вот что, товарищи, – усаживаясь рядом с нашим попутчиком, студентом, сказал инвалид, – уж не взыщите. Кого-нибудь из вас я побеспокою. Неловко мне на второй полке своей культёй махать.
– Пожалуйста, папаша! – засуетился студент и начал перекладывать свои пожитки на вторую полку.
– Видите ли, в расход вошёл, купейное место взял, – продолжал инвалид. – Что ж, думаю, хуже других я, что ли?! На выставку еду! Спасибо тебе, сынок.
Поезд тронулся. Вагон угомонился. Проводница постелила инвалиду постель, и он, покончив со своими дорожными делами, заскучал.
– Ты, молодой человек, никак студент? – повернулся инвалид к нашему спутнику.
– Студент.
– Домой или из дому путь держишь?
– Из дому. К старикам в Туапсе ездил.
– А учишься где?
– В Москве.
– В Москве – это хорошо! – одобрил инвалид. – Вот я тоже в Москву еду. Хоть рассмотрю её по-настоящему. А то в сорок первом, когда эта самая петрушка со мной приключилась, – он показал на деревяшку, – что там можно было увидеть? Эвакопоезд, вокзал. На автобусе два раза по каким-то улицам провезли. Вот и всё. А потом дальше, в Горький. Ну, теперь-то я своё возьму!
Инвалид расстегнул пиджак, отколол от бокового кармана булавку и достал сложенную втрое бумагу.
– Вот, по путёвочке еду. От артели. На Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Всё как полагается. Дорога оплачена. Суточные, квартирные…
Инвалид принялся рассматривать документы. Видимо, не часто приходилось ему ездить по столь ответственным служебным делам, и сам вид заштемпелёванных, плотных бумаг поднимал его в собственных глазах.
В купе стало тихо. Ровно гудели колёса.
За окном до самого горизонта дрожало в мареве иссушённое солнцем и ветрами жнивьё. Курились пылью степные дороги. Только изредка на жёлто-серой равнине горбились огромные скирды прошлогодней почерневшей соломы.
Инвалид щёлкнул прокуренным ногтем по путёвке и, словно продолжая давно начатый разговор, сказал:
– Электростанциями интересуюсь. Моторист я. – И, помолчав, обратился к студенту: – А ты, молодой человек, если не секрет, по какой специальности обучаешься? Не по моторам, часом?
– Да нет, редкая у меня специальность, – почему-то смутился студент. – Я в консерватории учусь. По классу кларнета. Это такая труба… вроде рожка…
– Так ты ж, сынок, хорошему делу учишься, а будто стыдишься. Людям без музыки никак жить нельзя. Эх ты, чудак человек! Я и то всюду свою музыку вожу. – Инвалид проворно повернулся к своему чемодану. – Если, конечно, не возражаете… – добавил он и, не дожидаясь ответа, щёлкнув ключиком, открыл крышку.
В чемодане, рядом с домашними ватрушками и банкой с маслом, завёрнутая в пёструю ситцевую тряпицу, лежала скрипка. Инвалид развернул её, обтёр и приложил к подбородку.
– Вот, скажем, вальс у меня любимый! – произнёс он мечтательно и занёс смычок.
По вагону поплыли, заплескались «Дунайские волны».
В двери нашего купе уже заглядывали пассажиры. Инвалид преобразился. Зажмурившись’, он раскачивался в такт вальса, и при этом лицо его меняло выражение в зависимости от мелодии: то хмурилось, то освещалось улыбкой.
Вдруг инвалид опустил смычок и обернулся виновато к проводнице:
– Может, нельзя? Беспокойство пассажирам?
– Играй, отец, играй! Какое же от музыки беспокойство!
Мы слушали «Лунную сонату», «Жаворонка», «На сопках Маньчжурии».
– А инструмент-то у вас старенький, – заметил студент, когда инвалид опустил скрипку на колени. – Вот в Москву едете, новую бы купили.
– Нет, парень, её я ни на что не променяю. Это о человеке память. Видишь, пулей пробита. Залатал, отшпаклевал…
Все по очереди рассматривали раненую скрипку.
– С сорок второго года, с этой вот поры, с августа она у меня.
И наш новый знакомый рассказал историю раненой скрипки.
– Вот в таком виде, – рассказчик кивнул на свою деревяшку, – выписали меня из госпиталя. А родом я из Усть-Лабы. Домой приехал весной. Начал себе дело в колхозе присматривать. Калека – это же не специальность! А тут немец под Миллеровом прорвался. Да как стал жать! Через Шахты, через хутор Весёлый, через Пролетарскую на Краснодар да на Кавказскую как повалит!
Места ровные. Нашим зацепиться негде. Сушь. Дороги накатаны. Вражьи танки так и пылят.
У нас в Лабе эвакуация началась. А мне-то как на одной ноге от танков прыгать? Ну, а они тут как тут. На броне львы да слоны намалёваны. Пехота ж вступила – срам один. Солдаты в коротких штанишках. Волосатые ноги так и мелькают. Из Африки войска-то были. Как по-ихнему радио передавали, «доблестного фельдмаршала Роммеля». Глядим – свеженькие. Видно, не шибко давал им англичанин прикурить в этой самой Северной Африке.
В России, выходит, впервые, а порядок свой знают. Сразу приказов на заборах понаклеили: большевикам, дескать, комиссарам и командирам явиться на сборные пункты военнопленных; евреям – на регистрацию к раввину – это к еврейскому попу. Много ещё всякого понаписали: больше трёх человек не собираться, после десяти вечера из дому не выходить, за станицу не выходить. И что ни приказ – всё словом «расстрел» кончается.
Ну, и, конечно, началось. Что ни день, только видишь: то одного, то другого в гестапо волокут. Это у них называлось в «законном порядке». По станице пальба идёт. Уцепится баба за своего гуся, не даёт бесштанному мародёру, а тот чесанул из автомата и пошёл. Да что там! Один мальчонка змея из ихней фашистской листовки склеил, так и мальчонку и мамашу на месте пристукнули.
Так вот с этой самой скрипкой. Работал в нашей станичной больнице хирург Пикензон. Хороший человек был. Прямо сказать, безотказный. В ночь, полночь приходи – примет. Все его у нас знали. Кому язву желудка вырезал, кому аппендицит. А сколько мальчишек через его руки прошло! Не счесть! Один на бутылочное стекло напоролся, другого ногу сломать угораздило, третий с рогаткой добаловался.
И вот по станице слух прошёл, что арестовали Пикензона. Говорили, что привели его в немецкий штаб и приказали, чтоб он их раненых лечил. А Пикензон отказался. «Не буду, – говорит, – у вас свои доктора есть. У меня русских больных полно».
Как-то утром бегут по дворам полицаи – это из нашей станичной сволочи уже нашлись, – стучат в двери и приказывают на площадь идти.
Согнали нас. На площади виселица стоит. Вокруг короткоштанные расхаживают, зубы скалят.
Потом слышим, по толпе покатилось: «Ведут! Доктора ведут!» Гляжу – идёт под охраной Пикензон, а рядом сынишка его, Муся, мальчонка лет четырнадцати. Справненький такой, волосы чёрные, чёлочкой подстрижены, чёрная курточка из бархату на нём старенькая.
Шумок в станице пошёл. Ну, доктор лечить немчуру отказался, а мальчонку-то почто убивать? А тут бабы и говорят – они всегда больше всех знают, – будто пришли немцы Пикензона забирать, увидели мальчишку и загалдели: «Этого щенка тоже повесить надо. Он, наверное, как их называют, пионер!»
Словом, ведут их. Толпа расступается. Пикензон голову высоко держит и народу кланяется, прощается. А мальчишка, представляете, вот с этой самой скрипкой идёт. Ну, а бабы тут сразу объясняют: в музыкальной школе, мол, мальчишка до войны учился, на вечерах перед своими одногодками выступал, бывало, и перед колхозниками.
Привели. На помост поднялся их оберст, начальник, значит. Серебряные черепа на бархатных петличках – гестапо. Достал бумагу и стал читать по-немецки. А полицай переводит: «Казнить Пикензона как большевика и саботажника».
Оберст кончил читать и что-то солдатам крикнул.
Тут мальчонка, этот самый Муся, к нему обращается по-немецки. И вежливо так.
Учительница рядом со мной стояла, перевела: «Господин полковник, разрешите мне перед смертью сыграть на скрипке».
Оберст улыбнулся: «Коль в тебе такая блажь завелась, играй, если весело».
Мальчонка, словно в клубе на сцене стоит, по волосам рукой провёл, поднёс скрипку к подбородку и заиграл. Я стоял близко и видел его, ну прямо, как вас сейчас вижу. Взял он первую ноту, а у самого губы дрожат. Переживал, значит. Поначалу я не догадался, что он играет. Думал, от страха его передёргивает. А как несколько раз по струнам прошёл, понял, что не с того мальчонку в дрожь бросило.
Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой вести готов.
Инвалид пел. Голос у него был слабый, надтреснутый. Но как проникновенно звучал он в уютном курортном вагоне, который, мягко покачиваясь, проплывал по кубанской степи!
– Оберста передёрнуло, – продолжал инвалид. – «Свинья! Щенок!» – завопил он и бросился к мальчику.
Но Муся, не отрывая взгляда от толпы, всё играл.
Станичники зашумели. Сначала чуть слышно, потом всё громче и громче над площадью поднялась наша песня:
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим.
Кто был ничем, тот станет всем.
Оберст сорвал с плеча солдата автомат и брызнул на мальчишку струёй пуль. Тот покачнулся, но продолжал играть.
Оберст выстрелил ещё раз. Муся упал, а его скрипка скатилась с помоста к моим ногам. Я схватил её и спрятал под пиджак.
Толпа продолжала петь. Разъярённые гестаповцы бросились на людей. Поднялась стрельба. Я прижал скрипку к груди и поскакал домой.
С тех пор я играть научился, – закончил свой рассказ инвалид. – Сначала «Интернационал» подобрал…
Стало тихо-тихо. В дверях купе стояло полвагона.
Студент бережно, как живое существо, взял из рук инвалида скрипку и передал её сержанту. Раненая, подлеченная, она переходила из рук в руки.

А. Безуглов
ДОРОГА НА КАМЕНСКИЙ ХУТОР
Рисунки Б. Коржевского.

Обер-лейтенант Крихер лежал на телеге и не отрываясь смотрел в небо. Под колёсами поскрипывал песок, тощая лошадёнка в такт шагу покачивала головой. Солдаты, шагавшие за телегой, переговаривались негромко и неохотно.
Тишина раздражала Крихера. Она казалась ему обманчивой и предвещавшей роковой конец его батальону.
«Батальон… – с горечью думал офицер. – Усталых, с трудом бредущих людей не наберётся и на хорошую роту…»
Тишина прервалась далёкой артиллерийской канонадой. Всё-таки это было лучше, чем тишина, – она обессиливала и действовала на нервы.
Но уже через несколько минут отзвуки боя стали раздражать его не меньше, чем тишина. Хотелось зарыться с головой в солому, зажать уши и не думать, ни о чём не думать. Но разве можно приказать мыслям не лезть в голову?
Командир батальона Ганс Крихер встал и огляделся. Узкая дорога зигзагами петляла по лесу. Лес был большим и густым. Ещё недавно немцы не смели тут показываться. Здесь действовал партизанский отряд, которым руководил секретарь подпольного Черниговского обкома Фёдоров.
Но теперь отряды Фёдорова ушли далеко в тыл немцев.
Под колесом хрустнула ветка. Ганс схватился рукой за кобуру и почувствовал, как мурашки побежали по затылку, и холодный, липкий пот выступил на лбу. Кавалер железного креста первого класса и знака «За храбрость в рукопашном бою» Ганс Крихер, ещё недавно кичившийся своим богатырским здоровьем и стальными нервами, смертельно струсил. Собственная трусость приводила его в ярость. Вот и сейчас он почувствовал, что злость подкатила ему к горлу и стало даже трудно дышать.
– Я им ешё покажу, – жёлчно процедил обер-лейтенант.
«Им» – значило всем русским, всем советским.
К телеге подбежал ефрейтор, здоровенный детина, с огненно-рыжими волосами и бесцветными, неподвижными глазами.
– Господин обер-лейтенант, – простуженным тенором сказал он, – смотрите, – и указал рукой вперёд.
Офицер нервно схватил бинокль. Он думал, что сейчас увидит партизан, но впереди, на небольшом пригорке, виднелась только мирная деревушка. Крихер вытащил из планшета карту и стал разглядывать её.
– Ба-ра-нов-ка, – прочитал он. – Хорошо, ефрейтор. Здесь, – он указал в сторону деревни, – возьмём лошадей и запасёмся продовольствием.
– Господин обер-лейтенант, – возразил ефрейтор, – мне кажется, что в деревне никого нет. Во всяком случае, в бинокль я не заметил никакого движения.
Крихер молчал. Ему уже приходилось бывать в таких деревнях. Население, узнав о приближении отряда, уходило в леса, забирая с собой весь домашний скарб и скот. В такой деревне можно было, обойдя все дома, ничего не найти, кроме голых стен. Но ещё хуже, если там партизаны…
Капитан внимательно разглядывал деревню в бинокль. Ефрейтор был прав: деревня казалась вымершей…
* * *
…Староста в Барановке был не из местных. Он появился в селе перед самым приходом немцев. Поговаривали, что до войны он сидел в тюрьме, а предложил немцам свои услуги сам. Его сторонились и, когда встречали на улице, переходили на другую сторону.
Он чувствовал, как относятся к нему в деревне, и в долгу не оставался: рьяно выполнял все приказания немцев и всех трудоспособных каждый день сгонял на работу.
Особенно доставалось от него Марии Петровне Молчановой. Староста заходил к ней в избу и, не снимая шапки, садился к столу.
– Значит, отказываешься работать?! – сверлил он женщину юркими, маленькими глазками. – Саботаж? А за саботаж – к стенке!
Трёхлетний Петя всхлипывал и начинал плакать. Десятилетний Вася и маленькая Нина жались к юбке матери.
– Как же я работать пойду, – тихо говорила Мария Петровна, – детей у меня сколько, да мать-старуха больная, уже три года не встаёт.
У Ирины Андреевны был ревматизм, и она действительно не могла ходить. Тяжело ворочаясь на кровати, она шептала:
– У, ирод горластый! Подожди, накостыляют тебе по шее. Ишь, герой выискался – с бабами воевать!
– Душ-то вас сколько? – не унимался староста. – Ты, твоя мать и щенят четверо. И никто не работает?
– Коля работает, – тихо отвечала Мария Петровна.
– Работы на грош, а сожрёт на рупь. Все вы только жрать горазды…
После этого староста ещё долго и громко ругался, потом, не попрощавшись, уходил. Дверь он захлопывал с такой злостью, что стёкла в избе звенели и, казалось, вот-вот вылетят.
Тринадцатилетний Коля, старший сын Марии Петровны, работал наравне со взрослыми. И чего только не приходилось делать ему: и землю пахать, и сеять, и косить, и стадо пасти. Вот только учиться нельзя было. И, встречая на улице свою старую учительницу, Лидию Константиновну Мартыненко, он всегда спрашивал:
– Скоро?
– Скоро, Коля, скоро, – неизменно, отвечала Лидия Константиновна.
И Коля верил ей. Верил, что скоро придёт Советская Армия! Вот уже до Барановки, затерянной в лесах, доносится гул орудий. И эти звуки всё ближе и ближе. Впервые за несколько лет на лицах людей появляются улыбки, и всё чаще и чаще слышится произносимое с любовью слово: «наши».
Староста ходит мрачнее тучи. Чует, что конец его хозяевам приходит.
Чует-то чует, а примириться с этим не хочет. Недавно опять пришёл к Молчановым.
– Вот что, Марья, я лошадь у тебя отберу.
Мария Петровна молча слушала его, качая уснувшего Петю.
– Толку с вас никакого, – продолжал староста. – Сама говоришь: работать у вас некому. Тогда вам и лошадь ни к чему.
– Как же без лошади-то? – слабо пыталась возразить женщина.
– А вот так-то!
Мать слышала, как староста возится во дворе, отвязывает лошадь. А потом всё затихло.
– Ничего, Маша, ничего, – успокаивала её бабушка Ирина, – на нашей лошади этот ирод от казни не убежит.
А вечером в избу к Молчановым кто-то тихо постучал.
– Это я, Денис Прозоров, – раздался приглушённый шёпот.
Деду Денису было лет шестьдесят. Его изба стояла рядом с избой Молчановых. Он был одинок и частенько заходил к соседям. «Люблю с ребятишками поиграть», – извиняющимся тоном говорил он в таких случаях.
– Немцев-то бьют, Марья, – сказал он, присаживаясь к столу. – Видать, здорово бьют. Драпают они шустро.
– Так им и надо! – не удержавшись, крикнул Коля.
– Тише, ты! – Денис стал серьёзным. – Дело-то вот в чём. Они, гады, драпают, да напоследок память о себе злую оставляют: деревни жгут и людей убивают.
– Что же делать? – с испугом спросила Мария Петровна.
– А ты погоди, дай досказать. Придётся всей деревней в лес податься. Туда они не сунутся. Леса они, как лешего, боятся. Так вот, стало быть, завтра мы и махнём в лес и с собой всё возьмём, чтобы им не досталось.
Дед погрозил невидимому врагу кулаком.
– А как же я? С ребятами, с матерью больной? Как до леса-то доберусь? Староста коня увёл.
– Знаю. У меня тоже лошадь забрали. Ну, да это дело наживное. Я вот что придумал. У меня бычок есть. Здоровый, шельмец. Я его запрягу в подводу.
– А как же мы?
– Подвода у тебя осталась?
– Осталась.
– Ну вот. К первой подводе привяжем вторую. На первую малышей посадим. А на вторую – бабушку Ирину. Николай присмотрит. Он вишь как вымахал, настоящим мужиком стал.
Назавтра, с самого утра, одна подвода за другой потянулись в лес. Бычок деда Дениса, будто чуя свою ответственность, прилежно тащил две телеги. Николаю стало жалко его. Когда начался подъём, мальчик стал подталкивать телегу сзади.
Поздно вечером подводы остановились в лесу. Ребята разожгли костры, а старики построили шалаши. Потом односельчане долго сидели у огня, вспоминали мирные годы. Слышен был шум деревьев, раскачиваемых ветром, и редкий плеск рыб в тихой воде речки Снов – до неё было каких-нибудь пятьдесят метров. Стемнело и стало холодно. Гас один костёр за другим, и скоро весь лагерь, кроме дежурных, погрузился в сон. Всё казалось застывшим, и только пожелтевшие листья слетали с деревьев, с тихим шелестом ложились на землю.
Встали рано – привычка. Все понимали, что сегодня предстоит день, полный неожиданностей. Может быть, радостей, а может быть, и тревог.
Часов с девяти стало пригревать солнце, и, хотя был конец сентября, день выдался не хуже летнего. И Коля Молчанов вместе со своим дружком Петей вышли на поляну, разделись и стали загорать.
– Может, Петь, пойдём искупнёмся? – предложил Николай.
– Холодно. Этак и застудиться недолго.
– Да мы только разок окунёмся, и всё.
– Холодно, – повторил Петя, – купаться уже нельзя.
Он был старше Николая на два года, но выглядели они ровесниками.
– Что ж, мы так и будем целый день лежать? – спросил Коля, которому долго не сиделось на одном месте. И вдруг предложил: – Сходим в деревню. Посмотрим, как там дома. Может, и наши уже пришли. А то просидим здесь до тех пор, пока и война кончится.
Это предложение пришлось Петру по душе, и уже через несколько минут они шагали по направлению к селу.
Барановка была пуста. Тишина, царившая здесь, напомнила Коле сказку о сонном царстве, которую ещё маленьким слышал от бабушки.
Они зашли в избу к Молчановым. Ещё день назад эта изба была полна детских голосов, теперь она казалась погружённой в глубокий сон.
– А может, и уходить отсюда не стоило? – сказал Коля. – Вдруг немцы вообще пройдут стороной…
– Вот они! – испуганно шепнул Петька, стоящий у окна, торопливо приседая на корточки.
В Барановку входил батальон Крихера.
– Петька, бежим.
Но Пётр, казалось, не слушал друга и пристально разглядывал немцев. Коля почти силой оттащил его от окна. Они через окошко вылезли во двор и побежали к опушке леса.
«Если немцы нас заметят, – думал Коля, – то обязательно начнут стрелять».
Наверное, об этом же думал и Петя, но оба бежали во весь рост, не пригибаясь.
И вот уже первые деревья леса обступили их со всех сторон, а они всё бежали и бежали. Хотелось скорее предупредить остальных. Когда они наконец прибежали к лагерю, так запыхались, что первые несколько минут не могли сказать ни слова.
– Вы что, хлопцы, соревнование устроили? – пошутил Денис Прозоров.
– Дедушка Денис, – так и не отдышавшись, закричал Коля, – немцы в деревне!
– Немцы в деревне! Немцы в деревне! – через минуту разнеслось по всему лагерю.
Все понимали, что ушли недостаточно далеко от села и что немцы легко смогут найти их.
Люди с лихорадочной быстротой запрягали лошадей, укладывали вещи на подводы.
Коля побежал к стаду. Бычок деда Дениса пасся вместе с коровами и овцами. Стадо, как будто чуя опасность, заволновалось. А на бычка вдруг напала охота поиграть, и он всё время убегал от Николая.
Когда мальчик наконец привёл бычка к телегам, остальные колхозники уже переправлялись через Снов. На том берегу реки возвышался небольшой холм, за которым и скрылся обоз.
В тот момент, когда бычок вступил в речку, где-то позади телег раздался неожиданный залп. Один. Второй.
Бычок, испуганный выстрелами, резко рванул с места. Верёвка, которой были связаны телеги, не выдержала – лопнула.
Мария Петровна хотела было соскочить с повозки, но потом решила, что проще переправиться через реку на одной телеге, а затем вернуться с бычком и перевезти вторую повозку, в которой остались Коля и больная бабушка Ирина.
Но не успела мать добраться до противоположного берега, как рядом с Колиной телегой остановился взмыленный конь обер-лейтенанта Крихера. Офицер был вне себя. В последней бумаге, полученной им из штаба полка, значилось, что батальон Крихера должен двигаться через село Блешня к хутору Каменскому, где собирались все уцелевшие части дивизии. Но этого проклятого села Блешня на карте не было. Не было на ней и никакой дороги между Барановкой и Каменским. Стояли лишь закорючки, обозначающие топи и болота.
Крихер соскочил с лошади и вплотную подошёл к телеге.
– Встать! Давай! Давай! Будешь проводник, – закричал он по-русски Ирине Андреевне.
– Не могу, ноги не ходят. Три года уже. Больна.
– Ничего, – криво усмехнулся Крихер, – я имейть лекарство: пиф-паф!
Он не торопясь начал расстёгивать кобуру. Достав пистолет, капитан направил его на старуху, и Николаю показалось, что дуло пистолета коснулось головы бабушки.
– Ну, вставать! – крикнул офицер.
Глядя фашисту прямо в лицо, Ирина Андреевна повторила:
– Не могу! Понимаешь, ноги не ходят. – Она показала на ноги.
Уголок рта офицера стал подёргиваться, и Николай почувствовал: ещё минута, и курок будет спущен.
– Господин офицер, – отчаянно закричал Коля, – она правда больна!.. – И, боясь, что обер-лейтенант всё-таки спустит курок, Коля торопливо добавил: – Я буду проводник! Я покажу дорогу!
Офицер с минуту смотрел на мальчика оценивающим взглядом, потом спросил:
– Дорога на Каменский хутор знать?
– А как же! Конечно, знаю.
– Хорошо, очень хорошо. – Офицер был доволен. – Марш!
Он сказал что-то по-немецки здоровенному рыжему ефрейтору. Тот слез с лошади и зашагал рядом с Николаем.
Вызвавшись показать немцам дорогу, Коля думал только о спасении бабушки. А теперь, шагая впереди отряда рядом с рыжим ефрейтором, он никак не мог решить, что же делать дальше. Ясно было одно: вести немцев в Каменский хутор нельзя.
«Удеру! – думал он про себя. – Как стемнеет – удеру! А пока буду водить их по лесу. Лес большой, тут месяцами ходить можно. А удрать-то как? Этого рыжего, наверное, нарочно ко мне при ставили. Сейчас он на меня и не смотрит, а как стемнеет, глаз не оторвёт, а может, ещё и руки свяжет».
Коля осторожно обернулся и стал рассматривать отряд. Впереди тащился десяток подвод, на которых сидели солдаты. За ними на конях ехало еще человек двадцать. Остальные шагали по дороге. У многих в руках были свежесрубленные палки. Вот и рыжий ефрейтор на минуту отстал, а потом догнал Колю, помахивая увесистой дубинкой. Он погрозил ею мальчику и ребром ладони провёл себе по горлу.
Коля понял.
«Хочет сказать, что если дорогу не покажу, то мне капут. Как бы тебе самому капут не пришёл», – с неожиданной злостью подумал мальчик.
А отряд шёл и шёл. Время от времени к Коле подъезжал офицер и строго спрашивал:
– Дорога правильно? Нет заблуждение?
В ответ Коля только отрицательно качал головой.
Стало смеркаться, но солдаты шагали и шагали не останавливаясь.
Обер-лейтенант снова подъехал к мальчику.
– Где Каменский? – зло спросил он. – Как скоро?
Коля знал, что сейчас до Каменского хутора было дальше, чем утром.
– Нет, ещё не скоро, – стараясь казаться как можно спокойнее, ответил он.
– Как – не скоро?!
– Так я же вас веду хорошей дорогой, – начал выпутываться Коля. – А если прямо идти, чтобы быстро… Так там дорога плохая.
– Поворачивай на плохую! – крикнул офицер.
«Пора удирать!» – подумал Николай, и, когда ему показалось, что ефрейтор не смотрит за ним, он быстро нырнул под первую телегу. Как ящерица, прополз под ней, и – под вторую.
Но сильная рука вытащила его из-под телеги и поставила на ноги. Ефрейтор отступил на шаг, с силой ударил мальчика дубинкой по спине. Рассечённую кожу жгло нестерпимо. Но Коля улыбнулся. Нужно было сделать вид, что он вовсе не собирался бежать, а произошло недоразумение.
Коля показал ефрейтору куда-то под телегу и объяснил:
– Нож… мессер. Уронил.
Ефрейтор выругался и снова ткнул Колю дубинкой в плечо. Но на этот раз не больно, а так, на всякий случай.
И вот снова он, пионер Коля Молчанов, идёт впереди немецкого отряда.
Дорога становилась всё уже и уже. Под ногами захлюпала вода. Коля почувствовал озноб и усталость. Босые ноги коченели и болели.
Сзади послышались крики. Застряла одна подвода.
– Эй, проводник! – послышался над головой голос офицера. – Где есть Каменский хутор?
– Скоро, – ответил Коля. – Плохой дороги мало осталось. Километр. А дальше хорошая.
Отряд двигался дальше. Коля никогда прежде не бывал в этих местах, но догадывался, что они идут по «Царёвому урочищу» – огромному, на десятки километров болоту.
Глухо прозвучали слова команды. Солдаты начали бросать под ноги шинели, шагая по ним.
«Ничего, ничего, – думал Коля, – урочище большое. Шинелей не хватит».
– Проводник! – донеслось из темноты. – Как долго ещё болото?
– Чуть-чуть, – ответил мальчик, – метров сто…
Солдаты ползли вперёд, по шинелям, они верили, что ещё немного, ещё чуть-чуть, и они выберутся из этого проклятого места. Рыжий ефрейтор споткнулся о кочку и уронил автомат в трясину. Чертыхаясь, он присел на корточки, держа в одной руке фонарь и шаря другой под ногами.
Коля почувствовал, что на него никто не смотрит. Он легко прыгнул в сторону на кочку, с неё – на другую. Казалось, сразу исчезла боль в ногах и даже спину как будто перестало жечь. Совсем рядом в темноте раздались выстрелы. Фашисты спохватились. Тишину прорезали автоматные очереди. И долго ещё свистели пули, срезая ветви над головой.
…Когда Коля добрался до родного села, уже светало.
Несмотря на ранний час, никто не спал. Все были на улицах.
И Коля, кроме своих родных и односельчан, увидел людей в защитной форме и с красными звёздочками на пилотках.
– Наши! – закричал он во всё горло. – Наши!
… А через несколько часов советский отряд, вступивший в деревню, пробирался к «урочищу Царёво», где барахтались в паническом страхе немцы, и вёл этот отряд пионер Коля Молчанов.
* * *
С тех пор прошло немало лет. Колю Молчанова уже редко кто называет Колей, а величают Николаем Николаевичем. Он работает лесорубом в подсобном хозяйстве лесхоза. Односельчане уважают его за трудолюбие, за рассудительность и справедливость.
О своём подвиге Николай Николаевич не любит рассказывать, разве только если попросят пионеры из школы.
По-прежнему на пригорке стоит село Барановка, только домов стало больше, да вместо старых появились новые; по-прежнему шумят деревья, раскачиваемые ветром, и рыбы плещутся в тихих водах Снова; по-прежнему узкая песчаная дорога прорезает Черниговские леса, а когда едешь по ней ночью и свет фар тускло освещает её, кажется, что она покрыта снегом. Весело играют в селе ребятишки, которые никогда не слышали артиллерийской канонады, не видели врага, топчущего сапогами родную землю.

Ник. Суровцев
ТРИДЦАТЬ КРУГОВ
Рисунки О. Шухвостова.

Метель налетела сразу. Шура нагнулся поднять варежку. Голую руку больно хлестнули ледяные иглы позёмки. Небо быстро мрачнело, тьма, казалось, неслась отовсюду.
Овцы перестали щипать траву, пятились, беспокойно оглядывались. Надо было быстро возвращаться к кошарам. В буран легко растерять овец – рассеются они по огромной, не знающей края степи, замёрзнут, станут лёгкой добычей голодных волчьих стай.
Овцы не слушались подпаска. Объятые слепым страхом перед летящим со всех сторон снежным вихрем, они сбивались в кучу, кричали, и жалобный крик этот пропадал в крепнущем вое метели. Сейчас они кинутся прочь за одной какой-нибудь овцой, и тогда прощай отара – лишь летом, среди желтеющих трав увидит кто-нибудь в степи обглоданные косточки.
– А где же Терентьев? – Шура оглянулся, всматриваясь в полутьму.
Никого не было видно. Чабан, недавно ушедший с охромевшей маткой к кошарам, ещё не возвращался.
Мальчик закричал.
Сейчас он совсем не думал о себе. Гибнет на глазах отара, а он стоит рядом и ничем не может помочь.
Тогда он решил попытаться сделать то, что делают в таких случаях взрослые, сильные чабаны. Он кинулся к старой крупной матке, схватил её за густую шерсть и дёрнул в сторону – туда, где лежал обратный путь к кошарам. Овца сильно трясла головой, злобно косила глазом, рвалась из рук. Силы её, подстёгнутые страхом, удвоились. Ноги мальчика скользили по гладкому насту, буран больно бил в лицо, застилая глаза плотным слепящим вихрем.
– Нет, – шептал Шура, задыхаясь и всё крепче сжимая влажную, густую шерсть, – не будет по-твоему.
Ноги мальчика упёрлись во что-то твёрдое. Собрав все силы, он резко рванул овцу на себя и упал, не выпуская шерсти из судорожно сведённых пальцев. Овца дрогнула и остановилась.
Рывком подобрав ноги, Шура вскочил и потащил матку за собой, всё быстрее и быстрее. Овцы помедлили и плотной массой пошли следом.
Шура облегчённо вздохнул и, освободив руку, протёр залепленные снегом глаза.
Теперь оставалось одно: продвинуться немного вперёд. Утром неподалёку работал снегопах, расчищая снег, и по его глубоким следам можно легко найти путь к кошарам.




![Книга Индийские волшебные повести [М. Амман : Сад и весна Н. Лахори : Роза Бакавали Х. А. Ашк : Цветник Чина ] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-indiyskie-volshebnye-povesti-m.-amman-sad-i-vesna-n.-lahori-roza-bakavali-h.-a.-ashk-cvetnik-china--272100.jpg)