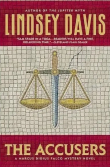Текст книги "Пропавшие среди живых (сборник)"
Автор книги: Сергей Высоцкий
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
19
Машину пришлось оставить в деревне: к домику путевого обходчика вела лишь узенькая тропинка – двоим не разминуться. Полина Степановна вывела Корнилова на деревенские задворки, к длинному, под черепичной крышей зданию скотного двора.
– По этой вот тропке пойдете, не заблудитесь. Как раз к чугунке приведет, к Лехиному домику. Это он и протоптал. В лавку часто бегает.
Поблагодарив Полину Степановну, Корнилов пошел по тропе, петлявшей среди стылых кустов по краю глубокого оврага. Потом кончились и кусты, и овраг, и тропинка пошла по полю. Корнилов увидел маленький, желтого цвета домик путевого обходчика. Слева от тропы у большого стога стояла лошадь, запряженная в сани. Две женщины укладывали на воз сено.
Спокойный тихий день, безмолвные поля, какая-то умиротворенность, словно пропитавшая морозный воздух, вдруг напомнили ему детство. Светлые и наивные мечты о будущем. Неужели эти мечты ни у кого так и не сбываются? На всю жизнь остаются лишь несбывшимися мечтами, придающими минутам воспоминаний легкий привкус горечи? Неужели никогда уже не ощутить вновь того, что было? Того, что когда-то уже пережил в детстве?
Вот этот снег… Корнилов смотрел на белые поля, на одиноко торчавшие среди снегов стожары и чувствовал, как холодок начинает проникать под одежду. Всюду холодный колючий снег. И только. А Корнилова временами беспокоило непонятное, тревожное чувство – нестерпимо хотелось вновь пережить одно, пожалуй, самое яркое, детское ощущение: только что выпал на теплую еще землю парной снег. Мать везет его на санках, и он, лежа на животе, смотрит на этот снег, такой свежий, такой белый, и земля, проступающая кое-где, кажется теплой и чистой. И пахнет чем-то свежий снег, и земля пахнет. А чем пахнет, Корнилову сейчас не вспомнить. И это самое мучительное. Кажется, что все такое же, как и в детстве: и земля, и снег, и погода. А сладостное чувство, тогда испытанное, вновь не приходит. Оно неуловимо. Корнилову часто снится этот сон из детства. Он просыпается с радостным ощущением – ну вот теперь-то, вот сейчас он поймет, почувствует и запах снега, и запах земли. Но это не возвращается.
«С годами мы не только приобретаем, – думал Корнилов, – но и утрачиваем многое. Приобретаем опыт, знания, характер. Утрачиваем что-то тоже очень важное, утрачиваем особое, не детское, нет, свежее восприятие мира. Между „было“ и „есть“ такая лежит граница, такая преграда, которую перейти невозможно. А наши воспоминания лишены плоти. В них солнце светит, но ты не можешь ощутить его тепла. Видишь заросшее кувшинками озеро, но не слышишь, как всплеснула рыба. Ветер воспоминаний не принесет с полей запахов свежескошенной травы…
Это прошлое. А будущее?
Ну что же мы можем сказать о своем будущем? Оно тоже без звуков, без запахов, всего лишь плоская умозрительная схема, словно макет нового города, запечатленный на черно-белой фотографии».
…Яростный лай собаки вывел Корнилова из задумчивости. Большой черный пес метался на снегу около дома. «Ну и псина, – подумал он. – Хорошо еще, что на цепи». Из комнаты сквозь подмороженное окошко глянул мужчина. Через минуту он уже стоял на крыльце и, прикрикнув на собаку, с интересом поглядывал на приближавшегося Корнилова. Был он крепкого сложения, круглолиц. На голове непокорный вихор рыжеватых волос.
«Вот он какой, Алеха Буйная Головушка», – вспомнив, как назвала Алексея Маричева Полина Степановна, усмехнулся Корнилов. Алеха был в одной тельняшке.
– Здравствуйте, хозяин, – поприветствовал его Игорь Васильевич, остановившись у крыльца.
– И вам здравствуйте, – весело отозвался Маричев. – Вы ко мне? Заходьте, гостем будете.
Он провел его через крошечные сени в комнату, предложил раздеться.
Корнилов сел на большую лавку около печки, огляделся. Комната была просторной, светлой, но совсем неубранной, неухоженной. На столе ералаш из грязной посуды, закопченная кастрюля.
Перехватив взгляд Корнилова, Маричев засмеялся:
– Ох, извиняйте! Приборочку не успел сделать. Не сдогадался, что гость из города пожалует. Своих-то зайцовских не робею…
Продолжая похохатывать, Леха достал из шкафа новенький пиджак, надел его прямо на тельняшку. Посмотрев на себя в зеркало, поплевал на ладонь и дурашливо пригладил вихры. Потом сел на стул напротив Корнилова и, нагнав на лицо сосредоточенность и строгость, сказал:
– Ну что, товарищ хороший, дело есть?
– Если нет возражений – поговорим?
Ему этот Леха понравился с первого взгляда. Такие у него были чистые, ничем не замутненные голубые глаза с какой-то дьявольской смешинкой, что Корнилов сразу подумал: «Недаром зовут его Леха Буйная Головушка. Вот уж, наверное, доставил он забот своим родителям. Да и деревенским девчонкам!»
– Я из Ленинграда к вам, из уголовного розыска, – начал Игорь Васильевич.
– Во! Была охота ездить! – неожиданно завопил Маричев и, вскочив со стула, забегал по комнате. – Ну дура баба! Совсем спятила, старая карга! Такую дорогу человека заставила проехать!
– Алексей Павлович! – сказал Корнилов, удивленно глядя на всполошившегося хозяина. – Чегой-то вы разбегались! Никто меня не заставлял к вам ехать, никто не жаловался на вас.
Леха моментально смолк и остановился около Корнилова:
– Не жаловались? А Лампадка Маричева, тетка моя, не жаловалась?
– Да не знаю я никакой Лампадки! – пожал плечами Корнилов. – Успокойтесь вы, ради бога. Чем вы ей досадили?
– Ха! Чем? – вздохнул Маричев и снова сел. – Эта Олимпиада – трехнутая совсем. Вам в деревне каждый скажет. Вбила себе в голову, что я у ней осенью все яблоки в саду слямзил. На машине ночью приехал и снял. «Чужой бы кто крал, – говорит, – так Полкан бы залаял. А раз не лаял, значит, Леха. Боле некому!» А мне эти яблоки – тьфу! Оскомина от них, – он улыбнулся. – Я их в детстве переел. Сейчас больше огурчики соленые уважаю. А что собака не лаяла – так откуда мне знать? Такая же старая, как тетка. – Он совсем успокоился, махнул рукой, будто отогнал все эти неприятные воспоминания. – Собаки-то меня и правда никогда не трогают. Даже незнакомые. Аж смешно… Вот выдумала Лампадка! Скоро новые яблоки вырастут, а она все грозится. – И без перехода спросил: – Так вы-то по каковскому делу ко мне?
– Алексей Павлович, вы Тельмана Зотова знали?
– Ну а как же! Знал. Корешили с ним в детстве. Не разлей вода были.
– А когда вы его видели в последний раз?
– И-и! В последний-то раз? – Алексей задумался. – Да, пожалуй, сразу после войны. В конце сорок пятого.
– Говорили с ним?
– Да так… «Жив, здоров Иван Петров!» Все на ходу. Встретиться сговорились. Ну и концы в воду… Ведь он теперь художник известный. Знаменит! В деревню нашу не заглядывает. Чего ж я набиваться буду? Приедет – приму как родного.
«Значит, и он не знает, что произошло, – подумал Корнилов. – Может быть, это и хорошо, расскажет все беспристрастно».
– Алексей Павлович, я вас очень прошу подробно рассказать мне все, что вы знаете о Тельмане и о его отце. О том, что произошло между ними в первые месяцы войны. Это очень важно…
Маричев пожал плечами:
– Столько времени прошло… – Потом вдруг забеспокоился: – А что случилось? Не секрет? Мужик-то он добрый. Мухи не обидит, не то что я…
Игорь Васильевич положил ему руку на колени и тихо, но настойчиво попросил:
– Расскажите, Алексей Павлович. По порядку… Я вам все объясню.
– Какой уж там порядок, – Леха как-то странно улыбнулся. – Прямо не знаю, с чего и начать. – Он встал со стула и заходил по комнате.
Корнилов не торопил. Сидел, приглядывался к Маричеву. Ему, видать, уже немало лет – много за сорок, а он подвижный, словно ртуть, энергичный. Удаль чувствуется во всех его движениях, в неспокойных глазах.
Леха вытащил из шкафа чекушку водки, два стакана. Поставил на стол. Виновато посмотрел на Корнилова:
– Эх, товарищ начальник, как вспомню то время, аж вот тут жжет. – Он стукнул себя кулаком в грудь. – Не откажитесь! У меня такие огурчики…
Корнилов нерешительно пожал плечами.
Леха вихрем метнулся в кухню. Там загремели кастрюли, что-то упало, а через минуту он уже ставил на стол тарелку с огурцами, хлебом, толсто нарезанным салом.
– Вы мне только самую малость, – попросил Корнилов, увидев, как решительно взялся за чекушку Маричев.
– Понятно! – весело сказал Алексей. – Это мы понимаем. И что ломаться не стали, за то уважаем.
– Все в общем-то из-за его имени тогда началось, – сказал Маричев после того, как они выпили. – Назвали Тельманом. Отец и назвал-то. В честь Эрнста Тельмана. Ну, мы, мальчишки, его все Телем звали. Тель да Тель. Я ведь с Телем в одном классе учился. Корешки. Тель без матери рос. Умерла его матка еще до войны от какой-то болезни. Вот такие дела… А фрицы пришли, едри их в корень, тут и началось. – Леха сморщился, будто от зубной боли, и начал со злостью тереть себе затылок. – Да ведь мы и не ждали их так рано! Все думали – пока сквозь наши леса продерутся! А они туточки. Да еще не с той стороны, откуда должны были, – от Сиверской припылили. Я с Телем как раз на прогоне, на бревнах сидел: все советовались, куда податься. Мой батя служил, а Николка Зотов, Тельманов отец, – хромоножка, его в армию не взяли. Так он никуда уходить из деревни не хотел. Все баял: не задержатся фрицы до зимы. Ну а мы с Телем хотели в Питер рвануть. Одни…
Сидим. Вдруг на прогон мотоцикл с коляской вылетает. Как дал на тормоза, аж занесло, только пыль столбом. Я гляжу: какие-то странные солдаты, головы будто пришлепнутые, ну прямо вровень с плечами. Ничего понять не могу, а Тель мне как саданет в бок. «Немцы, – говорит, – тикаем». Брык с бревен. Я за ним, да в бузину и напролом. А фрицы чегой-то заорали и с пулемета садить!
Какой кросс мы выдали! Куда там Валерию Борзову!
Отсиделись в гумне за деревней. Все боялись домой возвращаться, думали: а вдруг приметили нас фрицы. А ведь дома и корзинки со жратвой были собраны в дорогу.
К вечеру потихоньку огородами пришли в дом к Телю, а там немцы. Ну, угодили! Дядя Коля в кухне стоял, а рядом офицер. Как сейчас помню, держал он в одной руке бутылку. С вином, наверное, а в другой – тарелку с горячей картошкой. Пар от нее шел. Мы, как немца увидели, с порога назад. А отец возьми и крикни: «Тельман, сынок!» – Маричев закурил папиросу, глубоко затянулся. – Мы бы удрали, да наткнулись в сенях на солдата.
Привел он нас в горницу, поставил посередке. А офицер расхаживает по горенке. За половики чепляет. Лицом-то добрый, улыбается. И шпарит по-русски: «Вы, – говорит, – мальчики или зайчики?» Шкура! «Зачем, – говорит, – так быстро бегаете, боитесь немецкого офицера?»
Мы стоим сопим. Ну прямо как во сне! Свалился этот шпендрик на нашу голову! Хоть и ждали, а все же поверить было трудно.
Дядя Коля тут же стоит. Бледнющий – лица на нем нет. А немец говорит: «Кого это из вас Тельманом зовут? Или мне послышалось?» Дядя Коля тихо отвечает: «Послышалось, господин офицер. Сынка моего Тишей звать». Быстро он, однако, его в господа произвел.
Офицер как захохочет! Чего уж ему смешно стало? Пальцем показал на Теля: «Этот? – И спрашивает: – Как зовут тебя, мальчик? Тишей?» А Тель как зыркнул на отца, ровно волчонок, и отрезал: «Тельман!» – Маричев вздохнул тяжело и задумчиво сказал: – Нас ведь, товарищ начальник, весной в комсомол приняли!
Ну и понесло офицера. Чего он только не говорил! И о том, что Тельман – имя плохое, не русское и не немецкое. Что это и не имя совсем. Да все с улыбочкой. Я стою, смотрю на стол, где картошка дымится, – жрать охота! Думаю, черт лысый, картошка остынет, отпустил бы поскорей. Шиша с два! Спрашивает он дядю Колю: «Поп у вас в деревне есть?» Тот кивает, есть, мол. Отец Никифор. «Вот, – говорит, – по русскому обычаю мы и перекрестим вашего сынка в Тишу. Нельзя, чтобы с таким именем мальчишка жил». Так, дескать, зовут врага всех немцев и русских.
А Тель возьми да брякни: «Я в церкви не крестился».
А я-то знаю, что в церкви крестили его родители. Нас, деревенских, почти всех в те годы крестили. Мне мать рассказывала. Офицер смеется пуще прежнего: «Ну вот и хорошо. Будешь крещеным». А Тель знай твердит: не буду да не буду, Тельман я.
Офицер посмотрел на свою остывшую картошку и уже зло говорит дяде Коле: «Не должно быть мальчика с таким именем. Это непорядок. Вас я накажу особо за то, что его так назвали, но вдвойне накажу, если вы сынка не перекрестите в Тишу, – и повторил, скосорылившись: – Мальчика с таким именем быть не должно! – Отчеканил и посмотрел на дядю Колю так, что у того руки затряслись. – Забирайте его и порите, пока не скажет: „Я – Тиша“».
Ох, что было потом! Вспоминать неохота, – виновато улыбнувшись, сказал Маричев.
Завел дядя Коля в кладовку Теля. Сначала уговаривал: «Застрелит ведь немец и тебя и меня. Хорошо, – говорит, – этот еще добрый попался. Другой бы и чикаться не стал». Но Тель уперся. Ревет. Тогда дядя Коля сказал ему: «Сейчас пороть буду. Ты, сынок, кричи погромче». А меня вытурил. Ну да я все равно никуда не ушел. Во дворе на сеновал залез. Слышал возню в кладовке. Отец ему, видать, крепко поддал, а Тельман не пикнул.
– Ну а потом-то что? – спросил Игорь Васильевич. – Чем все кончилось? – Рассказ Маричева потряс его.
– Потом мы все-таки драпанули, – с удовлетворением ответил Маричев. – Тель ночью, а я утром. Немцы вечером деревню прочесали, всех мужиков и мальчишек в церковь согнали и заперли на ночь. Видать, дюже боялись. А дядю Колю оставили. Понадобился он им зачем-то.
Посадили для начала всех нас на каменный пол, велели снять кепки, у кого были. Троих стриженых сразу забрали. Два красноармейца были. Попали в окружение. Бабы их переодели. А третий – Витя-китаец. Наш, зайцовский. С лужской тюрьмы пришел. Так и пропал с тех пор. Может, расстреляли…
Потом закрыли немцы двери. Часового поставили. Тот всю ночь постреливал с автомата да пел гнусавым голосом. Чтоб не заснуть, наверное. Вот и куковали мы в этой церквухе. Я так и остался без жратвы. Злой был – страсть! Ну, думаю, выйти бы только – я им такую козу устрою!
Корнилов засмеялся. Столько злости и удальства было в словах Лехи Маричева, что он не удержался, спросил:
– Ну и устроили?
– Э-э! – весело отозвался Маричев. – Отлились волку овечьи слезы! Я ведь потом к партизанам попал. Ну да это все другой сказ. А уж раз вы про Тельмана интересуетесь, так я доскажу. Сидим мы в церкви, кукуем. Мне даже страшно стало. А тут еще поп с нами. Немцы и его заперли. Отца Никифора. Зажег он лампаду перед иконами, стал на колени, молится. На иконах святые будто живые. Глядят со всех сторон. Огонек у лампадки мечется. Да еще ветер на улице поднялся. И слышно, как на колокольне колокола позванивают. А отец Никифор антихриста на все корки разносит. Жуть. Тут один из мужиков ему говорит: «Ты бы, батя, не рвал душу, кончил бы причитать».
Поп и вправду молиться перестал, подошел к Телю, голову ему потрогал: «Крепись, – говорит, – свистулька». Принес откуда-то мокрую тряпку, положил ему на фингал, сел рядом. «Каяться, – спрашивает, – будешь?» Тель брыкается. А отец Никифор все пристает с покаянием. «Яблочки с церковного сада таскал? Покаялся бы. – И смеется. – Хороши яблочки? Ничего, свистулька. Не переживай. Сказано в священном писании: „Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы“».
Вот ведь как наш поп сказанул тогда. Я до сих пор помню! Наверное, придумал. По ходу дела, – усмехнулся Маричев. – Не может быть, чтобы в священном писании так сказано было. Правда ведь?
– Не знаю, – ответил Игорь Васильевич. – Мне такого не попадалось.
Они закурили, посидели, помолчали. Потом Маричев продолжил:
– Отец Никифор Телю сказал: «Как, – говорит, – я твоего отца отговаривал, чтоб не называл тебя Тельманом. Нету такого имени в святцах! Настоял, упрямый козел. И согрешил я – записал тебя Тельманом. Мне потом отец благочинный выволочку делал. Да я и сам хотел уйти. „Пишша плохая, лапти сносились – давай рашшот!“» – пропел он дурашливо. Все рассмеялись, и Тель улыбнулся. Понял, что шутит поп.
А отец Никифор говорит: «Тут среди нас, приметил я, чужих двое. Думаю, что переодетые. Завтра фрицы уже не по волосам проверять будут. Дознаются, кто вы такие. Не зря же вы переодевались. Надо бы вам тикать отсюда. Да и мальца с собой прихватить. Не ровен час…»
Все молчат. Потом тот мужик, что молиться попу не дал, говорит зло: «Ты что же, смеешься, что ли? Как из твоей церквухи выберешься? Ровно тюрьма. Сам-то небось тоже сидишь!»
«Раз господу угодно, чтобы вас от пули спасти, найдет он путь праведный, – проворчал отец Никифор. – Церковь эта со словцом поставлена».
Подошел он к мужику, пошептались они о чем-то. Потом еще с одним мужичком пошептались. Прихватили Теля и ушли куда-то за иконостас. Через маленькую дверцу. А поп вернулся. Хотел и я с ними рвануть, да не взяли. «Сиди, – говорят, – тебе бояться нечего».
Ну вот и вся история. А Теля я потом только после войны встретил.
– А священник? – спросил Корнилов.
Маричев нахмурился:
– Попа немцы повесили. На колокольне. Неделю висел рядом с колоколами.
С нами пастух колхозный сидел. Дурачок. Он и проболтался… Да и его потом немцы застрелили. Они всех юродивых стреляли, как собак. Неполноценные, мол.
– А чего ж он с теми не пошел? – Корнилов никак не мог понять, почему поп остался.
– Я его тоже спросил об этом, – как-то нехотя ответил Маричев. Сказал он мне: «Сердце мудрых в доме плача, сын мой». Не очень-то я это понял. А жалко мужика.
– Алексей Павлович, не угостите ли чайком? – попросил Корнилов. – Вы никуда не торопитесь?
– Не, у меня «отгулы за прогулы». Выходной я. Сей момент чайку сварганим.
Он ушел на кухню и опять загремел там кастрюлями. Корнилов сидел и думал о том, что услышал от Маричева.
Леха принес две чашки с блюдцами и варенье в маленькой эмалированной мисочке. Сказал гордо:
– Черноплодка с яблоками. Хозяйкина гордость.
Корнилов посмотрел на часы и спохватился: он сидел у Маричева уже около трех часов и даже не заметил, как потемнело на улице.
– Алексей Павлович, – сказал он. – Еще несколько вопросов, да бежать надо. Время подгоняет. А что ж Зотов-то? Отец? Ему немцы ничего не сделали?
– Сделали, – ворчливо ответил Алексей. – Двое суток мутузили. И мне малехонький отлуп по утрянке дали. За дружбу, наверное. Еле выкарабкался.
– А потом?
– Потом? – рассеянно отозвался Маричев. – Потом, когда фрицев туранули, они полдеревни за собой угнали. И дядю Колю. Он, пожалуй, самый последний и вернулся в конце сорок шестого. Думали, уж совсем сгинул. Кто-то из зайцовских его в Германии чуть не при смерти видал.
– Алексей Павлович, а с сыном Зотов не встречался?
– Не знаю. Когда Тель в Зайцово после войны приезжал, ничего не известно было об отце. Все считали, что погиб в Германии дядя Коля. Тельман и уехал. Да и жить было негде. Дом-то сгорел…
– А если бы Тельман с ним встретился?
– Ну и что? – удивился Алексей.
– Не мог он ему грозить? Ударить, например?
– Кто? Тельман? Ну что вы! – отмахнулся Маричев. – Простить, может, и не простил бы, но чтоб руку поднять?! Нет! – И, чуть подумав, добавил: – Да, наверное, и простил бы… Я бы простил. Отец все-таки.
– А почему Тельман потом отца не разыскал?
– Откуда я знаю? Наверное, думал, что погиб. А может, уже и разыскал.
– Ну а Зотов?
– А он-то что? Не-ет. Когда со мной говорил, плакал. «Нет, – говорит, – мне прощения». Еще бы. А почему вы все про это спрашиваете?
– Да потому, что Тельмана нашли убитым недалеко от того места, где жил старик.
Маричев вскочил, бледнея:
– Тельмана убили? Какая же падла?
«Нет, не буду говорить, что отец. Всей правды ведь не объяснишь», – подумал Корнилов.
– Вот хочу докопаться, как это все произошло.
– Такое выдюжил парень, а тут… – Маричев замолк, растерянно глядя на Корнилова.
20
С тревожным чувством отправился на следующий день Корнилов в дирекцию лесхоза, чтобы повидать бухгалтера Мокригина. Он уже не сомневался в том, что именно Мокригин шел вслед за художником в день убийства. Дежурный на станции Мшинская опознал на одной из предъявленных ему Белозеровым фотографий человека, приехавшего пятнадцатичасовой электричкой. Этим человеком был Григорий Мокригин. Но нет, не признается бухгалтер, что ездил на Мшинскую. Не захочет отвечать на опасный вопрос, почему убежал из леса, оставив на произвол судьбы истекавшего кровью Алексеева. Ведь не обмолвился он ни словом об этой поездке, когда беседовал с работниками уголовного розыска, узнавшими о его дружбе с лесником.
Но, несмотря на все свои сомнения, Корнилов шел в лесхоз и надеялся на успех. Он специально не стал приглашать Мокригина в райотдел – ему хотелось застать бухгалтера врасплох, неподготовленным. Поставленный перед необходимостью отвечать сразу же, немедленно, он может допустить промах, неточность, может растеряться.
«Почему этот Мокригин не пошел за помощью в деревню? – думал Корнилов. – Испугался, что могут и его убить? Вздор! Тогда бы он прибежал хоть в милицию. Побоялся, что могут заподозрить в убийстве его самого? Нет, честный человек сначала окажет помощь раненому, а уж потом подумает о себе. Честный человек… Но ведь бухгалтер в прошлом уголовник. Мог подумать: „Первое подозрение – на меня. Попробуй потом отмойся“. И повернул домой, даже к дружку своему не пошел в тот день. А почему был потом? Почему не пришел на похороны лесника? Они же были друзьями. Об этом и в лесхозе знают, и во Владычкине. Что-то за всем этим кроется более серьезное… Знал ли Мокригин, кто идет вместе с ним по лесной тропе? Нет, скорее всего не знал. Ведь и лесник не встречался с сыном тридцать лет…»
Дирекция размещалась недалеко от вокзала в старом, видать, купеческом доме. Первый этаж у него был каменный, обшарпанный, с обвалившейся кое-где штукатуркой, второй – деревянный, из темных, тронутых трухлявинкой мощных бревен. Около дома стояло несколько «газиков» и «Победа». В ней было битком набито людей, из-за приспущенного стекла валил дым, слышался смех – похоже, шоферы обсуждали какую-то веселую историю.
Корнилов вошел в дом. В коридоре, стены которого были густо заклеены объявлениями, приказами, сводками, курили двое мужчин. У обоих поверх пиджаков были надеты меховые безрукавки.
– Где мне найти бухгалтера? – спросил Корнилов. – Григория Ивановича Мокригина.
Один из мужчин молча показал на лестницу в конце коридора. Корнилов поднялся на второй этаж и отыскал дверь с надписью «Бухгалтерия». «Если там будут посетители, я подожду», – решил он. Вообще-то в бухгалтерии работали двое: старший бухгалтер Мокригин и еще одна женщина. Еще накануне Корнилов уговорился с работниками ОБХСС, и они вызвали ее в это время на беседу.
Корнилов приоткрыл дверь и сразу увидел Мокригина. Бухгалтер сидел за большим столом и сосредоточенно считал на арифмометре. На вошедшего не обратил никакого внимания, даже лысой головы не поднял. Корнилов подошел к его столу и сел, положив на колени шапку. Мокригин продолжал крутить ручку, беззвучно шевеля губами. Верхняя губа у него была тонкая, злая, а нижняя – пухлая и отвислая. Закончив считать, он записал на бумажке какие-то цифры и только тогда поднял голову.
– Вы ко мне?
Бровей у него почти совсем не было, и оттого лицо казалось каким-то бесцветным, блеклым.
– Да, я к вам, Григорий Иванович. – Корнилов достал удостоверение, представился.
Мокригин хотел что-то сказать, но только облизнул вдруг свою толстую нижнюю губу. В лице у него ничего не изменилось, не дрогнуло. Он замер.
– Григорий Иванович, я пришел к вам поговорить о леснике Зотове. Мне сказали, что вы были с ним друзьями…
Бухгалтер по-прежнему был спокоен. Никаких признаков паники. Только сузились глаза, стали маленькими точками зрачки. «Он давно ждал, что к нему придут, – подумал Корнилов. – Успел приготовить себя».
– А что бы вы хотели узнать о Зотове? – Мокригин явно не собирался распространяться о своей дружбе с лесником.
– Вы, наверное, знаете, Григорий Иванович, что Зотов убил сына и сам повесился, – Корнилов сказал это нарочито спокойно, буднично. – Мне хотелось бы знать об их отношениях.
Мокригин неопределенно пожал плечами.
– Что ж рассказывать? Я не знаю. – Он посмотрел на Корнилова, чуть-чуть прищурившись. – Вы лучше задавайте вопросы. Я отвечу.
«Ого, да он тертый калач, – подумал Корнилов. – Школа видна. Такого голыми руками не возьмешь», – и спросил: – С Зотовым вы давно знакомы?
– Давно.
– А вы неразговорчивы, Григорий Иванович. С вами трудно, – улыбнулся Корнилов. Бухгалтер пожал плечами, машинально крутанул ручку арифмометра.
«Так мы будем разговаривать неделю, – подумал Корнилов. – Интересно, надолго ли ему хватит выдержки?»
– Вы были знакомы с Тельманом Алексеевым, сыном Зотова?
– Нет.
«Отвечает не задумываясь. На лице ни один мускул не дрогнул».
– А знали о его существовании?
– Знал.
– Они были в ссоре?
Мокригин усмехнулся:
– Так… расплевались однажды. Сын-то тогда от горшка два вершка был! Они же с войны не виделись. О покойниках плохо не говорят, но сынок его свинья свиньей оказался. Даже не подумал разыскать старика, помочь ему… – Лицо бухгалтера стало злым.
– А Зотов просил его о помощи?
– С какой стати?! Он и не искал сына. Случайно узнал о нем, – неожиданно выкрикнул Мокригин. – Чего ему унижаться перед «чистеньким» сыном! Я, я только и помогал старику, – сказал он с необычной горячностью. – И деньгами, и по хозяйству. Да мало ли! – Он с какой-то безнадежностью махнул рукой и замолк, словно испугался своего порыва.
– А как узнал старик о сыне?
– В журнале портрет увидел. В «Огоньке».
– И решил его разыскать?
– Откуда я знаю? – проворчал бухгалтер. – Он мне не докладывал.
«Наверняка знает, что старик разыскивал сына, – решил Корнилов. – Только зачем скрывает?»
– А где вы познакомились с Зотовым, Григорий Иванович?
Бухгалтер вдруг посмотрел на Корнилова с откровенной ненавистью:
– Там и познакомился. Будто не справились… – И сказал с вызовом: – Кто еще у бывшего зека другом может быть? Такой же зек, как и он. Вот мы со стариком и держались друг друга.
– Вы правы. Я наводил справки: в одной колонии отбывали наказание.
«Старый друг лучше новых двух, – вдруг вспомнилась Корнилову поговорка. – Старый друг лучше новых двух…» – И какая-то совсем смутная догадка мелькнула у него, скорее не догадка, а предчувствие того, что за этой неожиданной горячностью бухгалтера, за его словами о старой дружбе отверженных обществом людей и кроется разгадка к трагедии.
– Вы, Григорий Иванович, не женаты? – спросил Корнилов. Он всегда так вел беседы, перескакивал с одного вопроса на другой, лишая своего собеседника возможности понять, что же интересует подполковника больше всего.
– Нет, – отчужденно ответил Мокригин.
– А у вас есть родные?
– Какое это имеет значение? Вы ведь хотели узнать о Зотове, а не обо мне?
– Простите, если задал неприятный вопрос, – дружелюбно сказал Игорь Васильевич. – Я не хотел вас обидеть.
Бухгалтер смотрел на Корнилова с ненавистью.
– Да, да! Нет у меня родных! Не знал никогда о них и знать не хочу!
– А друзья?
– Что вы ко мне в душу лезете?
«Одиночество, одиночество его мучает!» – подумал Корнилов.
– А зачем Зотов убил сына?
– Откуда я знаю? – закричал бухгалтер. Веко на правом глазу у него задергалось. От его несокрушимого спокойствия не осталось и следа. – Что вы не даете покоя старику? Он умер! Умер! И никто не узнает, зачем он убил сына.
Корнилов подождал, пока бухгалтер успокоится, и примирительно сказал:
– Ладно, оставим в покое Зотова, начнем с другой стороны…
Он достал из папки стопку бумаги, авторучку. И вдруг почувствовал, как напрягся Мокригин. Лицо у него стало каменным, только зрачки еще больше сузились.
– Григорий Иванович, – сказал Корнилов. – У меня есть поручение следователя допросить вас по делу об убийстве Тельмана Алексеева. По вновь открывшимся обстоятельствам…
Мокригин молчал.
– Когда вы виделись с Зотовым в последний раз?
– Пятого января… На день рождения он ко мне приезжал.
– А вы?
– Что я? – не понял бухгалтер.
– Вы когда у него были? У Зотова.
– Сразу после Нового года. Съездил, по хозяйству помог.
– Как вы праздновали день рождения? Много было гостей?
– Нет, никого не было, кроме Коли. Посидели в ресторане – и домой.
– В каком ресторане?
Мокригин осклабился:
– И этим интересуетесь? В «Радуге».
– Где вы были тринадцатого января с часу дня и до двенадцати?
– Ездил в Ленинград, – нехотя процедил Мокригин. – На электричке в тринадцать тридцать.
– Расскажите мне последовательно, где вы были в Ленинграде?
Бухгалтер недобро усмехнулся:
– Если это так необходимо… Попробую вспомнить. – И начал перечислять магазины. Он врал умно, с оглядкой. Корнилов мысленно проследил его путь по городу – все магазины выстраивались по маршруту третьего трамвая.
– Ни один из этих магазинов не был закрыт на переучет? – Корнилов заметил, как на скулах Мокригина вздулись желваки.
– Нет, на переучет закрыты не были, – медленно ответил он. – Правда, в каком-то из них отдел не работал… Только не помню в каком.
«Интересно, почему Мокригин не спрашивает меня, для чего этот допрос и в чем он провинился? – подумал Корнилов. – Хочет показать свое безразличие».
– Вы что-нибудь купили себе?
– Нет. Искал пальто на меховой подкладке, да не повезло…
«Еще бы! Такое пальто и летом по большому блату не достанешь. А уж то, что его зимой в магазинах не бывает, в этом-то, голубчик, ты уверен. Беспроигрышно играешь».
– Значит, ничего не купили?
– Ничего.
– Когда вы приехали в Ленинград, какая там была погода?
– Пасмурно. Снежок шел, – сказал Мокригин, и Корнилов вдруг увидел, как его лоб внезапно покрылся мелкими капельками пота. Бухгалтер заерзал, стал вдруг перекладывать с места на место бумаги, лежавшие перед ним на столе.
Корнилов помнил, что по сводке метеобюро пасмурная погода со снегом была на Мшинской, а в Ленинграде днем было ясно. Светило солнце. Он почувствовал резкий запах мужского пота и непроизвольно поморщился.
– Григорий Иванович, а когда вы уезжали из Ленинграда? Время? Погода?
– Не помню, – отрывисто бросил Мокригин. Похоже, что нервы у него совсем сдали.
– Когда пришли домой?
– В двенадцать.
– Это вы на фото? – Корнилов вынул из кармана фотографию Мокригина, которую по его просьбе сделали гатчинские оперативники.
– А вы что, не видите? – огрызнулся бухгалтер. – И что это за допрос?! Я в чем-то виноват? Вы даже не потрудились мне объяснить!
– Служащие станции Мшинская, Григорий Иванович, опознали в этом мужчине пассажира, который сошел с трехчасового поезда и направился по лесной тропе в сторону деревни Владычкино…
– Я был в Ленинграде, – упрямо сказал бухгалтер.
– С этого же поезда сошел и Алексеев, – продолжал Корнилов. – У него были лыжи. Он ушел вперед, но на одной сломалось крепление. – Мокригин уже не мог справиться с собой, лицо его перекосила какая-то странная гримаса. Он весь подался к Корнилову, впился в него взглядом. – Да, забыл одну деталь – у Тельмана Алексеева была такая же шапка, как у вас. – Он повернулся к вешалке, на которой висели пальто и рыжая мохнатая шапка бухгалтера. И тут его обожгла шальная мысль: «А не бухгалтеру ли предназначалась пуля? Ведь у него и у художника не только шапки похожие. И фигуры тоже одинаковые. Оба широкоплечие, высокие…»