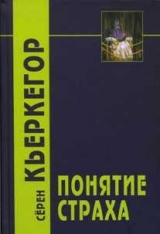
Текст книги "Понятие страха"
Автор книги: Серен Кьеркегор Обю
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Жизнь в изобилии предлагает тут примеры из всех возможных областей и во всех возможных степенях. Закоренелый преступник не желает делать признания (демоническое как раз и заключено здесь в том, что он не желает устанавливать коммуникации с добром, претерпевая свое наказание). Против этого есть один способ, который, вероятно, применяется крайне редко. Это молчание и власть взгляда. Если у того, кто ведет допрос, хватит телесных сил и духовной гибкости выдержать все это так, чтобы и мускул не дрогнул, если хватит сил продержаться пусть и шестнадцать часов кряду, он добьется этого в конце концов, и признание вырвется у преступника как бы помимо его воли. Ни один человек, совесть которого нечиста, не может вынести молчания. Если его просто поместить в одиночную камеру, он впадает в оцепенение. Но вот такое молчание, когда напротив него сидит судья, когда писцы ждут, собираясь вести протокол, – такое молчание есть самый глубокомысленный и проницательный допрос, самая ужасная пытка, хотя и допустимая; между тем все это не так легко осуществить, как может показаться. Единственное, что может принудить закрытость говорить, – это либо более высокий демон (ибо у каждого дьявола – свой срок), либо добро, которое способно хранить молчание абсолютно, так что если какая-нибудь хитрость попытается смутить добро посредством такого молчаливого допроса, будет посрамлен сам допрашивающий, и окажется, что он в конце концов испугается самого себя и вынужден будет прервать молчание. Но перед лицом подчиненного демона и подчиненных человеческих натур, у которых сознание Бога не столь уж сильно развито, закрытость, безусловно, побеждает – поскольку первые попросту не способны это вынести, а последние во всей своей невинности привыкли перебиваться со дня на день и жить так, что все, что у них на сердце, то и на языке. Просто невероятно, какую власть над такими людьми может обрести закрытость, как они в конце концов стонут и молят хотя бы об одном-единственном слове, которое могло бы прервать молчание; правда, и неловко так попирать ногами слабых. Могут подумать, что нечто подобное случается только среди князей и иезуитов, и чтобы составить себе более ясное представление о чем-то подобном, следует припомнить Домициана, Кромвеля, Альбу или того генерала, принадлежавшего ордену иезуитов, который сам стал чуть ли не именем нарицательным для такого явления. Нет, вовсе не так, все это встречается гораздо чаще. Однако следует проявлять осмотрительность, вынося суждение об этом явлении; хотя само явление может быть одним и тем же, причины его бывают совершенно противоположными, поскольку индивидуальность, которая прибегает к деспотизму и пытке закрытости, сама может страстно желать заговорить, сама может ждать более высокого демона, который способен вынудить ее к открытости.
Однако палач закрытости может относиться к своей закрытости и эгоистично. Об одном этом я мог бы написать целую книгу, хотя я и не был, соответственно обычаям и привычкам сегодняшних наблюдателей, в Париже или Лондоне, как будто там можно узнать нечто великое, как будто там можно узнать что-то другое, помимо болтовни и расхожей мудрости коммивояжера. Стоит только обратить внимание на то, что поблизости, и наблюдателю хватит пяти мужчин, пяти женщин и десяти детей, чтобы обнаружить все человеческие душевные состояния, которые только возможны. То, что я сказал сейчас, вполне может иметь некоторый смысл, в особенности для того, кто имеет дело с детьми или же стоит с ними в каком-нибудь отношении. Крайне важно, чтобы ребенок был воспитан посредством такого представления о возвышенной закрытости и чтобы при этом его держали подальше от закрытости неправильной. Во внешнем плане нетрудно определить, когда наступает подходящий момент, чтобы позволить ребенку обходиться одному, однако в духовном отношении все это не так-то легко. В духовном плане эта задача весьма трудна, и от нее нельзя откупиться по дешевке, наняв гувернантку или заведя себе прогулочную коляску. Искусство состоит в том, чтобы постоянно присутствовать и все же не присутствовать, так, чтобы ребенок мог получить свободу развиваться самостоятельно, между тем как вы сами за этим постоянно наблюдаете. Искусство состоит в том, чтобы в высшей степени и на возможно более высоком уровне предоставить ребенка самому себе, при этом придав своему кажущемуся отказу вмешиваться такой вид, чтобы суметь одновременно совершенно незаметно быть в курсе всего. На это вполне можно найти время, даже если вы служите королевским чиновником, нужно только пожелать. Если захотеть, можно сделать все, что угодно. И отец или воспитатель, который сделал все для вверенного ему ребенка, но при этом не мешал ему становиться закрытым, все равно принял на себя тем самым величайшую ответственность.
Демоническое – это закрытое, демоническое – это страх перед добром. Пусть закрытое будет обозначено как "х", и его содержание – тоже как "х": это может быть самое ужасное или самое незначительное, – нечто мрачное, о присутствии которого в жизни немногие даже подозревают, но также и сущие пустяки, на которые никто не обращает внимания . Но что же тогда будет означать добро как некий "х"? Оно означает раскрытие . Раскрытие может опять-таки означать как самое возвышенное (спасение в его настоящем смысле), так и самое незначительное (случайное замечание); все это не должно нас запутывать, категория все равно остается одной и той же; общее в предшествующих явлениях то, что они демоничны, пусть даже в остальном различие так велико, что голова может закружиться. Раскрытие здесь – это добро, ибо раскрытие – это первое выражение освобождения. Потому и говорится, как в старом присловье: если осмелиться назвать нужное слово, ослепление колдовства исчезнет; потому и лунатик пробуждается, стоит только окликнуть его по имени.
Виды столкновения закрытости с раскрытием могут быть бесконечно различными, могут выказывать бесчисленные оттенки; ибо пышное разрастание духовной жизни не уступает буйству природы, а духовные состояния столь же бесчисленно разнообразны, как цветы земные. Закрытость может жаждать раскрытия, может страстно желать, чтобы такое раскрытие положило ему конец извне, чтобы это могло наконец с ним случиться. (Это, конечно, неправильное понимание, поскольку здесь устанавливается женственное отношение к свободе, полагаемой в таком раскрытии, равно как и к той свободе, которая полагает это раскрытие. А потому несвобода вполне может продолжать оставаться здесь, пусть даже само состояние станет более счастливым.) Она вполне может желать раскрытия в некоторой степени, все-таки сохраняя хоть небольшой остаток, чтобы спустя какое-то время вновь начать свою закрытость. (Таково положение с подчиненными духами, которые ничего не делают еn gros ("целиком" (франц.)).) Она может желать раскрытия, но incognito. (Таково изощренное противоречие закрытости. Между тем примеры его можно найти в существовании поэтов.) Раскрытие может уже победить, но в последнее мгновение закрытость отваживается на последнюю попытку, она достаточно изобретательна, чтобы превратить само раскрытие в мистификацию; тогда закрытость побеждает .
Однако я не решаюсь продолжать дальше, да и как я мог бы закончить даже алгебраические исчисления, не говоря уж о том, чтобы попробовать отразить или нарушить молчание закрытости в надежде сделать ее монолог доступным для слуха; ибо речь ее – это конечно же монолог; недаром, когда мы хотим описать закрытого человека, мы говорим: "Он разговаривает сам с собою". Но я займусь здесь только тем, чтобы – подобно тому как закрытый Гамлет увещевает своих двух друзей – дать "allem einen Sinn aber keine Zunge".
Между тем мне хотелось бы указать на столкновение, чья противоречивость столь же ужасна, как и сама закрытость. То, что закрытый человек таит в своей закрытости, может быть так ужасно, что он сам не решается это выразить, даже для себя самого, потому что ему кажется, будто, выражая это словесно, он тем самым впадает в новый грех или же снова подвергается искушению. Для того чтобы такое явление могло произойти, в самом индивиде должно быть некое смешение чистоты и нечистоты, что случается крайне редко. Чаще всего это происходит, если индивид, когда он совершал нечто ужасное, попросту не владел собою.
Таким же образом бывает, что человек, когда он был пьян, совершил нечто, о чем он смутно помнит, зная вместе с тем, что это было нечто столь дикое и безумное, что ему почти невозможно узнать в этом самого себя. Подобный же случай может произойти с человеком, который некогда был безумен, причем его память сохранила некие отпечатки такого прежнего состояния. Решающим образом определяет, будет ли явление демоническим, позиция индивида по отношению к раскрытию, а также то, готов ли он пронизать этот факт свободой и готов ли он принять эту свободу на себя. Если только он этого не желает, явление демонично. Это следует ясно сознавать; ведь даже тот, кто желает этого, все равно по сути своей демоничен. У него имеются как бы две воли: одна подчиненная, бессильная, стремящаяся к раскрытию, и другая, более сильная, которая стремится к закрытости; однако именно то, что последняя оказывается сильнее, как раз и доказывает, что человек по сути своей демоничен.
Закрытость – это и невольное раскрытие. Чем слабее изначально индивидуальность или чем более гибкость свободы поглощается на службе у закрытости, тем более вероятно, что тайна в конце концов вырвется наружу. Малейшего прикосновения, мимолетного взгляда или чего-то в этом роде оказывается достаточно, чтобы началось это ужасное, или – сообразно содержанию закрытости – комическое чревовещание. Само чревовещание может возвещать о себе прямо или опосредованно, подобно тому как сумасшедший может выдать свое сумасшествие, указывая на другого человека и объясняя: "Он мне совсем не нравится, он наверняка сумасшедший".
Раскрытие может произойти в словах, когда, скажем, несчастный кончает тем, что навязывает свою тщательно скрывавшуюся тайну всем вокруг. Оно может проявиться в выражении лица, во взгляде; ибо бывает такое выражение глаз, которым человек невольно выдает то, что скрывает. Бывает обвиняющий взгляд, который раскрывает то, что, пожалуй, страшно и понимать, бывает подавленный, умоляющий взгляд, который не особенно побуждает любопытство заинтересоваться его невольным телеграфным сообщением. Сообразно своему отношению к содержанию закрытости все эти знаки опять-таки могут быть комичными; ведь, к примеру, существуют смешные вещи, пустяки, тщеславные задатки, ребячливые капризы, проявления мелочной зависти, небольшие медицинские психические отклонения и тому подобное, которые часто раскрываются, таким образом, в своем невольном страхе.
Демоническое – это внезапное. Внезапное – это, с другой стороны, некое новое выражение для закрытого. Когда рефлексия касается содержания, демоническое определяется как закрытое, когда же рефлексия касается времени, оно определяется как внезапное. Закрытое представляло собою воздействие негативного отношения индивидуальности к самой себе.
Закрытость постоянно закрывает себя все больше и больше от всякой коммуникации. Но коммуникация – это, в свою очередь, есть выражение непрерывности, отрицанием же непрерывности и будет внезапное. Можно было бы подумать, что закрытость содержит в себе поразительную непрерывность; на самом же деле все обстоит совершенно наоборот, хотя в сравнении с вялым и бескровным внутренним распадом, который снова и снова растворяется в своем впечатлении, закрытость и имеет некое подобие непрерывности. Непрерывность, которой обладает закрытость, легче всего сравнить с головокружением, какое должен испытывать волчок, постоянно вращающийся на своем острие. Стало быть, если закрытость не доводит человека до полного помешательства, которое являет собою печальное perpetuum mobile ("постоянное, вечное движение" (лат.)) постоянного "Einerlei" ("одно и то же" (нем.)), индивидуальность все же сохраняет некоторую непрерывную взаимосвязь с остальной человеческой жизнью. По отношению к такой непрерывности прежняя, иллюзорная непрерывность закрытости как раз и будет проявляться как внезапное. В это мгновение она здесь, а в следующее – исчезла, но как только она исчезла, смотришь – а она уже снова здесь, целиком и полностью. Она не может встроиться ни в какую непрерывность или пронизать ее собою, однако то, что проявляется таким образом, как раз и есть внезапное.
Если бы демоническое было чем-то телесным, оно никогда не оказалось бы внезапным. Когда лихорадка, или безумие, или что-нибудь в этом роде все время возобновляются, можно в конце концов обнаружить их закон, причем такой закон в значительной степени снимает внезапность. Но действительно внезапное не знает над собою закона. Оно не относится к числу явлений природы, но представляет собою психическое явление, наружное проявление несвободы.
Внезапное, точно так же как и демоническое, есть страх перед добром. Добро означает здесь непрерывность; ибо первым наружным проявлением освобождения оказывается непрерывность. Стало быть, при этом жизнь индивидуальности в значительной степени сохраняет доступную ей непрерывную взаимосвязь с остальной человеческой жизнью, тогда как закрытость в людях сохраняется как некая абракадабра внутри непрерывности, абракадабра, которая сообщается лишь с самой собою, а потому снова и снова является чем-то внезапным.
Сообразно своему отношению к содержанию закрытости, внезапное может означать ужасное, однако для наблюдателя воздействие внезапного может представляться также комически. В этом плане каждая индивидуальность имеет в себе нечто от такого внезапного, точно так же как каждая индивидуальность имеет в себе нечто от навязчивой идеи.
Мне не хотелось бы продолжать это рассмотрение дальше; и только чтобы подкрепить мою категорию, я напомню о том, что внезапное всегда имеет свое основание в страхе перед добром, поскольку тут есть нечто, чего не желает пронизывать насквозь свобода. Среди всех образований, которые лежат в страхе перед злом, внезапное будет соответствовать слабости.
Если мы пожелаем теперь иным способом прояснить, как это демоническое оказывается внезапным, нам достаточно чисто эстетически рассмотреть вопрос о том, каким образом лучше всего представить демоническое. Если некто пожелает представить себе Мефистофеля, он может с легкостью вложить ему в уста определенные реплики, если, конечно, он собирается использовать его в качестве некой силы в драматическом действии, вместо того чтобы постигать его в действительной сущности. Мефистофель тут, собственно, оказывается представленным не сам по себе, но сводится к образу злого и остроумного интригана. Тут, конечно, испаряется его сущность, тогда как народная легенда, напротив, рассматривала его правильно.
Согласно легенде, дьявол три тысячи лет сидел и думал, как ему погубить человека, и в конце концов он это придумал. Ударение делается здесь на трех тысячах лет, и представление, вызываемое таким числом, – это как раз представление о демонической, замышляющей недоброе закрытости. Если бы некто пожелал, чтобы сущность Мефистофеля испарялась тем же самым способом, он мог бы тем не менее обратиться к другому представлению. И тогда окажется, что Мефистофель по сути своей мимичен . Даже самые ужасные слова, звучавшие из пропасти зла, не способны оказать действие, подобное внезапности прыжка, который заложен внутри области мимического. Пусть даже слово действительно ужасно, пусть даже некий Шекспир, Байрон или Шелли нарушает тут молчание, само слово всегда сохраняет свою спасительную мощь; ибо даже все отчаяние, вся мрачность зла, собранные в одном слове, все же не так ужасны, как молчание. Мимическое может выражать тут внезапное, хотя это вовсе не значит, что мимическое, как таковое, становится поэтому внезапным. В этом плане балетмейстер Бурнонвилль имеет большие заслуги за представленный им образ Мефистофеля. Ужас, который охватывает тебя, когда видишь, как Мефистофель впрыгивает в окно и замирает в позе прыжка! Этот порыв в прыжке, напоминающий нападение хищной птицы, резкое движение хищного зверя, – он ужасает вдвойне, поскольку обычно взрывается внезапно изнутри совершенно спокойного положения, – производит бесконечно сильное впечатление. Поэтому Мефистофелю следует как можно меньше двигаться вокруг; ведь такое движение – это своего рода переход к прыжку, оно содержит в себе предчувствие самой возможности прыжка.
Поэтому первый выход Мефистофеля в балете "Фауст" – это не просто какой-то театральный прием, он предлагает зрителю некую глубокую мысль. Слово и речь, как бы кратки они ни были, все же имеют определенную непрерывность, и причина этого, если посмотреть на все in abstracto, состоит в том, что они звучат во времени. Но внезапное – это совершенная абстракция от непрерывности, от предшествующего и последующего. Так это и обстоит с Мефистофелем. Его еще не было видно, и вот он вдруг стоит тут во плоти, он действительно из плоти и крови, и быстроту его нельзя выразить сильнее, чем сказав, что он стоит тут в прыжке. Если прыжок перейдет в движение вокруг, воздействие будет ослаблено. Поскольку Мефистофель представлен здесь таким образом, его появление производит впечатление демонического, которое внезапно появляется как тать в ночи, потому что именно вору свойственно подкрадываться незаметно. Но одновременно Мефистофель раскрывает и свою сущность, которая в качестве демонической как раз и является чем-то внезапным. Таким образом, демоническое есть внезапное в движении к этому демоническому; порой оно поднимается в человеке, порой же он сам и является им, поскольку он демоничен, независимо от того, овладело ли им демоническое целиком, со всей его плотью и кровью, или же оно присутствует лишь в некой бесконечно малой его части. Таким образом, демоническое всегда тут, и, таким образом, несвободе становится страшно, и, таким образом, движется ее страх. Отсюда и направленность демонического в сторону мимического – не в значении прекрасного, но в значении внезапного, резкого, – а это нечто, что в жизни часто случается наблюдать.
Демоническое – это нечто бессодержательное, скучное. Так как в связи с внезапным я привлек внимание к проблеме эстетического представления демонического, мне хотелось бы теперь еще раз вернуться к этому же вопросу. Как только демона наделяют речью и собираются теперь представить его художнику, которому необходимо решить такую задачу, нужно ясно осознавать все эти категории. Он знает, что демоническое по сути своей мимично; внезапного, однако же, он не может добиться, поскольку этому мешают реплики. Он не станет заниматься жульничеством, стараясь сделать вид, будто благодаря внезапному и отрывистому выкрикиванию отдельных слов он в состоянии добиться истинного впечатления. Потому он совершенно правильно избирает нечто прямо противоположное, то есть скучное. Непрерывность же, которая соответствует внезапному, – это то, что можно было бы назвать "неумиранием". Скука, неумирание – это как раз и есть непрерывность внутри Ничто. Теперь число, приведенное в народном сказании, можно понять несколько иначе. Три тысячи лет подчеркиваются здесь не в плане внезапного; вместо этого весь этот огромный промежуток времени вызывает представление о мрачной пустоте и бессодержательности зла. Свобода спокойно пребывает в непрерывности, противоположность этому – внезапность; однако противоположность будет заложена и в самом таком спокойном пребывании, вызывающем представление о человеке, который выглядит так, будто он уже давно умер и похоронен. Художник, понимающий все это, тотчас же убедится в том, что, найдя правильный способ представить демоническое, он вместе с тем нашел и подходящее выражение для комического. Комического воздействия можно добиться совершенно тем же способом. Если удерживать на расстоянии все этические определения зла, используя тут только метафизические определения пустоты, у нас останется лишь тривиальное, которому нетрудно придать комический аспект .
Бессодержательное, скучное означает опять-таки нечто закрытое. В отношении к внезапному рефлектирующее определение закрытого обращено в направлении к содержанию. Если теперь я включу сюда определения "бессодержательного", "скучного", то в рефлексии это будет связано с содержанием, тогда как закрытое с формой, которая соответствует этому содержанию. Таким образом, все понятийное определение оказывается замкнутым и завершенным; ибо формой бессодержательного как раз и оказывается закрытость. Следует постоянно помнить о том, что, в соответствии с предложенным мною речевым употреблением, человек не может быть закрыт в Боге или в добре, поскольку такая закрытость означала бы как раз величайшее расширение и величайший охват. Потому, чем определеннее развита в человеке совесть, тем более он широк, даже если в остальном он закрывает себя от всего мира.
Пожелай я теперь напомнить о терминологии новейшей философии, я мог бы сказать, что демоническое там – это негативное, Ничто, которое подобно девушке-эльфу: когда смотришь на нее со спины, видно, что она полая внутри. Однако я делаю это не слишком-то охотно, поскольку в теперешнем окружении и в процессе обращения эта терминология стала такой любезной и гибкой, что может теперь обозначать что угодно. Негативное – если бы мне пришлось использовать это слово – означало бы форму Ничто, точно так же как бессодержательное соответствует закрытому. Но в негативном есть тот недостаток, что оно определяется скорее во-вне; оно обозначает отношение к чему-то другому, что как раз и отрицается, тогда как закрытое обозначает именно само состояние.
Если негативное понимается таким образом, я ничего не имею против того, чтобы это слово использовали для обозначения демонического, при условии, что негативное окажется в состоянии избавиться от всех причуд, которые ему вбила в голову новейшая философия. Негативное все больше и больше становилось предметом насмешек, и само это слово уже заставляет человека улыбаться, подобно тому как улыбаются, когда в жизни или, например, в песнях Беллмана встречаешь одного из этих забавных персонажей, – вначале он был трубачом, затем мелким служащим на таможне, потом – держателем гостиницы, а там, глядишь, и почтальоном. Поэтому и иронию объясняли как негативное. Первым придумал это объяснение Гегель, который сам, как ни странно, не особенно разбирался в иронии. О том, что был Сократ, благодаря которому ирония появилась на свет и который дал этому ребенку имя, о том, что его ирония была как раз закрытостью, которая началась с того, что он закрылся от людей, закрылся в самом себе, чтобы углубиться в божественное, собственно, он начал с того, что закрыл дверь и посчитал дураком всякого, кто остался снаружи, закрыл дверь, чтобы говорить скрытно, – обо всем этом никто особенно не беспокоится. Обычно слово "ирония" употребляют применительно к тому или иному случайному явлению, и считается, что тут-то как раз есть ирония. Затем приходят болтуны-последователи, которые, несмотря на все свои всемирно-исторические обзоры, к сожалению, лишены всякой более глубокой способности рассмотрения и понимают в понятиях столько же, сколько понимал в изюме тот благородный юноша, который во время экзамена на лицензию зеленщика в ответ на вопрос, откуда берется изюм, сказал: "Наш мы обычно берем у профессора на Твергаде".
Теперь мы снова возвращаемся к определению, согласно которому демоническое – это страх перед добром. Если бы, с одной стороны, несвобода была бы способна полностью закрыться и гипостазировать себя, но, с другой стороны, если бы она не стремилась делать это снова и снова (в этом и заложено противоречие: несвобода как будто желает чего-то, тогда как на самом деле она как раз утратила свою волю), демоническое не было бы страхом перед добром.
Поэтому страх явственнее всего виден в мгновение соприкосновения. Независимо от того, означает ли демоническое в единичной индивидуальности нечто ужасное, или же, напротив, оно подобно пятнам на солнце или маленькому светлому пятнышку на мозоли, целиком демоническое и частично демоническое должны быть определены одним и тем же образом, и даже маленькой, незначительной части демонического оказывается страшно перед добром совершенно в том же смысле, как и тому, кто полностью охвачен демоническим. Рабство греха – это, конечно, тоже несвобода, однако его направленность, как это было показано выше, совершенно иная, его страх – это страх перед злом. Если это не представляют себе твердо, то ничего вообще нельзя объяснить.
Несвобода, демоническое есть, стало быть, некое состояние. Таким образом это и рассматривает психология. Напротив, этика видит, как из него все снова и снова внезапно появляется новый грех; ибо только добро есть. единство состояния и движения.
Между тем свободу можно потерять разными способами, а соответственно этому различны и виды демонического. Эти различия можно рассмотреть теперь, подводя их под следующие рубрики: соматически-психическая утрата свободы и пневматическая утрата свободы. Благодаря предшествующему изложению читатель наверняка уже свыкся с тем, что я использую понятие "демоническое" в расширительном смысле, хотя следует заметить, что этот смысл не более расширен, чем это позволяет сделать само понятие. Немного толку в том, чтобы превращать демоническое в какого-то чудовищного людоеда, которого вначале боишься, а затем просто игнорируешь, поскольку прошло уже немало столетий с того времени, как такого людоеда можно было встретить в мире. Такое предположение – большая глупость; ибо демоническое, вероятно, никогда еще не было ты распространено, как в наше время, разве что в наши дни оно проявляется по преимуществу в духовны областях.
1.Соматически-психическая утрата свободы
В мои намерения не входит предлагать тут высоко ученое философское рождение об отношении души и тела, решая, в каком смысле душа сама создает свое тело (независимо от того, понимается ли это на греческий или же на немецкий манеж), или, чтобы уж вспомнить выражение Шеллинга, в каком смысле свобода посредством акта «корпорации» сама полагает свое тело. Всего этого мне здесь не нужно; для своих целей я могу, сообразно своим слабым силам, выразиться так: тело является органом души. а также органом духа. Как только это служебное отношение прекращается, как только тело восстает, как только свобода заключает с телом тайный союз против себя самой несвобода оказывается тут же рядом в качестве демонического. Если тут есть некто, еще недостаточно четко ухвативший разницу между тем, что я излагал в предыдущих параграфах, и тем, что я излагаю в этом параграфе, покажу это здесь еще раз. Пока свобода еще сама не примкнула к партии бунтовщиков, страх свойственный революции, конечно же будет присутствовать, но только как страх перед злом, а не как страх перед добром.
Нетрудно заметить, какое многообразие бесчисленных проявлений включает в себя демоническое в этих областях – проявлений, некоторые из которых столь исчезающе малы, что они проявляются только при микроскопическом наблюдении, другие же – столь диалектичны, что нужно поистине обладать большой ловкостью в применении самой категории, чтобы понять, что проявления могут быть под нее подведены. Напряженная чувствительность, напряженная раздражительность, неврастения, истерия, ипохондрия и тому подобное – все это различные ее проявления или могут быть таковыми. Поэтому трудно говорить обо всем этом in abstracto, поскольку сама речь тут становится алгебраичной. Так что большего я тут сделать не могу.
Крайней точкой в этой области является то, что обычно называют животной испорченностью. Демоническое в этом состоянии проявляется в том, что оно говорит, как то демоническое в Новом завете, которое восклицало в связи с освобождением: ?? ???? ??? ???? ("что у меня общего с тобою?" {греч.)). Потому оно избегает всякого соприкосновения; с добром, независимо от того, озабочено ли последнее тем, чтобы помочь ему стать свободой, или же соприкосновение здесь было совершенно случайно. Однако уже этого вполне достаточно, ибо страх крайне проворен. Потому от такого демонического обычно получают ответ, который выражает весь ужас этого. состояния: "Оставьте меня в покое с моим жалким положением"; или же можно услышать, как такой человек говорит, вспоминая определенный момент своей предшествующей жизни: "Вот тогда я, наверное, мог бы быть спасен", – самые ужасные слова, которые только можно себе вообразить. Никакое наказание, никакие громоподобные речи не страшат такого человека, и напротив, его страшит каждое слово, которое ставит себя в отношение к свободе, каковая сама забилась в основание несвободы. Иным образом проявляется в этом состоянии и страх. Среди таких демонических личностей встречается некое единение, в котором они с таким страхом и так неразрывно приникают друг к другу, что ни одной дружбе неведомо подобное внутреннее отношение. Французский врач Дюшатле приводит в своей работе подобные примеры.
И эта общительность страха повсеместно встречается в этой области. Уже сама по себе общительность служит подтверждением того, что тут присутствует демоническое; ибо когда соответствующее состояние оказывается проявлением рабства греха, общительности нет, поскольку такой страх – это страх перед злом. Дальше мне не хотелось бы продолжать. Здесь для меня главное – просто держать в порядке свою схему.
2. Пневматическая утрата свободы
а) Общие замечания. Это образование демонического широко распространено, и мы сталкиваемся с самыми разными его проявлениями. Демоническое, естественно, не зависит от различного интеллектуального содержания, оно зависит от отношения свободы к данному содержанию , а также к возможному содержанию в его отношении к интеллектуальному, причем демоническое может наружно проявляться как неторопливость, которой хочется «еще раз подумать»; как любопытство, которое никогда не становится чем-то большим, чем простое любопытство; как нечестный самообман; как женственная слабость, которая постоянно обращается к другим за утешением; как возвышенное пренебрежение; как ничтожная деловитость и так далее.
Содержание свободы, если смотреть на него с интеллектуальной стороны, есть истина, и истина делает человека свободным. Однако именно поэтому истина есть произведение свободы в том смысле, что свобода все снова и снова создает истину. Само собой разумеется, что здесь я не имею в виду остроумие новейшей философии, которая знает, что необходимость мышления и есть его свобода, и которая поэтому, говоря о свободе мышления, говорит, по существу, только об имманентном движении вечной мысли. Подобное остроумие способствует лишь тому, чтобы нарушить и усложнить коммуникацию между людьми. Напротив, то, о чем я говорю, совсем легко и просто: свобода существует только для единичного индивида и в той мере, в какой он сам создает ее своим действием. Если истина существует для индивида каким-то иным образом, если человек препятствует ей существовать для него таким образом, мы имеем дело с явлением демонического. Всегда хватало тех, кто громко возвещал об истине, однако весь вопрос в том, признает ли человек истину в глубочайшем смысле, даст ли он истине пронизать собою все его существо, примет ли он все ее следствия, не подготовит ли он на всякий случай лазейку для самого себя и поцелуй Иуды для последствий этой истины.








