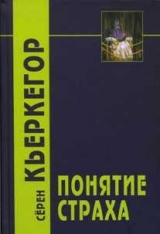
Текст книги "Понятие страха"
Автор книги: Серен Кьеркегор Обю
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
То, что человеческая природа устроена таким образом, что она делает грех возможным, с психологической точки зрения совершенно верно, однако то, что человек позволяет обрести действительность как раз этой возможности греха, возмущает этику и звучит для догматики как богохульство; ибо свобода никогда не бывает возможной; как только она есть – она действительна; в этом же смысле, как говорилось в одном старом философском учении, если существование Бога возможно, оно необходимо 39.
Как только грех действительно полагается, на этом месте тотчас же появляется этика, которая следует за каждым его шагом. Этику не заботит, как возник грех, за исключением того, что ей совершенно ясно, что грех вошел в мир как грех. Но еще меньше, чем о возникновении греха, этика заботится об успокоении своих возможностей.
Если теперь пожелают задаться вопросом, в каком смысле и как далеко психология в своих наблюдениях следует за своим предметом, то из вышеизложенного, равно как и само по себе, ясно, что всякое наблюдение за действительностью греха, будучи помысленным, является чем-то совершенно безучастным, а этика не имеет к этому никакого отношения; ибо этика никогда не выступает наблюдающей, но является упрекающей, судящей, действующей. Кроме того, из вышеизложенного, равно как и само по себе, понятно, что психология не имеет дела с деталями эмпирической действительности, помимо тех, конечно, которые лежат за пределами греха. будучи наукой, психология, разумеется, не может эмпирически подходить к деталям, лежащим в ее основе, хотя эти детали все же могут быть научно представлены, по мере того как сама психология становится конкретнее. В наши дни эта наука, которая по сравнению со всеми другими имела бы, пожалуй, большее право опьяняться искрящимся многообразием жизни, стала сдержанной и аскетичной, как самобичевание. Это не вина самой науки, – дело тут в ее хранителях. Напротив, по отношению к греху для нее запретно все внутреннее содержание действительности, к ее сфере относится только сама возможность греха. С этической же точки зрения возможность греха, естественно, вообще не входит в предмет рассмотрения, и этика не дает себя провести и не теряет понапрасну свое время на такие измышления. В отличие от этого психология просто обожает ее, она сидит и рисует себе наброски, высчитывая закоулки и изгибы возможности, так же не позволяя посторонним беспокоить себя, как Архимед.
Но когда психология, таким образом, углубляется в возможность греха, она оказывается – сама того не зная – на службе у иной науки, которая только и ждет, чтобы она завершила свои изыскания, с тем чтобы начать самой и помочь психологии в разъяснениях. Это не этика; ибо этика, безусловно, не имеет никакого отношения к этой возможности. Скорее уж это догматика, и здесь снова появляется проблема первородного греха. В то время как психология обосновывает реальную возможность греха, догматика разъясняет первородный грех, то есть идеальную возможность греха. Напротив, вторая этика вовсе не имеет дела с возможностью греха или первородного греха. Первая этика игнорирует грех, вторая же этика имеет действительность греха внутри своей сферы, и психология опять-таки может проникнуть сюда лишь по недоразумению.
Если изложенное здесь верно, нетрудно заметить, по какому праву я назвал настоящее произведение психологическим рассмотрением, иначе говоря, каким образом происходит, что, будучи возвышенным до осознания своего места в научном знании, это рассмотрение, ориентируясь на догматику, вместе с тем принадлежит сфере психологии. Психологию называли учением о субъективном духе. Если проследить за этим подробнее, легко увидеть, как, приходя к проблеме греха, она должна прежде всего превращаться в учение об абсолютном духе. Первая этика предполагает метафизику, вторая – догматику, завершая ее, однако, таким образом, что здесь как и повсюду – ясно проявляется эта предпосылка.
Такова была задача введения. Оно может быть верным при всем том, что само рассмотрение понятия страха может быть совершенно неверным. Так ли это, нужно еще показать.
Глава первая. СТРАХ КАК ПРЕДПОСЫЛКА ПЕРВОРОДНОГО ГРЕХА И КАК ТО, ЧТО РАЗЪЯСНЯЕТ ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ ВСПЯТЬ, В НАПРАВЛЕНИИ ЕГО ИСТОКА
§1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОНЯТИЯ «ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ»
Тождественно ли это понятие понятию первого греха, греха Адама, грехопадения? До сих пор это понималось именно так, и потому задача разъяснить первородный грех полагалась тождественной задаче разъяснить грех Адама. Поскольку здесь мышление натыкается на трудности, были попытки найти выход. Чтобы все-таки нечто разъяснить, вводилась некая фантастическая предпосылка, с потерей которой и связывалось понимание последствий грехопадения. При этом получали то преимущество, с которым все охотно соглашались, – состояние, подобное описанному, вообще не встречается в мире; однако тут же забывали, что сомнение заключалось совсем в ином: существовало ли вообще такое состояние и насколько было необходимо его терять. История человеческого рода получала фантастическое начало, Адам фантастически выделялся из нее, благочестивые чувства и фантазия получали то, чего они жаждали, то есть поучительный пролог; мышление, однако же, ничего не получало. Адам оказывался фантастически выделенным двойственным способом. Предпосылка была диалектически-фантастической, и прежде всего в католицизме (Адам утратил donum divinitus datum supranaturale et admirabile). Она была исторически-фантастической, и прежде всего в федеральной догматике, которая драматически затерялась в фантастической картине появления Адама как уполномоченного всего рода. Оба разъяснения, естественно, ничего не объясняют, поскольку одно всего лишь устраняет разъяснением то, что само выдумало, тогда как другое всего лишь поэтически выдумывает то, что ничего не разъясняет.
Возможно, понятие первородного греха отличается от понятия первого греха таким образом, что отдельный человек участвует в нем только через свое отношение к Адаму, а не через свое изначальное отношение к греху? Но в таком случае Адам опять-таки оказывается фантастически выделенным из истории. Тогда грех Адама – это нечто большее, чем просто прошедшее (plus quam perfectum (букв.: "более чем завершенное", то есть "прошедшее время" (лат.))). Первородный грех – это нечто настоящее, это греховность, а Адам – единственный, в ком это было не так, ибо греховность возникла через него.
Значит, мы стремились не разъяснить грех Адама, но хотели просто разъяснить первородный грех в его следствиях. Однако такое разъяснение ничего не давало бы мышлению. Отсюда легко понять, что символическое произведение отстаивает невозможность разъяснения и что такое утверждение непротиворечиво располагается рядом с разъяснением. В Шмалькальдских тезисах прямо говорится: "Peccatum haereditarium tam profunda et tetra est corruptio naturae, ut nullius hominis ratione intelligi possit, sed ех scripturae patefactione agnoscenda et credenda sit". Это высказывание можно легко соединить с разъяснениями; ибо в них не столько проявляются определения мысли как таковые, сколько благочестивое чувство (направленное к этическому) дает волю своему возмущению первородным грехом, берет на себя роль обвинителя и теперь, с чуть ли не женственной страстностью, с мечтательностью любящей девушки, печется лишь о том, чтобы представить греховность и себя самого в ней возможно более отталкивающим образом, когда ни одно слово не кажется достаточно суровым для обозначения участия отдельного человека в этой греховности. Если рассмотреть в этой связи различные конфессии, образуется некая градация, в которой побеждает глубокое протестантское благочестие. Греческая церковь называет первородный грех ???????? ?????????????? ("праотец" (греч.)). Там еще не было понятия; ибо слово это является просто историческим указанием, которое не дает настоящего (как это делает понятие), но сообщает всего лишь нечто исторически замкнутое. Vitium originis (Тертуллиан) конечно же является понятием, однако словесная форма способствует тому, чтобы историческое могло быть понято как преобладающее. Peccatum originale (quia originaliter tradatur, Августин) дает понятие, которое еще точнее определяется посредством различения между peccatum originans и originatum. Протестантизм отвергает схоластические определения (carentia imaginis dei, defectus justitiae originalis), но делает это таким образом, что первородный грех оказывается poena ("наказание" (лат.)) (Concupiscentiam poenam esse non peccatum, disputant adversarii – "Апология"), и тут же вздымается воодушевляющая вершина: vitium, peccatum, reatus, culpa. Человек заботится только о красноречии сокрушенной души, а значит, может сообразно обстоятельствам вставлять в свои речи о первородном грехе совершенно противоречащую этому мысль (nunc quoque afferens iram der iis, qui secundum exemplum Adami peccarunt). Или же это озабоченное красноречие совершенно не заботится об этой мысли, но высказывает о первородном грехе нечто ужасающее (quo fit, ut omnes propter inobedientiam Adae et Hevae in odio apud deum simus – Формула Согласия, которая, однако же, достаточно предусмотрительна, чтобы протестовать против самого ее осмысления; ибо, если ее помыслить, грех станет субстанцией человека) . Как только исчезает воодушевление веры и сокрушенности, подобные определения более уже не смогут помочь, – определения, которые облегчают только задачу лукавого рассудка, помогая ему избавиться от сознания греховности. Однако та, что человек нуждается в других определениях, – это сомнительное доказательство совершенства нашего времени в том же смысле, в каком людям нужны иные законы, помимо драконовских.
Та фантастическая сторона, которая здесь проявилась, совершенно последовательно повторяется и в других частях догматики, скажем в разделах о примирении (Forsoning). Догматика учит что Христос достаточно много сделал для первородного греха. Но как же тогда обстоит дело с Адамом. Он ведь принес первородный грех в мир, – не значит ли это, что первородный грех был в нем поэтому действующим грехом? Или же для Адама первородный грех означает то же самое, что и для каждого в роде? В таком случае это понятие снимается. Или же вся жизнь Адама была первородным грехом? И не скрывал ли в нем первый грех иные грехи, то есть грехи действующие? Порок предшествующего рассуждения здесь проявляется еще яснее; ибо Адам таким фантастическим образом оказывается выделенным из истории, он становится единственным, кто исключен из примирения.
Стало быть, проблему можно поставить и так: как только Адам фантастическим образом оказывается исключенным из истории, все запутывается. Разъяснить грех Адама – значит поэтому разъяснить первородный грех, и тут не может помочь никакое разъяснение, которое стремится разъяснить Адама, не разъясняя первородный грех, или стремится разъяснить первородный грех, не разъясняя Адама. Это имеет свою глубочайшую причину в том – а это существенно в человеческой экзистенции, – что человек является индивидом, и, как таковой, он в одно и то же время является самим собой и целым родом таким образом, что целый род участвует в индивиде, а индивид – в целом роде . Если за это не держаться крепко, мы неминуемо попадем в число пелагиан, социнианцев, филантропов или же в чисто фантастические построения. Прозаическим способом понимания будет нумерически растворять род в индивидах, взятых einmal ein ("по одному" (нем.)). Фантастическим же будет оказывать Адаму вполне благожелательную честь быть чем-то большим, чем целый род, или же двусмысленную честь стоять вне рода.
В каждое мгновение отношение строится таким образом, что индивид является и собою и родом. Таково завершение человека, понимаемое как состояние. Вместе с тем это – и противоречие; но противоречие всегда является выражением некой задачи; задача – это движение; движение же, на равных с задачей, которая была дана через равное, является движением историческим. Между тем у индивида есть история; но если история есть у индивида, она есть и у рода. Каждый индивид наделен равным совершенством – именно поэтому индивиды не распадаются нумерически, – точно так же как и понятие рода отнюдь не становится фантомом. Каждый индивид имеет существенный интерес к истории всех других индивидов, – столь же существенный, как и к своей собственной. Потому совершенство в себе самом – это совершенное участие в целом. Ни один индивид не может быть безразличен к истории рода, точно так же как и род небезразличен к истории какого бы то ни было индивида, ибо, когда история рода таким образом продвигается вперед, индивид постоянно начинает сначала, ведь он является собою самим и родом, – и тем самым он снова начинает историю рода.
Адам – первый человек, и он одновременно является собою самим и родом. Мы держимся за него вовсе не силой эстетической красоты; мы причисляем его к себе отнюдь не силой великодушного чувства, чтобы, так сказать, не оставить его на произвол судьбы как того, кто во всем виноват; отнюдь не силой воодушевления симпатии и убеждения благочестия решаем мы разделить с ним вину, подобно тому как ребенок желает быть виновным вместе с отцом, отнюдь не силой вынужденного сочувствия, которое учит нас обнаруживать себя там, где когда-нибудь придется себя обнаружить; нет, мы крепко держимся за него силой мышления. Потому всякая попытка разъяснить значение Адама для рода как caput generis humani naturale, seminale, foederale, если уж напомнить о выражениях догматики, только запутывает все. Он не является существенно отличным от рода, иначе род не наличествовал бы тут; он не является родом, иначе род опять-таки не наличествовал бы тут: он является собою самим и родом. А значит, то, что разъясняет Адама, разъясняет также и род, и наоборот.
§2. ПОНЯТИЕ ПЕРВОГО ГРЕХА
Согласно традиционным понятиям, различие между первым грехом Адама и первым грехом любого человека таково: грех Адама имеет греховность как следствие, другой же первый грех имеет предшествующую греховность как условие. Но будь это так, Адам действительно стоял бы вне рода, и род начинался бы не с него, но имел бы свое начало вне себя самого, что противоречило бы всякому понятию.
Нетрудно увидеть, что первый грех означает нечто иное, чем просто грех (то есть грех, как многие другие), нечто иное, чем некий грех (то есть номер 1, имея в виду также номер 2). Первый грех – это качественное определение, первый грех это грех. Это тайна первого и ее возмущение против абстрактной рассудочности, которая полагает: один раз – это ни разу, а много раз – это уже что-то, в то время как дело обстоит совсем наоборот, так как много раз либо означает, что каждый из них оказывается для самого себя таким же важным, как и первый раз, либо это означает, что все вместе они не так важны. Потому будет суеверием полагать в соответствии с логикой, что благодаря постоянно продолжающимся количественным определениям возникает новое качество; непростительным умолчанием будет, когда, даже не скрывая, что все происходит не совсем таким образом, тем не менее скрывают следствия, которые все это имеют для общей логической имманентности, когда позволяют всему этому впадать в логическое движение, подобно тому как это делал Гегель . Новое качество появляется благодаря первому, благодаря прыжку, благодаря внезапности загадочного.
Коль скоро же первый грех нумерически обозначает некий грех, из этого еще не следует никакой истории, грех не обретает тем самым никакой истории – ни в индивиде, ни в роде; ибо условие тут одно и то же,: хотя поэтому история рода еще не является историей индивида, равно как и история индивида еще не есть история рода, за исключением того, что противоречие постоянно выражает задачу,
Через первый грех грех вошел в мир; Точно таким же образом для всякого последующего человека действителен первый грех, ибо через него грех входит в мир.
То, что до первого греха Адама грех еще не присутствовал тут налично, – это по отношению к греху есть совершенно случайная и не относящаяся к делу рефлексия, которая не имеет никакого значения и не имеет никакого права делать грех Адама больше или делать грех любого другого человека меньше. Это прямо-таки логическая и этическая ересь, когда пытаются сделать вид, будто греховность в человеке определена количественно до тех пор, пока она в конце концов посредством generatio aequivoca ("самозарождение" (лат.)) не породит первого греха в человеке.
Этого не происходит, точно так же как это не происходило и с Тропом, который ведь был мастером, служившим количественным определениям, – мастером, с чьей помощью становились кандидатами. Пусть уж математики и астрономы, если могут, пользуются бесконечно исчезающими минимальными величинами; в жизни же человеку нисколько не помогает, если он получает некий аттестат; и уж тем более это бесполезно для разъяснения духа. И если первый грех всякого последующего человека, таким образом, рождается из греховности, значит, его первый грех должен быть определен как первый не по своей сути. Если же его определять по своей сути насколько это можно помыслить, – то он должен был бы определяться сообразно порядковому номеру в общем платежном фонде рода. Однако это не так, и столь же глупо, нелогично, неэтично, не по-христиански, когда всеми силами добиваются чести считаться первооткрывателем и при этом пытаются нечто от себя отодвинуть, когда человек не думает о том, что сам говорит, не делая ничего другого, помимо того, что другие уже сделали до него. Присутствие греховности в человеке, сила примера и тому подобное – все это просто количественные определения, которые ничего не разъясняют , при этом полагают, что индивид является родом, тогда как всякий индивид является собою самим и родом.
Рассказ о происхождении первородного греха, особенно в наше время, стал незаметно рассматриваться как миф. Тому есть своя веская причина: ведь именно то, что ставили на его место, как раз и было мифом, причем мифом безумным; ведь когда рассудку приходит в голову заниматься мифическим, из этого редко получается что-либо, кроме пустой болтовни. Такой рассказ – это единственное диалектически-последовательное рассмотрение. Его общее содержание по существу сосредоточено в следующем тезисе: грех вошел в мир через какой-то один грех. Будь это не так, грех вошел бы как нечто случайное, а от разъяснения этого следовало бы остеречься. Трудности, стоящие перед рассудком, – это как раз триумф разъяснения, его глубокая последовательность, которая заключается в том, что грех сам предполагает себя, что он входит в мир таким образом, что, когда он есть, он уже предположен. Стало быть, грех входит как нечто внезапное, то есть через прыжок (ved Springet); вместе с тем этот прыжок одновременно полагает качество; однако как только качество положено, в то же самое мгновение прыжок преобразуется в качество и оказывается предположенным качеством, а качество – предположенным прыжком. Это вызывает у рассудка возмущение, ergo ("следовательно" (лат.)) – является мифом. Взамен он сам творит миф, который отрицает прыжок, вытягивает круг в прямую линию, – и теперь уж все идет нормально. Он немного фантазирует о том, что было с человеком до грехопадения, и по мере того как рассудок болтает об этом, проецируемая невинность в ходе болтовни мало-помалу превращается в греховность, а значит, она уже здесь. Доказательство рассудка в этих обстоятельствах уместно сравнить с детской считалкой, которая нравится ребятам: Pole een Mester, Pole to Mester – Politi Mester – вот и все, это совершенно естественным образом получается из предыдущего перечисления. Поскольку нечто должно быть мифом рассудка, то должно быть также верно, что греховность предшествует греху. Поскольку же это истинно в том смысле, что греховность появляется через нечто иное, чем грех, само это понятие оказывается снятым.
Если же она все-таки появляется через грех, это значит, что грех предшествует ей. Это противоречие является единственным диалектически-последовательным противоречием, которое властвует над обеими частями – прыжком и имманентностью (то есть позднейшей имманентностью).
Через первый грех Адама такой грех вошел в мир. Этот тезис, будучи самым обычным, содержит между тем совершенно внешнюю рефлексию, которая весьма много способствовала появлению так и не разрешенного недоразумения. То, что грех вошел в мир, – это вполне верно; однако это не так уж и касается Адама. Выражаясь гораздо более точно и определенно, следовало бы сказать, что через первый грех в Адама вошла греховность. Ни о каком позднейшем человеке никак нельзя сказать, что через его первый грех в мир вошла греховность, а между тем она входит в мир через него совершенно таким же образом (то есть способом, который не является существенно отличным); ибо, выражаясь более точно и определенно, пришлось бы сказать, что греховность пребывает в мире лишь постольку, поскольку она входит через грех.
то, что об Адаме говорят иначе, имеет причину только в том, что должны быть вполне видны последствия фантастического отношения Адама к роду. Его грех – это первородный грех. Помимо этого о нем ничего не известно. Однако первородный грех, увиденный в Адаме, – это просто его первый грех. Но является ли Адам поэтому единственным индивидом, у которого нет никакой истории? Так роду удается начать с индивида, который не является индивидом, благодаря чему оказываются снятыми оба эти понятия – род и индивид. И если какой-либо другой индивид в роде и в своей истории имел бы значение для истории рода, его имел бы и Адам; а если бы Адам имел его только через свой первый грех, само понятие истории оказывалось бы снятым, иначе говоря, история оказывалась бы завершенной в то самое мгновение, когда она началась .
Поскольку же род не начинается заново с каждым индивидом , греховность рода как раз и обретает историю. Она стремится вперед в количественных определениях, тогда как индивид участвует в ней посредством качественного прыжка. Поэтому род и не начинается заново с каждым индивидом; ибо тогда рода вообще не было бы здесь; но каждый индивид заново начинается с родом.
Стало быть, когда хотят сказать, что грех Адама принес грех рода в мир, это либо подразумевается чисто фантастически, вследствие чего всякое понятие оказывается аннулированным, либо это можно с тем же самым правом сказать о каждом индивиде, который приносит греховность через свой первый грех. Найти некоего индивида, который стоял бы вне рода, чтобы он начал этот род, – это миф рассудка; это совершенно то же самое, как если бы греховность начиналась совершенно другим способом, а не через грех. Таким образом ничего не достигают, но просто отодвигают проблему, которая за разъяснением, естественно, обращается к человеку под номером 2, или точнее, к человеку номер 1, поскольку номер 1, по существу, уже стал нулевым.
То, что часто сбивает с толку и способствует появлению совершенно фантастических представлений, так это отношение поколений: как будто позднейший человек существенно отличается от первого благодаря своему происхождению. Происхождение – это просто выражение непрерывной связи в истории рода, которая всегда движется в количественных определениях, а потому никоим образом не способна создать индивида; ведь род животных – пусть даже он продолжался бы тысячу и еще тысячу поколений, – никогда не производит индивида. И если бы второй человек не происходил от Адама, он был бы не другим человеком, но пустым повторением и из него не мог бы прийти в становление ни род, ни индивид. Каждый отдельный Адам стал бы статуей себе самому и потому должен был бы определяться безразличным определением, то есть числом, именно в том несовершенном смысле, в каком по номерам называют "синих мальчиков". В лучшем случае каждый отдельный индивид был бы самим собой, но не самим собой и родом, он не имел бы никакой истории, как не имеет никакой истории ангел – ведь только ангел является самим собой и не участвует ни в какой истории.
Едва ли нужно говорить, что такое понимание никоим образом не повинно в пелагианизме, согласно которому каждый индивид, не заботясь о роде, разыгрывает свою маленькую историю в своем частном театре; ибо история рода спокойно продолжает свой ход, и в ней ни одному индивиду не приходится начинать на том же месте, что и любому другому, – нет, каждый индивид начинает заново и в то же самое мгновение оказывается там, где он и должен был начинать в истории.
§3. ПОНЯТИЕ НЕВИННОСТИ
Здесь, как и повсюду, где в наши дни сохраняются догматические определения, для того чтобы быть полезным догматике, необходимо начать с забвения того, что обнаружил Гегель. Странно бывает видеть, как у догматиков, которые в остальном стремятся быть вполне правоверными, в этом пункте вдруг появляется излюбленное замечание Гегеля, согласно которому определением непосредственного является то, что оно может быть снято, как если бы непосредственность и невинность были одним и тем же. Гегель ведь вполне последовательно истончил каждое догматическое понятие до такой степени, что оно сохранило редуцированное существование в качестве остроумного выражения для логического. Итак, непосредственное должно быть снято, – чтобы это сказать, не нужно никакого Гегеля, тем более что он не обрел никакой бессмертной заслуги, сказав, что, будучи помыслено логически, это даже не верно, ибо непосредственное вовсе не должно быть снято, потому что его вообще здесь нет. Понятие непосредственности принадлежит логике, понятие же невинности – этике, а о каждом понятии нужно говорить только с точки зрения той науки, которой оно принадлежит, независимо от того, принадлежит ли понятие этой науке тем, что оно в ней развивается, или же оно развивается, поскольку предполагается в ней.
Между тем неэтично утверждать, что невинность должна быть снята; ибо, если бы даже она снималась в то самое мгновение, когда ее провозглашают, этика все же запрещает забывать о том, что она может быть снята лишь через вину. Поэтому, если о невинности говорят как о непосредственности, а логическая проницательность и резкость указывают, что этот мимолетный момент должен исчезнуть, тогда как эстетическая изобретательность говорит о том, что он был и исчез, – все это будет всего лишь остроумным, суть же окажется забыта.
Стало быть, подобно тому как Адам потерял невинность через вину, ее теряет и каждый человек. Когда же он теряет ее не через вину, – значит, он теряет не невинность, а если он не был невинным, прежде чем стал виновным, – значит, он никогда не становился виновным.
Что же касается невинности Адама, то тут нет недостатка в совершенно фантастических представлениях, независимо от того, достигают ли они символической истинности во времена, когда над завесой церковной кафедры, равно как и над началом рода, еще лежит бархатистое сияние, или же они вводятся более рискованно как сомнительные поэтические находки. Чем фантастичнее оказывается облаченным Адам, тем менее ясно становится, как он мог согрешить, и тем ужаснее становится его грех. Он проиграл при этом раз и навсегда все великолепие, и к этому можно сообразно времени и обстоятельствам относиться сентиментально или остроумно, ощущать тяжесть тоски или легкомыслие, исторически сокрушаться или фантастически веселиться; но смысл этого этически не схватывается.
Что касается невинности позднейших людей (то есть всех, за исключением Адама и Евы), то об этом имеются весьма скудные представления. Этический ригоризм но заметил границы этического и оказался достаточно добросовестен, чтобы поверить, будто люди не воспользуются случаем незаметно улизнуть от целого, раз уж этот побег оказывается таким легким; легкомыслие же вообще ничего тут не заметило. Невинность можно потерять только через вину; каждый человек, по сути, теряет невинность тем же самым образом, что и Адам; и вовсе не в интересах этики заботиться обо всех, кроме Адама, превращая всех в заинтересованных свидетелей виновности, но не в виновных, равно как и не в интересах догматики превращать всех э заинтересованных и сочувствующих свидетелей примирения, но не в примирившихся.
И если так часто случается, что догматики и этики понапрасну расточают усилия и свое собственное время, чтобы размышлять о том, что могло бы произойти, если бы Адам не согрешил, то это лишь доказывает, что сюда привносят извращенное настроение, а с ним – и извращенное понятие. Невинному не может прийти в голову спросить о чем-то подобном, виновный же грешит, когда об этом спрашивает; ибо он хотел бы в своем эстетическом любопытстве отвлечься от того, что он сам принес виновность в мир, сам потерял невинность через вину.
Поэтому невинность – это не что-то подобное непосредственному, не что-то, что должно быть снято, чьим определением является то, что оно должно быть снято, не что-то, что, по сути, вообще не присутствует здесь, но она сама, будучи снятой, становится впервые через то и впервые тогда, когда она была прежде, чем быть снятой, и теперь вот снимается. Непосредственность снимается не через опосредование, но когда опосредование появляется, в это же самое мгновение оно снимает непосредственность. Потому снятие непосредственности – это имманентное движение в опосредовании, движение, которое протекает в противоположном направлении и благодаря которому оно предполагает непосредственность. Невинность – это нечто, снимаемое через трансценденцию, именно потому, что невинность есть нечто (в отличие от этого, наиболее точным выражением для непосредственности является ничто, как раз его использовал Гегель, говоря о чистом бытии), и именно поэтому, когда невинность снимается через трансценденцию, из нее получается нечто совершенно иное, тогда как опосредование как раз и есть непосредственность. Невинность – это некое качество, она есть некое состояние (Tilstand), которое вполне способно существовать, и потому логическая торопливость, спешащая его снять, ничего не значит, – поскольку в логике следует заботиться о том, чтобы еще больше поторапливаться; она ведь всегда приходит слишком поздно, даже когда так торопится. Невинность – это не какое-то совершенство, к которому следует стремиться вернуться; ибо стоит только пожелать ее себе – и она потеряна, и тогда появляется новая вина – попусту расточать время на желания. Невинность – это не какое-то совершенство, при ней нельзя оставаться; ибо для самой себя ее достаточно, но тому, кто ее потерял, тому, кто ее потерял так, как она только и может быть потеряна, а не так, как ему, может быть, хотелось бы ее потерять – то есть через вину, – тому не придет в голову восхвалять свое совершенство за счет невинности.








