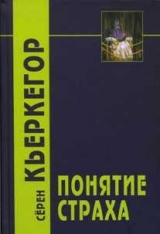
Текст книги "Понятие страха"
Автор книги: Серен Кьеркегор Обю
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
В новейшие времена уже достаточно много говорилось об истине; сейчас же пора сделать значимыми уверенность и внутренний смысл, и не в абстрактном смысле, в котором трактовал это Фихте, но совершенно конкретно.
Уверенность, внутренний смысл, которые достижимы только посредством действия и в действии, как раз и решают, демоничен индивид или нет. Если только твердо придерживаться этой категории, все прочее расступается, и становится например, ясно, что своеволию, неверию, насмешке над религией недостает не содержания, как обычно полагают, а уверенности, причем совершенно в том же смысле, в каком ее не хватает суеверию, раболепию, ханжеству. Негативным явлениям недостает уверенности именно потому, что они пребывают в страхе перед содержанием.
У меня нет желания говорить высокие слова обо всей нашей эпохе; но тот, кто наблюдал ныне живущее поколение, едва ли может отрицать, что неверное отношение, вследствие которого оно страдает, а также причина его страха и беспокойства заложены в том, что, с одной стороны, истина прирастает в своем охвате и величине, отчасти даже в своей абстрактной ясности, тогда как, с другой стороны, уверенность постоянно уменьшается. Какие только сверхъестественные метафизические и логические усилия ни предпринимались в наше время, чтобы только предложить некое новое, исчерпывающее доказательство бессмертия души, абсолютная правильность которого объединяла бы все более ранние доказательства, но, как ни странно , когда это я, уверенность еще более сокращается. Мысль о бессмертии несет в себе некую силу, в своих следствиях – некую весомость, а в своем приятии некую ответственность, которая, вероятно, способна перекроить всю жизнь настолько что человек это боится. А потому такой человек успокаивает и освобождает свою душу, напрягая мышление в поисках нового доказательства. Да и что представляет собой такое доказательство, как не "добрые дела" в чисто католическом смысле слова! Каждая подобная индивидуальность, которая – если уж придерживаться приведенного примера – умеет выдвигать доказательства бессмертия души, однако сама вовсе не убеждена в этом, всегда будет страшиться всякого явления, которое затрагивает ее таким образом, что она вынуждена искать более глубокого понимания того, как же человек может в самом деле быть бессмертным. Э то будет тревожить индивида, он будет чувствовать себя болезненно задетым, когда совсем простой человек станет совсем просто говорит о бессмертии. В противоположном же направлении ему может недоставать внутреннего смысла. Последователь самой суровой ортодоксии вполне может быть демоничен. Ему все это прекрасно известно, он преклоняет колени перед святыми, истина для него – это внутреннее понятие церемоний, он говорит о встрече перед престолом Божьим, и ему известно, сколько раз там нужно поклониться; ему известно все – совсем как человеку, который может доказать математическую теорем, когда там стоят буквы АВС, но не тогда, когда их заменяют на DEF. Поэтому ему становится страшно, как только он слышит нечто, не являющееся буквальным повторением прежнего. И как же он похож на современного спекулятивного мыслителя, который обнаружил новое доказательство бессмертия души, но теперь попал в смертельную опасность, поскольку не может предъявить это доказательство, не имея при себе своих тетрадок! И чего же не хватает им обоим? Конечно, уверенности.
Суеверие и неверие оба являются формами несвободы. В суеверии самой объвктивности – как голове Медузы – приписывается власть обращать в камень субъективность, и несвободе вовсе не хочется, чтобы заклятие было снято. Для неверия же высшим и на первый взгляд самым свободным выражением является насмешка. Однако насмешке не хватает как раз уверенности, именно поэтому она и насмехается.
И существование скольких насмешников, если бы к ним только можно было заглянуть в душу, напомнило бы о том страхе, с которым демоническое восклицает: "?? ???? ??? ??? !" ("Что у меня общего с тобою!" (греч.)) Вот уж поистине примечательное явление: вероятно, немногие столь тщеславны и ранимы в том, что касается минутной славы, как насмешники.
С каким старательным усердием, жертвуя своим временем, прилежанием и писчебумажными материалами, спекулятивные мыслители в наше время трудились над тем, чтобы предъявить всеобъемлющее доказательство существования Бога. Однако по мере того как растет совершенство доказательства, похоже, что уверенность уменьшается. Мысль о существовании Бога, как только она полагается как таковая для свободы индивида, обладает некой вездесущностью, которая, если даже человек не желает действовать во зле, содержит нечто неловкое для всякого осмотрительного индивида. И поистине нужен внутренний смысл, чтобы жить в прекрасном и внутреннем единстве с этим представлением; и это гораздо более трудный фокус, чем быть образцовым супругом. Каким болезненно задетым должен поэтому чувствовать себя такой индивид, когда он слышит совсем простые и наивные речи о том, что Бог все-таки есть. Построение доказательства существования Бога есть нечто, чем можно научно и метафизически заниматься только от случая к случаю, однако мысль о Боге настойчиво навязывает себя человеку при всех обстоятельствах. Чего же не хватает такой индивидуальности? Конечно, внутреннего смысла. Внутреннего смысла может недоставать и в ином плане. Так называемые "святоши" часто бывают предметом насмешек мира. Сами они объясняют это тем, что мир лежит во зле.
Это, однако же, не совсем верно. Если подобный святоша не свободен в своем отношении к собственному благочестию, то есть если ему при этом не хватает внутреннего смысла, он с чисто эстетической точки зрения оказывается комичным. А значит, и мир тут прав, когда смеется над ним.
Когда кривоногий человек желает выступать в роли танцмейстера, но при этом не в состоянии показать ни одной танцевальной позы, он комичен. Точно так же обстоит дело и с особой духовного звания. Нетрудно заметить, что подобный святоша как бы отсчитывает про себя такт, совсем как человек, который не умеет танцевать, но довольно сносно разбирается в танцах, чтобы уметь отсчитывать такт, пусть даже ему никогда не везет настолько, чтобы он к тому же мог попасть в такт, танцуя. Точно так же святоша знает, что религиозное всегда абсолютно соизмеримо, что религиозное – это не что-то, свойственное лишь определенным случаям и мгновениям, он знает, что религиозное всегда можно иметь при себе. Однако когда он уже собирается сделать его соизмеримым, он оказывается несвободен, и нетрудно заметить, как он тихонько отсчитывает такт про себя, причем, несмотря ни на что, он все время ошибается и дела складываются неудачно – со всеми его взглядами, обращенными к небу, сложенными руками и тому подобным. Потому такой индивид столь страшится каждого, кто не имел подобной тренировки, а для того чтобы приободрить себя, он и хватается за все эти грандиозные наблюдения относительно того, что мир ненавидит благочестивых.
Стало быть, уверенность и внутренний смысл – это действительно субъективность, хотя и не в прежнем, совершенно абстрактном смысле. Вообще, несчастье новейшей науки состоит в том, что все стало ужасно грандиозным. Абстрактная субъективность столь же не уверена в себе и в той же степени лишена внутреннего смысла, как и абстрактная объективность. Когда об этом говорят in abstracto, это невозможно заметить, и потому правильно будет утверждать, что абстрактной субъективности не хватает содержания. Когда же об этом говорят in concreto, такое содержание ясно проявляется, поскольку индивидуальности, которая стремится превратить себя в абстракцию, точно так же недостает внутреннего смысла, как и той индивидуальности, которая превращает себя просто в церемониймейстера.
в) Схема исключения или отсутствия внутреннего смысла. Отсутствие внутреннего смысла – это всегда некое определение рефлексии, а потому всякая форма становится двойственной формой. Поскольку люди привыкли рассуждать об определениях духа совершенно абстрактно, никто обычно не склонен в них чересчур вглядываться. Чаще все это полагается так: непосредственность и противостоящая ей рефлексия (внутренний смысл), а затем синтез (или субстанциальность, субъективность, тождество, как бы это тождество ни называлось: разум, идея, дух). Однако в сфере действительности все не так. Тут непосредственность – это вместе с тем и непосредственность внутреннего смысла. Поэтому отсутствие внутреннего смысла прежде всего зависит от рефлексии.
Потому всякая форма отсутствия внутреннего смысла – это либо активность-пассивность, либо пассивность-активность, и какой бы они ни была – первой или второй, – она пребывает в сфере само-рефлексии. Сама форма проходит через существенную серию нюансов, по мере того как определение внутреннего смысла становится все конкретнее и конкретнее.
Согласно старой поговорке, "понимать и понимать – две разные вещи", и это действительно так. Внутренний смысл – это одно понимание, однако in concreto важно то, как следует понимать такое понимание. Понимать речь – это одно, но понимать, к чему она относится, – совсем другое; понимать то, что говорит человек, – это одно, понимать же его самого из сказанного им – совсем другое. Чем конкретнее содержание сознания, тем конкретнее становится понимание, и коль скоро такое понимание отсутствует в отношении к сознанию, мы имеем дело с проявлением несвободы, которая стремится отгородить себя от свободы. Если мы возьмем, например, конкретное религиозное сознание, которое одновременно содержит в себе исторический момент, понимание должно вступать в отношение к нему. Поэтому мы можем рассмотреть здесь пример двух соответствующих форм демонического. Если, скажем, некий суровый ортодокс приложит все свое старание и ученость, чтобы доказать тезис, согласно которому каждое слово Нового завета имеет своим источником соответствующего апостола, внутренний смысл для него постепенно исчезнет, и он в конце концов будет понимать нечто совершенно отличное от того, что ему хотелось понять. Если некий свободомыслящий приложит всю свою проницательность, чтобы показать, что Новый завет был написан только во втором веке, это значит, что он боится как раз внутреннего смысла, и потому ему просто необходимо поставить Новый завет в один ряд со всеми прочими книгами . Самое конкретное содержание, каким может обладать сознание, – это сознание самого себя как индивида, – не чистое самосознание, но самосознание, которое настолько конкретно, что ни один писатель, даже самый богатый словами, даже самый мощный в своих описаниях, еще не был способен представить хоть одно такое сознание, а между тем каждый человек как раз и является таким сознанием. Самосознание – это не созерцание, и тот, кто полагает, будто оно таково, не понял сам себя, ибо он видит, что сам одновременно находится в становлении, а потому ничем и не может быть для отгороженности созерцания. Значит, это самосознание есть действие, а такое действие, в свою очередь, есть внутренний смысл; и всякий раз, когда внутренний смысл не соответствует этому сознанию, мы получаем какую-то форму демонического, коль скоро отсутствие внутреннего смысла проявляет себя наружно как страх перед его обретением.
Там, где отсутствие внутреннего смысла вызывается неким механизмом, всякие речи об этом окажутся напрасным трудом. Однако здесь все не так, и потому в каждой форме такого отсутствия есть своя активность, даже если она начинается благодаря пассивности. Явления, которые начинаются с активности, больше бросаются в глаза, и потому их легче постигнуть, однако при этом забывают, что в этой активности опять-таки проявляется пассивность, а потому противоположное явление никогда не берется в расчет, если говорят о демоническом.
Я хочу привести теперь пару примеров, просто чтобы показать, что схема верна.
Неверие – суеверие. Они полностью соответствуют друг другу; им обоим недостает внутреннего смысла но только неверие пассивно благодаря активности, а суеверие активно благодаря пассивности; первое является, если угодно, более мужественным образованием, второе же – более женственным, и содержанием обоих образований оказывается само-рефлексия. С точки зрения их сущности они представляют собой одно и то же. Неверие и суеверие оба оказываются страхом перед верой; однако неверие начинается в активности несвободы, суеверие же начинается в пассивности несвободы. Обычно наблюдение обращено лишь на пассивность суеверия, а потому оно выглядит менее существенным или более извинительным, в зависимости от того, применяются ли к нему эстетически-этические или этические категории. В суеверии есть слабость, которая поистине обманчива; между тем в нем всегда должно быть достаточно активности, чтобы оно оказывалось в состоянии сохранять свою пассивность. Суеверие является неверующим относительно себя самого, неверие же суеверно относительно себя самого. Содержанием обоих оказывается само-рефлексия. Удобство, трусость и малодушие суеверия находят, что лучше оставаться в этой само-рефлексии, чем покидать ее. Гордость, вызов и высокомерие неверия находят, что – отважнее оставаться в само-рефлексии, чем покидать ее. Самая утонченная форма такой само-рефлексии – это всегда та, которая становится интересной для самой себя, пока она желает выйти из этого состояния, все время самодовольно укрепляясь в нем.
Лицемерие – возмущение. Они также соответствуют друг другу. Лицемерие начинается благодаря активности, возмущение же начинается, благодаря пассивности. О возмущении обычно судят мягче; между тем, если индивид остается в нем, в этом индивиде должно быть достаточно активности, чтобы выдерживать страдания возмущения и вместе с тем не желать его покидать. В возмущении заложена некая восприимчивость (ведь дерево или камень не возмущаются), которая принимается в расчет даже при снятии возмущения. Напротив, пассивность возмущения находит, что гораздо приятнее просто сидеть спокойно и позволять последствиям этого возмущения набирать проценты и проценты с процентов. Потому лицемерие – это возмущение самим собой, а возмущение – это лицемерие относительно самого себя.
Обоим недостает внутреннего смысла, и оба они не осмеливаются прийти к самим себе. Потому всякое лицемерие кончается тем, что человек начинает лицемерить с самим собой, поскольку тогда лицемер начинает либо возмущаться собой, либо доводить самого себя до возмущения. А потому и всякое возмущение, если оно не устранено, кончается лицемерием перед другими, поскольку возмущенный человек благодаря изначальной активности, силой которой он и остается в возмущении, превращает свою восприимчивость во что-то иное, а значит, ему теперь приходится лицемерить перед другими. В жизни случается также, что индивид, который пришел в возмущение, в конце концов начинает пользоваться этим возмущением как фиговым листком для чего-то, что в противном случае потребовало бы покровов лицемерия.
Гордость – трусость. Гордость начинается благодаря активности, а трусость благодаря пассивности, в остальном же обе они представляют собой одно и то же; ибо в трусости заложено все-таки достаточно активности, чтобы сохранять бодрствующим страх перед добром. Гордость – это и основе своей трусость: ибо она достаточно труслива, чтобы не желать понимать, что поистине жмется гордостью; как только ее принуждают к этому пониманию, она тотчас же становится трусливой, с шумом рассыпается на части и лопается как мыльный пузырь. Трусость – это в основе своей гордость, ибо она достаточно труслива, чтобы ни разу не пожелать понять даже требований непонятой гордости; как только она сжимается таким образом, она сразу же демонстрирует свою гордость, умея довести до сведения всех, что еще никогда не понесла поражения; поэтому она горда тем негативным выражением гордости, которое спешит сообщить, что никогда еще не терпело неудачи. В жизни случается, что какой-нибудь весьма гордый индивид был достаточно труслив, чтобы стать как можно менее заметным, и все это – как раз ради того, чтобы спасти свою гордость. Если бы активно гордый и пассивно гордый индивиды оказались сведены вместе, причем в то самое мгновение, когда первый пал, можно было бы тотчас же получить возможность убедиться в том, насколько на самом деле горд трус .
с) Чтo такое уверенность и внутренний смысл? Их, конечно, нелегко определить. Между тем сейчас мне хотелось бы сказать: они суть серьезность. Это слово понятно каждому но с друг стороны, весьма примечательно, что не так уж много слов, которые становились бы предметом рассмотрения реже, чем это слово. Когда Макбет убил короля, он воскликнул: "Von jetzt gibt еs nichts Ernstes mehr im Leben: // Alles ist Tand, gestorben Ruhm und Gnade! // Der Lebenswein ist ausgeschenkt!"
Макбет конечно же убийца, и потому слова на его стах обретали пугающую и поразительную истинность, однако каждый индивид, который потерял внутренний смысл может точно так же сказать: "Der Lebenswein ist ausgeschenkt", а также "jetzt gibt es nichts Ernstes mehr im Leben, Alles ist Tand", ибо внутренний смысл это как раз тот источник, из которого струится вечная жизнь, причем вытекает из этого источника как раз серьезность. Когда Екклезиаст говорит: "Все суета сует", он подразумевает in mente ("в сознании" (лат.)) именно серьезность. И напротив, если слова эти о том, что все суета сует, сказаны лишь после того, как серьезность утрачена, мы имеем дело всего лишь с активно-пассивным выражением этой суеты (вызов тоски) или же с пассивно-активным ее выражением (вызов легкомыслия и остроты), а значит, пришло время для плача или для смеха, но серьезность тут потеряна.
Насколько мне известно – в меру моей осведомленности – не существует ни одного определения того, что такое серьезность. Если таких определений действительно нет, это меня только порадует, не потому, что я такой уж поклонник современного текучего и взаимослиянного мышления, которое сторонится каких бы то ни было определений, но потому, что в отношении экзистенциальных понятий всегда будет проявлением большего такта воздержаться от каких бы то ни было определений, ведь человек едва ли может испытывать склонность к тому, чтобы постигать в форме определения то, что по самому своему существу должно пониматься иначе, что он сам понимал совершенно иначе и что он совершенно иным образом любил; в противном же случае все это быстро становится чем-то чужим, чем-то совершенно иным. Тот, кто действительно любит, едва ли может находить радость, удовольствие, не говоря уже о развитии и содействии, в том, чтобы докучать себе определениями того, что же такое, собственно, эта любовь. Тот, кто живет в ежедневном и все же праздничном общении с представлением о том, что Бог существует, едва ли может пожелать отравить это все для самого себя или же видеть, как это отравляется вследствие того, что он сам по частям, с трудом подбирает определение того, что же такое Бог. Так же обстоит дело и с серьезностью, каковая представляет собою столь серьезную вещь, что даже определение ее окажется легкомыслием. И я не говорю так оттого, что мысли мои лишены ясности, или же оттого, что я боюсь, как бы тот или иной сверхпроницательный спекулятивный мыслитель не отнесся ко мне с некоторым подозрением, будто я сам не знаю прекрасно, о чем я говорю, – спекулятивный мыслитель, который так же упорно держится за развитие своих понятий, как математик держится за свои доказательства, и который поэтому говорит обо всем остальном то же, что повторял некий математик: "Ну и что это доказывает?"; ибо мне кажется, то, что я здесь говорю, служит куда лучшим, чем всякое понятийное развитие, доказательством того, что я всерьез знаю, о чем идет речь.
Хотя я не склонен сейчас давать определения серьезности или же с серьезностью трактовать шутку абстракции, мне все-таки хотелось бы предложить здесь несколько ориентировочных замечаний. В "Психологии" Розенкранца есть определение "настроениям". На странице 322 он говорит, что настроение – это единство чувства и самосознания. В предшествующем изложении он прекрасно объясняет, "da8 das Gefuhl zum Selbstbewu8tsein von dem Subjekt als der seinige gefuhlt wird. Erst diese Einheit kann man Gemut nennen. Denn fehlt die Klarheit der Erkenntnis, das Wissen vom Gefuhl, so existiert nur der Drang des Naturgeistes, der Turgor der Unmittelbarkeit. Fehlt aber das Gefuhl, so existiert nur ein abstrakter Begriff, der nicht die letzte Innigkeit des geistigen Dasteins erreicht hat, der nicht mit dem Selbst des Geistes Eines geworden ist" (см. С. 320-321).
Если обратиться теперь вспять и проследить его определение "Gefuhl" ("чувство" (нем.)) как того, что для духа является "unmittelbare Einheit seiner Seelenhaftigkeit und seins Bewuсtseins" (С. 242), а также вспомнить о том, что в определении "Seelenhaftigkeit" ("душевность" (нем.)) принималось во внимание единство с непосредственными определениями природы, тогда, соединив все это, можно получить представление о конкретной личности.
Серьезность и настроение соответствуют друг другу таким образом, что серьезность является более высоким, равно как и более глубоким выражением для того, что представляет собою настроение. Настроение – это определение непосредственности, между тем как серьезность, напротив, является приобретенной оригинальностью настроения, тогда как сохраненная оригинальность настроения заложена в свободе, а поддерживаемая оригинальность – во вкушении блаженства. Оригинальность настроения в ее историческом развитии проявляет как раз вечное в серьезности, отчего, скажем, серьезность никогда не может сделаться привычкой. Привычкой Розенкранц занимается в разделе "Феноменология", а не в разделе "Пневматология"; однако привычка относится и к последнему, и привычка возникает, как только из повторения исчезает вечное. Если оригинальность приобретается и сохраняется в серьезности, она является последовательностью и повторением, но как только в повторении отсутствует оригинальность, мы имеем дело с привычкой.
Серьезный человек серьезен именно благодаря оригинальности, посредством которой он возвращается в повторение. Часто говорят, что живое и внутреннее чувство сохраняет эту оригинальность, однако внутренним смыслом чувства является огонь, который может тотчас же остыть, коль скоро серьезность более его не поддерживает; с другой же стороны, внутренний смысл чувства неопределен в своем настроении, то есть в один момент он может быть более внутренним, чем в другой.
Приведу один пример, чтобы сделать все возможно более конкретным. Каждое воскресенье священник должен читать предписанную молитву, и каждое воскресенье он должен крестить нескольких детей. Предположим теперь, что он искренне воодушевляется, однако огонь может и гаснуть, этот священник будет, скажем, потрясать и трогать людей, но один раз больше, а другой – меньше. Только серьезность способна regelma Big ("равномерно", "упорядоченно" (нем.)) каждое воскресенье возвращаться к тому же самому с равной оригинальностью .
Однако это "то же самое", к которому серьезность должна снова возвращаться все с той же серьезностью, может быть только самой этой серьезностью; в противном случае она станет педантизмом. Серьезность в том смысле означает саму личность, и лишь такая серьезная личность и есть действительная личность, и лишь серьезная личность может делать что-то с серьезностью; ибо, для того чтобы делать нечто с серьезностью, необходимо прежде всего знать, что выступает предметом этой серьезности.
В жизни нередко говорят о серьезности; один серьезно относится к государственному долгу, другой – к категориям, третий – к театральной постановке и так далее. Ирония быстро обнаруживает, что все это происходит таким образом, и здесь ей есть чем заняться; ибо каждый, кто серьезен не там, где нужно, ео ipso ("тем самым" (лат.)) комичен, хотя столь же комичное травестированное окружение и мнение такого окружения могут относиться к этому в высшей степени серьезно. Потому нет более точного масштаба, помогающего определить, к чему в своей глубочайшей пригоден индивид, чем выяснение, к чему же в своей жизни он относится серьезно, а это можно узнать благодаря собственной разговорчивости человека, а можно хитростью вытащить из него его тайну. Ведь человек вполне может родиться с определенным настроением, но вот с серьезностью он никогда не рождается. Само выражение "то, к чему в своей жизни он относится серьезно" должно, естественно, пониматься в строгом смысле слова как то, из чего индивид в глубочайшем смысле выводит свою серьезность, ибо после того как человек поистине стал серьезен относительно того, что является предметом серьезности, он может, пожелай он теперь этого, серьезно обходиться с самыми разными вещами, однако вопрос состоит в том, стал ли человек прежде серьезен относительно предмета серьезности. Такой предмет присущ каждому человеку – ибо это он сам, – и тот, кто не стал серьезным относительно этого, но приобрел серьезность относительно чего-то другого, чего-то громадного и шумного, – тот, несмотря на всю свою серьезность, просто шутник, и даже если ему и удается некоторое время обманывать иронию, ему все же еще придется, deo volente ("если будет на то воля Божья" (лат.)), стать комичным; ибо ирония ревнует к серьезности. И наоборот, тот, кто серьезен там, где нужно, доказывает здравие своего духа именно тем, что он способен обходиться со всем прочим как чувствительно, так и шутливо, – пусть даже дураки серьезности холодеют, когда он шутливо трактует нечто, по поводу чего они стали так ужасно серьезны. Но вот в том, что касается серьезности, он не потерпит никаких шуток; стоит ему забыть об этом, с ним может приключиться то же, что и с Альбертом Великим, когда тот высокомерно похвалялся перед божеством своей спекулятивной философией , – и вдруг совершенно поглупел, или же то, что случилось с Беллерофоном, который спокойно садился на Пегаса, пока служил идее, но сразу же свалился с него, как только попробовал злоупотребить Пегасом, заставляя его везти себя на свидание с земной женщиной. Внутренний смысл, уверенность – это и есть серьезность. Это кажется несколько скудным; если бы я по крайней мере сказал, что это субъективность, чистая субъективность, ubergreifende ("всеохватывающий" (нем.)) субъективность, – тут я сказал бы хоть что-нибудь, и это наверняка сделало бы кого-то серьезным. Однако я могу выразить серьезность также и другим способом.
Как только не хватает внутреннего смысла, дух оказывается конечным. Стало быть, внутренний смысл – это вечность или вечное определение человека.
Если действительно стремиться к тому, чтобы исследовать демоническое, нужно всего лишь обратить внимание на то, как постигается вечное в индивидуальности, и сразу же можно во всем разобраться. В этой связи новейшее время предлагает самое широкое поле для наблюдений. О вечном в наши дни говорят достаточно много, его отвергают и принимают, и надо сказать, что как первое, так и второе (в зависимости от способа и метода, которым это делается) выдает недостаток внутреннего смысла. Однако тому, кто не понял вечное по достоинству, не понял совершенно конкретно , – ему не хватает внутреннего смысла и серьезности.
Мне хотелось бы здесь говорить подробнее; тем не менее я укажу на некоторые моменты.
а) Некоторые отрицают вечное в человеке. Но в то же самое мгновение "der Lebenswein (ist) ausgeschenkt" ("вино жизни пролито" (нем.)), и каждая такая индивидуальность оказывается демонической. Если же полагается вечное, настоящее оказывается чем-то другим, чем его желает видеть человек. Человек боится этого и тем самым оказывается в страхе перед добром. Он может теперь продолжать отрицание вечного сколь угодно долго, все равно тем самым ему не удастся целиком изгнать жизнь из вечного. И даже если он уже готов признать вечное до определенной степени и в определенном смысле, он все равно будет бояться его в некотором ином смысле и в более высокой степени; но как бы активно он при этом ни отрицал вечное, ему все равно не избавиться от него целиком. В наши дни вечного боятся слишком сильно, даже если нечто подобное признается в абстрактных и весьма лестных дня вечного выражениях. В то время как сегодня некоторые правительства живут в страхе перед разными там буйными головами, слишком многие индивиды живут в страхе перед одной лишь буйной головой, которая на самом-то деле является истинным местом успокоения, – перед вечностью. Потому они возвещают о мгновении, и точно так же как путь к гибели вымощен благими намерениями, вечность легче всего уничтожить одними лишь мгновениями. Но отчего же люди так ужасно спешат? Если даже нет никакой вечности, мгновение все равно столь же долго, как если бы она была. Но страх перед вечностью превращает мгновение в абстракцию. Впрочем, такое отрицание вечного может выражаться непосредственно и опосредованно самыми разнообразными способами: как издевка, как прозаичное самоопьянение рассудочностью, как деловитость, как воодушевление временным.
b) Некоторые постигают вечное совершенно абстрактно. Подобно голубым горам, вечное является границей временности, но тот, кто мощно живет внутри временности, никогда не достигает границы. Единичный индивид, который выглядывает наружу в поисках вечности, оказывается пограничным постовым, который стоит за пределами времени.
с) Некоторые пригибают вечное внутрь времени рад воображения. Понимаемое таким образом вечное оказывает чарующее воздействие, человек уже не знает, мечта это или действительность. Вечность со своими мечтательными мыслями печально или лукаво заглядывает внутрь мгновения, подобно тому как лунный свет мерцает в освещенной роще или зале. Мысль о вечном становится фантастическим конструированием, настроение же все время остается тем же: "Я ли тут вижу все это во сне, или это вечность видит сны обо мне?"
А некоторые даже просто и прямо, без всякого там кокетливого двойственного смысла, постигают вечность как нечто, пригодное лишь для фантазии. Подобное постижение нашло себе определенное выражение в тезисе: "Искусство – это предвосхищение вечной жизни"; а ведь поэзия и искусство являются примирением только для фантазии, они вполне могут обладать Sinnigkeit ("чувственность" (нем.)) интуиции, но уж никак не Innigkeit ("внутреннее" (нем.)) серьезности. Некоторые рисуют вечность мишурой фантазии, а потом сами же томятся по ней. Некоторые видят вечность на апокалиптический манер, они подражают Данте, между тем как сам Данте, как бы он ни уступал взгляду воображения, все-таки никогда не снимал действия этического акта суждения.








