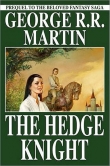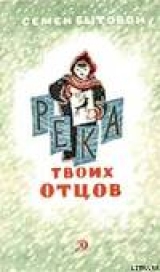
Текст книги "Река твоих отцов"
Автор книги: Семен Бытовой
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
Сородэ, друг капитан!
Пожилая русская женщина, с которой орочи разговорились на пароходе, обещала довести их до Краевого музея, где жил Арсеньев.
Пароход «Совет» бросил якорь у речной пристани в полночь, но город еще не спал. Многоэтажные дома на сопках светились огнями. Много света было и на пристани. Люди, пришедшие встречать пароход, столпились у сходен.
Непривычный шум удручающе действовал на орочей. Они испуганно оглядывались по сторонам, жались друг к другу, о чем-то между собой шептались.
– Ну что ж, друзья, пошли! – сказала женщина, берясь за чемодан. Но Тихон отстранил ее и взвалил чемодан себе на плечо.
Они поднялись по крутой лестнице, и по узкой дорожке вышли на широкую площадь. Возле собора с колокольней, уходившей позолоченным куполом в звездное небо, орочи остановились.
– Как там люди живут, – понять не могу! – удивленно воскликнул Михаил Намунка.
– На колокольне люди не живут, они вон там живут, где свет в окнах, – пояснила женщина, указав рукой на соседнее с собором пятиэтажное здание.
– Такой дом если на Тумнине поставить, всех наших орочей поселить можно, – сказал Тихон Акунка.
– Ладно тебе, думай меньше, – шепотом ответил Михаил Петрович, будто слова юноши испугали его.
С площади путники свернули на узкую улицу и пошли мимо густого темного парка. Вдали, в просвете между деревьями, блестел Амур. Возле небольшого двухэтажного дома женщина остановилась.
– Вот и музей, – сказала она. – Вы пришли. А я пойду дальше. Давайте мой чемодан.
Но Тихон не отдал чемодан.
– С тобой пойдем, – сказал он. – Тяжелый он…
– Спасибо, – поблагодарила женщина. – Но как бы вам на обратном пути не заблудиться…
– Однако, нет, – уверенно заявил Александр Намунка и, выдернув из-за пояса топорик, стал делать зарубки на деревьях, росших вдоль улицы.
Вернувшись, орочи не стали будить Арсеньева. Постояв у калитки, достали барсучьи шкурки и, расстелив их на траве, стали устраиваться на ночлег. Было прохладно, и Тихон, собрав сухие ветки, развел костер.
В это время в одном из окон первого этажа зажегся свет. Орочи испуганно переглянулись. Но тут окно распахнулось, и густой негромкий голос спросил:
– Кто здесь? Почему на улице дым?
– Сородэ! Друг капитан! – громко закричал Тихон, узнав Арсеньева.
– А-а-а! Сородэ! Пришли все-таки.
Со скрипом отворилась калитка, и перед орочами появился Владимир Клавдиевич без шапки, в накинутом на плечи пальто. Александр Намунка не успел хорошенько разглядеть Арсеньева, как тот уже обнял его, привлек к себе. Потом Арсеньев схватил руку Тихона.
– И ты пришел, маленький Акунка?
– Его большой стал – весело заметил Александр.
– Вижу, что вырос. Настоящий охотник! Еще кто пришел?
– Намунка Михаил!
– Намунка, Михаил? Помню, помню! Смелее идите, смелее, дорогие друзья мои.
Вдруг он громко закашлялся, и острые, худые плечи его пригнулись. Отдышавшись, он вытер платком глаза и поднялся на крыльцо.
В комнате, усаживая гостей, Владимир Клавдиевич смеялся над тем, что Тихон развел на улице костер.
– Сразу видно – таежник!
А Тихон с удивлением разглядывал комнату, картины на стенах, красочные тарелки, чучела птиц, оленьи рога. Он был подавлен обилием предметов. Он переводил взгляд со стены на стену, потом смотрел на Арсеньева, и ему все еще не верилось, что этот худой, с бледным, осунувшимся лицом человек – тот самый капитан Арсеньев, который приходил к ним в стойбище.
– Что, капитан, здоровье худо? – спросил он.
– Почему худо? Би ая бави![10]10
Би ая бави – Я хорошо живу
[Закрыть] Я еще в тайгу собираюсь. Скучно мне без тайги, без сопок.
– Нгендяпи хувонты,[11]11
Нгендяпи хувонты – Пойдем в тайгу
[Закрыть] капитан, – оживился Александр Намунка. Он поднял с пола мешок, достал унты. – Это, капитан, тебе! Носи долго!
– Спасибо, друзья мои, спасибо! – Арсеньев рассматривал унты, особенно орнамент, вышитый разноцветными нитками. Пожав руку Александру Лазаревичу, спросил: – Кто же их сшил?
– Ефросинья Ауканка. Помнишь?
– Как же, помню. Лучшая ваша мастерица! Как ее муж, Трофим Ауканка, поживает?
– Худо ему, – сказал Михаил Намунка. – Всю зиму болел. Шаман Никифор лечил.
– И что же, вылечил?
– Нет, конечно! – поспешно сказал Тихон.
Принесли на подносе небольшой, до блеска начищенный самовар. Он шумел, из дырочек струился пар. Михаил Намунка быстро отодвинулся от самовара.
– Шумит, ровно амба…
Когда стали пить чай, Арсеньев сказал:
– Вот что, друзья мои: ваше письмо, что Кирилл Иванович писал, недавно обсуждали большие советские начальники. Решили послать на Тумнин инструктора. Он уже на днях выехал. Зовут его Иванов Василий Иванович. Высокий такой мужчина, с усами… – Арсеньев показал, какие у инструктора большие усы. – Жаль, что вы с ним разъехались.
– Э-э-э, худо… – протянул Михаил Намунка. – Где его ульмагду возьмет?
– Зачем ему ульмагда? Товарищ Иванов выехал поездом до Владивостока. Оттуда на пароходе – до Хади. Из Хади – катером в Датту. Товарищ Иванов приедет на Тумнин, выяснит на месте, в чем нуждаются орочи, а Советская власть, закон Ленина, даст им все, что нужно. Думаю, что и наши экспедиции не зря через перевал Сихотэ-Алинь ходили. Придет время, и там, где шумела глухая тайга, вырастут города, проложат железную дорогу, на Тумнин побежит поезд… – И, ласково посмотрев на Тихона Акунку, добавил: – Может быть, ты и поведешь сквозь таежные дебри тот первый счастливый поезд…
– Верно, Тихон, давай! – засмеялся Александр Намунка. – Капитан Арсеньев знает, что говорит…
Но Тихон не поверил, что может случиться такое чудо. Опустив голову и зажав в кулаке давно погасшую трубочку, он думал о главном, что его волновало: «Догадаются ли городские начальники прислать на Тумнин учителя?»
Они еще долго сидели за столом. Время за беседой шло незаметно Тихон не очень прислушивался к тому, что говорили между собой старшие. Его занимали свои думы. Он отодвинул стакан с недопитым чаем, встал, подошел к стене, где висели фотографии, и с любопытством стал их рассматривать. На одной карточке он увидел пожилого таежника, лицом и одеждой похожего на ороча. Тихону даже показалось, что он где-то встречал его, но не мог припомнить, где именно.
– Этот – кто есть? – спросил он Арсеньева.
– Дерсу Узала.
– Не слыхал.
Арсеньев протянул руку к этажерке, достал оттуда книжку, полистал ее.
– В этой книге я написал о моем лучшем друге, Дерсу Узала. Он был моим спутником в походах по тайге. Однажды Дерсу спас меня от верной гибели. Возьми эту книгу себе, юноша. Когда выучишься грамоте, почитаешь ее. Думаю, тебе интересно будет узнать, какой замечательный человек был мой гольд. Ведь и ты тоже отважный таежный следопыт. Может быть, и тебе, Тихон, когда-нибудь придется сопровождать экспедиции по тайге и сопкам…
Тихон взял книгу, полистал страницы и спрятал под сорочку.
– Спасибо, капитан. Когда вернусь в Уську, попрошу хромого Кирюшку, чтобы почитал ее мне. Его, знаешь, шибко здорово читает!
– Вот как дело наше было, – заключил свой рассказ о походе в город к Арсеньеву Тихон Акунка. – Когда товарищ Иванов в нашу Уську приехал, он мало-мало орочам нашим помог. – И, посмотрев на Сидорова, добавил – После Николай Павлович к нам приехал, мы стали жить еще лучше.
– Что вы, что вы, Тихон Иванович, – пытался возразить Сидоров.
– Прости, Николай Павлович, однако, я правду сказал! – еще более твердо заявил Акунка.
Мечты сбываются
В отделе народного образования Сидоровым предложили на выбор несколько школ. Как опытного педагога, его хотели оставить в городе, но Николай Павлович отказался. Они с Валентиной Федоровной уехали из Владивостока, мечтая попасть в какую-нибудь глухую северную школу.
– Есть в районе одно место, – сказал, наконец, заведующий. – Но там тайга, глушь, школа плохонькая. Там живут орочи – маленькое племя охотников. За три года в той школе сменилось несколько учителей. Этим летом опять двое уехали. И ученики, глядя на своих воспитателей, стали по тайге разбегаться. Ведь у орочей мальчики в десять-двенадцать лет уже охотники. Ну как, товарищ Сидоров, не о такой ли школе вы мечтали?
– В чем же дело? Почему оттуда уезжают учителя? – спросила жена Сидорова.
– Дело в том, что у орочей нужно быть не только учителем детей, но и учителем взрослых. Придется решать и вопросы хозяйственные, бытовые, культурные, – одним словом, все! Ну как, согласны ехать к орочам?
– Конечно, – сорвалось у Валентины Федоровны. Но, заметив, что Николай Павлович задумался, спросила мужа: – Как, мы согласны?
– Да, поедем в Уську!
Стоял ноябрь, а Тумнин все еще не замерзал. Холодные ветры гнали шугу. Неожиданно ночью ударил сильный мороз и накрепко сковал реку.
Сидоровы не совсем понимали, почему им нужно ехать в Уську-Орочскую по реке – неужели нельзя берегом? Но вскоре убедились, что проезжих берегов здесь почти не существует. Река – единственный путь среди хаотического нагромождения скал и сплошных зарослей тайги.
Мохнатая, вся в изморози лошадка шла по ледяной реке, и стук подкованных копыт отдавался эхом в горах.
Николай Еменка то сидел ссутулившись, свесив ноги с саней, то спрыгивал и бежал за санями. Вожжей в руки он не брал, а подбадривал лошадь, как собачью упряжку, гортанным криком:
– Tax, тах, кхай!
Валентина Федоровна лежала с ребенком под теплой медвежьей шкурой, которую захватил с собой в дорогу Еменка. Когда сани начинало швырять по торосам, ребенок просыпался, плакал.
Николай Павлович сидел задумавшись. Его беспокоило, как он будет работать в таежном поселке среди незнакомых людей, которые еще верны своим древним диким обычаям. Скорей всего они не поверят, что новые учителя решили надолго поселиться в Уське-Орочской.
Вчера, когда он ужинал с Еменкой, тот не слишком охотно рассказывал о делах в стойбище. А когда Николай Павлович спросил, может ли он, Еменка, читать и писать, ороч посмотрел на Сидорова удивленными глазами.
– Это детишкам учиться надо. А нам, пожилым людям, зачем? Стрелять лесного зверя – грамоты не надо. А наш брат ороч все время в тайге, на охоте.
– Неужели среди ваших людей нет ни одного грамотного?
Подумав, Еменка сказал:
– Тихон Акунка мало-мало знает.
– Кто же учил его, Тихона?
– Когда в Уське почту открыли, туда русская девушка приехала. Настей звать ее. Она и учила.
– Значит, у ваших людей есть желание учиться?
– Кто захочет, а кто не захочет…
– Ну, а вы, Николай Петрович, хотите?
Еменка промолчал.
«Что ж, утром мы будем заниматься с детьми, а вечером – со взрослыми», – думал Сидоров.
И, вспомнив, что большинство мальчишек разбежалось по охотничьим становьям, решил, что сразу же, как только приедет, отправится в тайгу и соберет ребят в школу. Николай Павлович понимал, что нелегкое это будет дело, что иных калачом туда не заманишь, но именно с этого, как ему казалось, и следует начинать.
Сидоровы ужаснулись, когда в сумерках Еменка подогнал сани к ветхой завалившейся избушке и объявил:
– Это, однако, школа будет!
Внутри помещение выглядело еще хуже. Один-единственный класс был разделен фанерной перегородкой. Вместо печи здесь стояла железная бочка из-под нефти с закопченной трубой. Труба была без заслонки. Стены в классе, парты, стол, доска покрыты толстым слоем сажи. Бочку давно не топили. Около нее на полу стояло ведро со льдом и небольшой обледеневший чайник. А в потолке, куда выходила железная труба, сквозило небо.
Сидоровы заняли крохотную комнату по соседству с классом. Здесь тоже стояла железная бочка. Вся она обледенела. Валентина Федоровна постучала по ней кулаком, внутри что-то загрохотало, посыпалось.
Орочки, пришедшие взглянуть на новых учителей, молчали.
– Ну что же, возьмемся за уборку, – сохраняя спокойствие, сказала Валентина Федоровна. – Я думаю, вы поможете привести в порядок помещение.
Женщины нерешительно потоптались и стали тесниться к выходу.
В это время дверь резко открылась и вошел ороч, небольшого роста, коренастый, очень подвижный, с давно небритым скуластым лицом и черными глазами, глядевшими исподлобья. Прежде чем поздороваться с Сидоровым и его женой, он тут же у порога скинул с себя меховую полудошку, шапку-ушанку и, оставшись, несмотря на жуткий холод, в сатиновой сорочке, сказал бодрым голосом:
– Сейчас буду дело делать! – И, только теперь вспомнив, что не успел назвать себя, произнес громко: – Я, однако, Тихон Акунка буду.
– Здравствуйте, товарищ Акунка, – протянул ему руку учитель и назвал себя и жену. – Рад познакомиться с вами.
– Пускай, чего там! – И стукнул по бочке: – Сейчас, однако, топить будем.
С этими словами он выбежал во двор и через несколько минут вернулся с большой охапкой березовых дров. Надрав немного бересты, сунул ее в бочку, поджег, а когда береста загорелась, положил на огонь несколько тонких поленьев.
Когда железная бочка накалилась докрасна, со стен потекла вода. Дым из покосившейся трубы почти не выходил наружу, оставался в комнате. Стало трудно дышать. Заплакал ребенок.
– Нет, ему тут не годится, – спохватился Тихон. – Ты, Валентина Федоровна, ко мне в дом неси его. – И, распахнув двери, показал на небольшой бревенчатый дом напротив: – Там ему теплей будет…
Тихон помог Сидорову заделать отверстие в крыше. Потом они смели в одну кучу мусор и на листе фанеры вынесли из помещения.
– Ну, а теперь согреем чай, посидим, побеседуем, – предложил Николай Павлович.
– Посидим, чего там, – согласился Тихон и закурил трубку. – Завтра Михаил Намунка из тайги придет, с ним решим, что дальше тебе делать.
– А кто он, Намунка?
– Председатель сельсовета будет.
Когда вода в чайнике закипела, Николай Павлович бросил туда несколько щепоток чаю, достал из корзины фарфоровые чашки, сахар, хлеб, банку мясных консервов.
– Ты у нас гость, Николай Павлович, – засмеялся Тихон, поставив на ладонь чашку и отхлебывая горячего чаю, – нам тебя угощать надо…
– Ничего, Тихон Иванович, обживемся – к вам в гости приду.
– Давай, чего там. Наш брат ороч гостю всегда рад…
До позднего вечера они сидели у огня, и Николай Павлович слушал рассказ Тихона о его лесном народе. Перед русским учителем прошла вся жизнь орочей, их долгие кочевки по берегам таежных рек, их большие беды и маленькие радости, их древние обычаи и поверья.
– Старики говорят, когда-то нас много больше было. – сказал Тихон. – Я и сам помню: на речке Ма целое стойбище Дунка жило. Добрые были охотники. Как зима придет, каждый по две сотни белок добывал, соболей много, лисиц… Наши Акунки в худой год у них в долг шкурки брали. Потом весной вдруг злое поветрие на Ма пришло. И знаешь, еще лед на реках не прогнало, Дунки померли от болезни, а от какой – не знаем, конечно. После говорили, оспу ветер пригнал. – И, пососав остывшую трубку, печально добавил: – Наших Акунков тоже немало погибло, а давно когда-то три больших стойбища было нас. Вот нашу старую атану[12]12
атана – родная бабушка
[Закрыть] спросишь. Она скоро сто зим живет. Много кое-чего помнит.
– Еменка говорил, что только вы один, Тихон Иванович, учились грамоте. А вот ваш председатель сельсовета Михаил Намунка умеет читать и писать?
– Намунка не умеет. Прежде, когда бумага из города придет, он меня помогать звал. Я, однако, тоже не каждую бумагу понимаю. Нынче из Усть-Датты девчонку в сельсовет прислали.
– В Уське все ваши орочи живут?
– Нет, не все.
– Почему?
– Домов мало в Уське. Когда новые дома построят, люди потянутся…
Николай Павлович посмотрел на часы.
– Ну, спасибо за помощь, за беседу, Тихон Иванович. Идите отдыхать…
– Пойду, чего там, – поднимаясь, сказал Акунка. – Завтра Намунка из тайги придет, еще поговорим.
В морозном небе стояла большая луна. На сопках, тесно обступивших долину, голубыми искрами переливались снега.
Проводив Тихона, Николай Павлович подбросил в бочку дров, постелил на топчане ватное одеяло, не раздеваясь лег, но долго не мог заснуть.
Он был взволнован рассказом Тихона. Сидоров отлично сознавал, как нелегко будет ему здесь на первых порах. Но мысль о том, что они с Валентиной Федоровной прибыли к орочам в такое время, когда маленький народ особенно нуждается в помощи, окончательно убедила Николая Павловича, что он не ошибся, решив поехать в Уську-Орочскую.
Несмотря на поздний час, в доме у Тихона, кроме Галочки Сидоровой, никто не спал.
Только Валентина Федоровна пришла туда, чтобы накормить и уложить ребенка, следом явились соседки. Сели на корточках вдоль стены и, дымя трубками, молчаливо смотрели на учительницу. Им было в диковину, как она, обвязав чистым платочком шею и грудь Галочке, поит ее с блюдечка чаем, дает откусывать хлеб с маслом и каждый раз вытирает ей губки белоснежной марлей.
Сперва Валентина Федоровна не обращала внимания на то, что женщины курят, а когда комната наполнилась дымом, попросила их погасить и спрятать трубки.
– Ребенку нехорошо от дыма, – сказала она, – ему нужен свежий воздух.
Женщины удивленно переглянулись.
– Ну пожалуйста, прошу вас, – как можно ласковее опять попросила она.
– Ладно, раз говоришь, не будем, – сказала полная женщина лет тридцати, в коротком синем халате. Густые черные волосы были у нее зачесаны назад и перехвачены чуть повыше лба металлической дужкой. В ушах болтались длинные серьги – серебряные монеты на латунной цепочке. Придавив пальцем пепел в трубке, она спрятала ее в рукаве халата.
Ее примеру последовали и другие.
Накормив девочку, Валентина Федоровна уложила ее в углу на топчан, который застелила чистой простынкой. Потом задернула ситцевый полог, отделяющий угол комнаты, и вернулась к столу.
– Может быть, гостьи чаю хотят? – спросила она и посмотрела на жену Тихона, которая уже начала убирать со стола.
– Поздно, однако, – без всякого смущения ответила та, – завтра придут чай пить.
– Что ж, пусть завтра. – И обратилась к полной женщине: – Придете завтра?
– Наверно, – как-то неопределенно ответила орочка и добавила: – Мы часто ходим сюда. – И показала рукой на окно: – Тут близко живем.
– Соседи?
Та кивнула головой.
– А как зовут вас?
– Евдокия Акунка буду.
– А вас как зовут? – спросила учительница старую женщину с широким скуластым лицом, которая сидела на полу, подперев кулаком подбородок, и с каким-то удивлением смотрела на Валентину Федоровну.
– Ефросинья Ауканка буду! – Она по привычке стала набивать табаком трубку, но не торопилась закурить. – Завтра девочке твоей унтики сошью, хочешь, нет?
– Верно, сшей унтики, – подхватила Евдокия, – а то девочке холодно будет по улице бегать.
– Спасибо, – поблагодарила Валентина Федоровна. – Сшейте моей Галочке унтики, я заплачу вам.
Старушка быстро замахала руками:
– Что ты, разве надо!
Валентине Федоровне показалось, что Ефросинья обиделась, и она переменила разговор:
– Скоро мы устроимся, будете часто к нам приходить, получше друг друга узнаем.
– Зима пройдет, уедешь, наверно? – неожиданно спросила Ефросинья.
– Нет, милая, мы с Николаем Павловичем приехали к вам надолго.
Лицо старушки оживилось.
– Айя-кули! Хорошо, что надолго. – И, подумав, спросила: – Разве в твоем городе худо было, что к нам в тайгу приехала?
– Ведь мы с Николаем Павловичем учителя. А учитель должен в школе работать. Детей учить. Вот мы и приехали учить ваших детей.
– Разве в твоем городе школы совсем нету?
– Почему нет? В городе много школ. А вот у вас, в Уське, школа есть, а учителей нет.
– Были, да уехали, – сказала Евдокия.
Ауканка уперлась кулаками в пол, медленно поднялась, постояла немного на согнутых коленях, потом выпрямилась и заковыляла к двери.
– Пойдем, однако, Евдокия. Валентина Федоровна проводила их.
– Спокойной ночи!
– Ладно, пускай будет! – ответила бабушка и, взяв Евдокию под руку, чтобы не поскользнуться, пошла с ней через улицу.
Вскоре домой вернулся Тихон.
– Давай спи, с дороги устала. Твой Николай Павлович давно спит. – И, стянув унты, лег на медвежью шкуру посреди комнаты.
Свой топчан он уступил Валентине Федоровне.
«Что там, за перевалом?»
Не прошло и двух недель после приезда учителей, как школа преобразилась. Первым делом Николай Павлович починил крышу. Потом взялся за железную бочку, заменявшую печь. Заделал пробоины, наставил трубу, смастерил в трубе задвижку, чтобы тепло не так быстро улетучивалось. Помогали Николаю Павловичу ребята. Они месили глину, стругали доски, гнули железные скобы, выполняли все указания учителя.
Тем временем Валентина Федоровна с девочками занималась уборкой: мыли парты, драили полынными швабрами пол, а потом белили стены.
Смотреть, как белят класс, пришли орочки со всей Уськи. Старухи просто сели на пол, закурили трубки и не сводили глаз с учительницы, которая ловко работала короткой толстой кистью. Лица у старух были забрызганы мелом, но они, казалось, не обращали на это никакого внимания.
– Ну как, нравится побелка? – спросила Валентина Федоровна.
Орочки молча переглянулись, а одна из них, бабушка Адьян, призналась:
– Первый раз видим. В юртах никогда стен не мазали.
– То в юртах, а ведь нынче многие из вас в домах живут.
– А в новых зачем мазать?
– В некоторых домах, я видела, стены уже закоптились, а ведь скоро Новый год – праздник. Надо побелить. Кто захочет к празднику побелить, мы с девочками придем, побелим.
– Никто не захочет, – сердитым голосом сказала молодая женщина в сатиновом халате с яркой вышивкой. Она схватила за руку свою девочку, разводившую мел, и потащила ее к двери. – Иди, однако, хватит тебе мазаться.
– Ну, зачем, Глафира Петровна, уводите Наташу? Ведь для себя девочки школу белят. Разве плохо, когда ученики сядут за парты в чистом, уютном классе? Вашей дочери, Глафира Петровна, много лет в школу ходить придется. Так что оставьте ее, пускай поработает.
– Пускай, Глафира, чего там, – вмешалась бабушка Адьян. – Детишкам забава есть.
Глафира подумала и отпустила Наташу.
Старушкам надоело сидеть на полу. Они встали, и каждая подходила к свежевыбеленной стене, проводила по ней ладонью и удивленно качала головой.
– Стена еще не просохла, – объяснила Валентина Федоровна. – Через два-три дня приходите, тогда увидите, как хорошо будет…
– Ладно, придем, – пообещала бабушка Акунка и, опираясь на суковатую палку, вышла. За ней вышли и другие, только Адьян пожелала остаться.
– Я мало помогу тебе, – сказала она и, взяв у учительницы кисть, обмакнула ее в ведро с мелом и начала белить.
Назавтра Валентина Федоровна пришла вместе с девочками в дом, где жили старые орочи. Вынесли на двор слежавшиеся медвежьи и оленьи шкуры, выколотили их, повесили на весь день на морозе. Принялись за побелку. Помогала им уже не одна Адьян, но и другие старухи.
Наташа по секрету рассказала учительнице, что мама Глафира тоже решила к празднику побелить в доме. Но боится, как бы шаман Никифор Хутунка, который жил по соседству, не заругал ее.
– Он вчера заходил к нам, – рассказывала Наташа, – говорил маме, что праздник Новый год вы сами выдумали, что у наших орочей такого праздника нет.
Валентину Федоровну насторожило сообщение Наташи. Она слышала и от других девочек, что шаман собирается устроить под Новый год большое камлание и что, вероятно, многие орочи придут послушать, как Никифор будет разговаривать с духами.
Но все обошлось. На новогодний вечер в школу были приглашены все жители Уськи-Орочской, так что к шаману никто не пошел. Говорили, что сам Никифор Хутунка, то ли из любопытства, то ли потому, что надоело одиночество, по-воровски, задними дворами, подкрался к школе и в темноте заглядывал в окна.
Назавтра он заманил к себе двух старушек, которые были на празднике, усадил их около очага и целый час колотил лисьей лапкой в бубен. Шаман вызывал злых духов, просил наказать русских учителей.
Уроки грамоты длились порой до поздней ночи. Случалось, что, израсходовав запас свечей, люди сидели в темноте и затаив дыхание слушали увлекательные рассказы Николая Павловича о просторах родины, о ее городах, о Москве, о трудовых делах советских людей. С каждым занятием все дальше и дальше от предгорий Сихотэ-Алиня уходили мысли орочей.
Почти все взрослое население Уськи приходило на занятия. Люди, не занятые охотничьим промыслом и проводившие всю зиму в поселке, старались не пропускать ни одного урока. Каждый уже знал свое место за партой, у каждого был свой букварь и тетрадки, свой карандаш и своя ручка. Приходили на урок даже те, кто не числился в списке, – дряхлые старики и старухи, среди которых была столетняя бабушка Анна Васильевна Акунка.
Тяжело опираясь на палку, с важным видом входила она в класс.
Задолго до прихода учителя орочи рассаживались на корточках вдоль стен класса и шепотом переговаривались между собой. Но говорили они не о посторонних делах, а о том, чему выучились: они знали, что Николай Павлович обязательно спросит, как они усвоили пройденное, и перед началом урока проверяли друг друга.
– Скажи, Мария, какая буква на колесо похожа? – спрашивает старую орочку Иван Уланка.
– На колесо? – задумывается Мария и, заглядывая в тетрадку, отвечает: – Это будет буква «о».
– Верно!
Помолчав, Уланка опять спрашивает:
– Скажи, как «Ольга» пишется – с большого колеса или с маленького?
Мария Ивановна перелистывает свою тетрадку и, не найдя нужного слова, обращается к рядом сидящей Ольге Бисянке:
– Ольга, тебя как пишут-то – с большой буквы или с маленькой?
– Николай Павлович говорил – с большой. «Ольха» – с маленькой пишут, а вот «Ольга» – с большой.
– Верно! – подтверждает Уланка таким тоном, словно давно уже все это знал. – Все имена с большой пишутся. И мое тоже! – добавляет он с важностью.
Анна Васильевна внимательно прислушивается к разговору, одобрительно кивает головой. Потом склоняется к Ольге и шепчет ей на ухо:
– Скажи, Ольга, как же «мамача» пишется?
– «Старуха» с малой буквы пишется, – отвечает Бисянка, но, видя на лице бабушки недовольство, успокаивает ее: – А имя твое – «Анна» – с большой конечно!
– Ай-я гини!
Теперь бабушка довольна. Она берет в руки букварь, раскрывает и долго смотрит в него.
– Совсем плохо вижу. Почитай, Ольга.
Но в это время в дверях появляется Николай Павлович.
– Сородэ! – разом произносят орочи и встают.
Удивительно ведут они себя на уроке!

Бесстрашные охотники, в поединке побеждающие медведя, меткие стрелки, точным выстрелом в глаз снимающие с высоких кедровых вершин изворотливых белок, смелые рыбаки – они тут, в тишине класса, становятся робкими, застенчивыми, как малые дети.
– Сидор Иванович, что написано на доске? – обращается учитель к пожилому охотнику с седой бородкой.
Сидор Иванович откидывает крышку парты, встает и, переминаясь с ноги на ногу, тихо читает:
– Москва, однако.
– «Однако» тут не написано, написано только «Москва», – поправляет Николай Павлович.
– Москва, – послушно повторяет Сидор Иванович.
– Москва – столица нашей Родины, – медленно, по складам, диктует учитель и терпеливо ждет, пока все напишут. Если у кого-нибудь не получается буква, Николай Павлович осторожно берет ученика за руку и вместе с ним выводит эту букву.
Орочи изучают русский язык, арифметику, географию и историю родной страны.
Услышав, что Земля круглая и вращается, они начинают тревожно шептаться. Тогда Николай Павлович дает каждому подержать глобус.
– Так вот и Земля наша вращается! – показывает учитель.
– Страшно! – Федор Бисянка почесывает затылок и моргает испуганными глазами.
Учитель успокаивает его, долго объясняет, почему этого не следует бояться. Наконец Бисянка понял:
– Бывает, конечно, идешь по тайге, а земля кружится – ничего не видно…
Павел Еменка, который дальше Датты нигде не бывал и считал, что берег Татарского пролива есть конец света, спрашивает учителя:
– Скажи, Николай Павлович, за морем земли нет, конечно?
Вслед за ним спрашивает бабушка Акунка:
– Скажи, что за перевалом есть?
– За перевалом Хабаровск есть, атана, – отвечает за учителя Тихон Акунка, считая, что из уважения к старейшей рода именно он должен отвечать на все ее вопросы.
– А за Хабаровском что есть? – любопытствует старушка.
– Москва, атана, – опять говорит Тихон.
– Москва, однако, больше всех городов! – замечает Архип Тиктамунка. – Скажи, Николай Павлович, наш Тумнин далеко от Москвы бежит?
– Сейчас далеко, а когда из Комсомольска в Совгавань железную дорогу проведут, Тумнин к Москве ближе будет. Поезд мимо нашей Уськи пойдет. Кто захочет в Москву поехать, – пожалуйста, поезжай!
– Можно, чего там! Теперь у орочей деньги есть. Хватит до Москвы доехать, – с важностью говорит Архип Тиктамунка.
– Что же ты в Москве делать будешь? – спрашивает его Еменка.
Лицо Архипа становится серьезным:
– Найду, что в Москве делать!
И хотя с каждым уроком орочи узнавали много нового, о чем прежде не имели никакого представления, а необыкновенные, как им казалось, рассказы учителя рождали у них светлые, радостные чувства, люди все же с трудом, неохотно отказывались от диких обычаев и поверий. Правда, они все реже стали обращаться к шаману, а иные даже вступали с ним в открытую борьбу, однако Никифор Хутунка кое над кем власть еще имел.
Умерла престарелая Мария Антоновна Намунка. У старухи много лет хранились в сундуке дорогой халат на лисьем меху и пышное одеяло из заячьих шкурок. Валентина Федоровна предложила, чтобы вещи отдали сиротке Тане, правнучке Намунки. Но орочки, снаряжавшие Марию Антоновну в царство Буни, не согласились: по древнему обычаю лесного народа, вещи умершей нужно разорвать на мелкие лоскутья и положить в гроб, а для покойницы надо сшить новую одежду.
– Разве не жаль вам испортить вещи? Сколько лисьих хвостов ушло на халат! Сколько заячьих шкурок – на одеяло! Пусть останется у Тани на память от бабушки.
Лукерья Ауканка, худенькая, с желтым, высушенным лицом, распоряжавшаяся погребением Марии Антоновны, не желала и слушать уговоров учительницы.
– Нельзя! Зима лютая – что покойница делать будет! Ей самой теплые вещи нужны! – И принялась рвать на куски лисий халат и одеяло.
Делали они это не торопясь, с какой-то строгой расчетливостью разбросав по всему телу Марии Антоновны мягкие, пушистые лоскутья.
Таня с грустью глядела на орочек, и в глазах у нее стояли слезы.
Девушка жила у чужих людей, занимая темный угол. Спала на оленьей шкуре, никогда не убиравшейся с пола. Не всегда ела досыта, потому что в доме, где ее приютили, были еще три девочки. Зато работы хватало: с утра до вечера хлопотала по хозяйству – стряпала, стирала, таскала воду из Тумнина и, когда ложилась спать, не чувствовала ни рук, ни ног.
Евдокия Акунка, жившая по соседству с девушкой, однажды пожаловалась учительнице на Танину судьбу.
– Я ей сказала, чтобы к тебе обратилась, а она почему-то боится.
К радости Акунки Валентина Федоровна ответила:
– Я уже говорила с Николаем Павловичем о Тане. Скоро мы ее устроим.
– Вот видишь, значит, я правильно пришла к тебе. И орочки не удивились, когда через несколько дней.
Валентина Федоровна пришла к сиротке, помогла ей собрать в баульчик свои скудные пожитки и отвела в интернат.