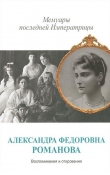Текст книги "Последние Романовы"
Автор книги: Семен Любош
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Александр III увековечен был двумя памятниками. В Москве, на высоком берегу Москвы-реки, у храма спасителя, на роскошном пьедестале, сидела гигантская /182/ фигура царя со всеми аттрибутами самодержавия: с короной на голове и со скипетром в руках. Из-под царской мантии выдвигалась нога в грубом солдатском сапоге. И не корона, не скипетр, а именно этот тяжелый бронзовый сапог придавал своеобразный символизм всей фигуре. Этим сапогом последний самодержец, казалось, придавил Россию тяжко и крепко, но ранняя неожиданная смерть не дала ему познать плоды этой политики полицейского сапога.
Московский памятник снесен революцией, но остался другой памятник – петербургский. Этот памятник и революция, по справедливости, пощадила, столь он выразителен в своей художественной убедительности.
Среди бесчисленных нелепостей и недоразумений царствования Николая II заметное место занимает и этот памятник, сооруженный любящим сыном обожаемому отцу.
По типичному недомыслию своему, бездарнейший сын Александра III поручил сооружение памятника отцу даровитейшему художнику, кн. Трубецкому.
Павел Трубецкой, выросший и воспитывавшийся в Италии, России не знал, русского языка не понимал и в жизни своей не прочел ни одной русской книги. И тем не менее он почувствовал и понял Александра III, его царствование и его эпоху так, как не понял бы из сотни книг.
Нигде в мире нет ни одного памятника, который бы так полно воплотил и символизировал идею тупого застоя.
И этот массивный, цвета запекшейся крови, пьедестал, и этот тяжелый, нескладный, полупридушенный конь, и этот грузный всадник, похожий на разжиревшего урядника, который всей своей фигурой выражает: «Стоп, ни с места!» – все это так монументально, во всем этом такой пафос ограниченности и застоя, что лучшего, более убедительного и выразительного памятника Александру III и эпохе ею царствования не придумал бы и злейший враг самодержавия и царизма.
Этот памятник по праву может занимать место рядом с вдохновенным Петром Фальконета. /183/
Там – воплощение революционного порыва, создавшего начало петербургского периода русской истории.
Здесь, через 200 лет, – конец самодержавия и царизма.
Весь путь пройден до конца, дальше некуда идти. Дальше уже судороги Николая II, агония, мучительные и отвратительные конвульсии.
И революция обнаружила большое художественное чутье, сохранив этот памятник. И не только этот. Типично и бронзовое увековечение конногвардейского восторга в Клодтовском Николае I, и русская стилизация почти гениальной немки, превратившей свою женскую юбку в императорскую мантию и державшей под нею Россию слишком тридцать четыре года. Она величаво стоит на огромном пьедестале формы русского церковного колокола, а вокруг колокола, под юбкой «царственной жены», приютились ее «екатерининские орлы», фавориты и блестящие царедворцы, военачальники и политики, придавшие такой внешний блеск ее царствованию. И все это на фоне гениальных фасадов Росси.
Иное дело монумент Александра III.
Он стоит на грязноватой и шумной вокзальной площади, среди снующей толпы, точно колоссальный щедринский будочник Мымрецов, и олицетворяет принцип:
– Тащить и не пущать. /184/
Николай II
1. Венчанная пошлость
Вначале воцарения Николая II в Петербург приезжал принц Уэлльский. Будущий король Эдуард VII был дядей Алисы Гессен-Дармштадтской – императрицы Александры Федоровны.
Во время одного из завтраков, когда Эдуард, Александра и Николай остались втроем, дядя, обратившись к племяннице, вдруг сказал:
– Как профиль твоего мужа похож на профиль императора Павла, – что очень не понравилось, как отмечает Витте в своих воспоминаниях, как императору, так и императрице.
В разговоре с П.Н. Дурново, Витте сказал, что Николай производит на него впечатление совсем неопытного, но и неглупого, а главное, весьма воспитанногомолодого человека.
На это П.Н. Дурново заметил:
– Ошибаетесь вы, Сергей Юльевич, вспомните меня – это будет вроде копии Павла Петровича, но в настоящей современности.
– «Я затем часто вспоминал этот разговор», – говорит Витте. – «Конечно, император Николай не Павел Петрович, но в его характере немало черт последнего и даже Александра I (мистицизм, хитрость и даже коварство), но, конечно, нет образования Александра I. Александр I по своему времени был одним из образованнейших русских людей, а император Николай, по нашему времени, обладает средним образованием гвардейского полковника хорошего семейства». /187/
На русский престол вступил неожиданно для всех – Александр III умер, не достигнув 60 лет – 26-ти-летний молодой человек, маленького роста, невзрачный и застенчивый.
И когда, менее чем через 3 месяца после своего воцарения, этот молодой человек, в котором не было решительно ничего царственного, встретил съехавшихся и явившихся к нему во дворец с поздравлениями солидных общественных деятелей знаменитым окриком о «бессмысленных мечтаниях», то это было не страшно, а только жалко и комично. Несчастный царь, который грозился следовать по стопам папеньки, производил впечатление «подростка, который путается в отцовских штанах».
Было в этом молодом человеке нечто от Павла Петровича, но было нечто и от Петра Федоровича, несчастного супруга Екатерины II. Было и нечто от Федора Иоанновича, не от того царя Федора, которого так идеализировал Алексей Толстой, а от «скорбного главою» исторического, неспособного к делу управления царя.
Когда после долгих цензурных мытарств была разрешена постановка «Царя Федора», публика в некоторых сценах трагедии упорно видела аналогию с царем Николаем II, а в Годунове улавливала черты сходства с Витте.
Последнего Романова роднило с последним Рюриковичем богомольное пустосвятство и печать исключительной бездарности, неизменно сопровождавшей все его начинания.
Разные бывали цари на Руси, по разному играли они свои исторические роли, но страшнее, кровавее всех был этот вежливый, воспитанный и застенчивый невзрачный Николай второй, начавший Ходынкой и кончивший Распутиным. Ни один царь, даже такой патологический палач, как Иван Грозный, «мучитель и мученик», которого Пушкин назвал «гнев венчанный», не стоил России столько крови.
Между тем, он не был ни особенно жесток, ни грозен.
Николай был по преимуществу обыватель, мелкий /188/ и мелочный, с истинно-мещанской душой. Он был воплощением обывательской пошлости. Недаром он был современником величайшего после Гоголя бытописателя серой, нудной, обывательской жизни. Николай был чеховский тип.
Александр I был неудавшимся декабристом, Николай I был убежденным жандармом и прямолинейным фронтовиком, Александр II был мягкотелый либерал сороковых годов, испуганный радикализмом шестидесятников, Александр III был убежденным земским начальником из потомственных дворян, – нечто среднее между Тарасом Скотининым и Собакевичем. Все они могли быть страшны, жестоки, тупы, но пошлыми их назвать нельзя было. Только с воцарением Николая II на всероссийский престол воссела пошлость.
И эта венчанная пошлость была хуже и страшнее «венчанного гнева» такого садиста, как Иван Грозный.
Впрочем, вначале Николай II мало проявлял себя. Он действительно старался идти по «стопам папеньки», точно чувствуя, что сам он никакого пороха не выдумает.
Отец был строг, и при нем сын не смел проявлять даже обычного «либерализма кронпринцев». Так как никто не ждал скорой смерти такого здоровяка, как Александр III, то о наследнике как-то мало думали и мало им интересовались. Довольствовались слухами о том, что молодой человек, обнаруживавший некоторые, часто свойственные молодым людям порочные наклонности, был с гигиенической целью, с соизволения мамаши и стараниями придворных, сведен с известной балериной, что у этой балерины появился шикарный особняк на одной из лучших улиц столицы. Сплетничали, что балерина эта жаловалась на невыгодность такой связи, так как платили ей всего 10.000 руб. в месяц, а наследника, бывшего у нее очень часто, приходилось угощать тонкими, дорогими винами. С другой стороны, обыватели, по типичной обывательской психологии, ждали от этой связи смягчения нашей польской политики, так как высочайшая фаворитка была полька.
Александр III, кажется, один только не знал об этой почти публичной связи своего сына. Он был родитель /189/ и семьянин твердый и строгий, в стиле Кит Китыча, и, как часто бывает с такими строгими господами, не видел многого из того, что творилось у него перед носом.
Когда Александр III умирал в Ялте и не могли помочь ему ни врачевание Иоанна Кронштадтского, ни колдование идола московских толстосумов, профессора Захарьина, поспешно была выписана из Германии Алиса Гессен-Дармштадтская и помолвлена с наследником. Она раньше как-то приезжала в Петербург, но тогда не понравилась и была отослана ни с чем. А тут уже раздумывать и выбирать было некогда.
Здесь не было и тех неосновательных надежд, которые связаны были с появлением в роли русской императрицы датчанки Дагмары, Марии Федоровны.
В юной императрице видели типичную немецкую принцессу, одну из многих, неизменно появлявшихся на русском престоле. Впрочем, Александра Федоровна отличалась чисто английской чопорностью, так как на всем ее облике была печать не made in Germany, а made in England.
Впервые проявил себя юный царь в Москве во время коронации.
18 мая 1895 года на Ходынском поле, благодаря бестолковости и бездарности московской полиции, было задавлено на смерть, изувечено и искалечено несколько тысяч человек, мужчин, женщин и детей.
Эта ужасная катастрофа, вызванная организацией раздачи жалких царских подарков народу, вызвала всеобщее чувство ужаса.
Но Николая убедили, что этот ужас не должен помешать коронационным торжествам. И концерт, назначенный на тот же день на том же Ходынском поле, через несколько часов после того, как это поле было усеяно тысячами раздавленных людей, не был отменен и Николай приехал на этот концерт.
Вечером того же дня должен был состояться бал у французского посла – и бал, по настоянию свыше, не был отменен, и царь с царицей посетили этот бал, как ни в чем не бывало.
«Хозяином» Москвы в это время был дядя Николая, /190/ Сергей Александрович, самый тупой, злобный и самый бездарный из сыновей Александра II, из которых никто, впрочем, не подымался над самой серой посредственностью. И генерал-губернатор Москвы после Ходынки не только не подвергся никакой ответственности, но даже не был отозван со своего поста.
Тут царь Николай II в самый торжественный момент своего царствования обнаружил и перед Москвой, и перед всей Россией и перед всем миром все свое моральное убожество.
Все понимали, что возмутительное отношение царя к его «гостям» из народа, к жертвам Ходынской катастрофы – не проявление сильной, хотя и жестокой воли, которая, невзирая ни на что, идет своим путем. По самой личности Николая II, мелкой и ничтожной, было слишком ясно, что это лишь проявление того психического убожества, которое вообще характерно для всего неудачливого жития последнего Романова и которое прекрасно можно было бы выразить словами Тургенева:
«Сидит человек по уши в грязи и показывает вид, что ему все равно, когда ему на самом деле все равно».
Сразу обрисовался этот царь-недотепа, этот ходячий «двадцать-два несчастья».
Тогда же произошел незначительный инцидент, о котором нигде не было сообщено. О нем лишь теперь рассказывает б. министр Извольский в своих воспоминаниях.
Как камергер двора, Извольский был назначен вместе с шестью другими камергерами поддерживать императорскую мантию, которую царь надевал во время ритуала вручения ему скипетра и державы перед возложением на голову императорской короны. В самый торжественный момент церемонии, когда Николай проходил к алтарю, чтобы совершить обряд помазания, бриллиантовая цепь, поддерживавшая орден Андрея Первозванного, оторвалась от мантии и упала к ногам царя. Один из камергеров, поддерживавших мантию, поднял цепь и передал министру двора, графу Воронцову, который положил ее в карман. /191/
Все это произошло очень быстро, и заметили это только лица, находившиеся около царя, которым после церемонии приказано было об этом умолчать. Но на Николая, только что пережившего Ходынскую катастрофу и по природе склонного к суеверию, этот случай произвел удручающее впечатление и оставил глубокий след в его слабой, неустойчивой психике. /192/
2. Черты характера
Самым умным и даровитым из советников Николая II были Победоносцев и Витте.
Убежденный апологет застоя, Победоносцев, этот черный нигилист, веривший только в силу насилия, и ловкий, энергичный, дельный и беспринципный Витте были самыми выдающимися государственными людьми последних двух царствований.
Оба они достались Николаю по наследству от отца. Сам он тяготел только к посредственностям и бездарностям. Но с Витте и с Победоносцевым Николай считался лишь постольку, поскольку они потворствовали его мелкой и близорукой личной политике.
Моральная оценка людей и у Витте, и у Победоносцева не отличалась особой требовательностью, но и эта нетребовательность была еще слишком высока для Николая. В выборе людей, в назначении своих министров царь опускался гораздо ниже своих авторитетнейших советников.
Когда понадобилось назначить нового министра внутренних дел, Николай остановился на двух кандидатах: Плеве и Сипягине.
На ближайшем докладе Витте царь поинтересовался его мнением об этих кандидатах. Витте, хотя и в достаточно дипломатической форме, высказался об обоих кандидатах совершенно отрицательно. В Сипягине он отметил его неподготовленность, а в Плеве полное отсутствие убеждений и совершенную беспринципность. /193/
Тогда Николай попробовал почерпнуть сведения из другого источника. Он знал, что Витте и Победоносцев обыкновенно резко расходятся по основным вопросам, и он обратился за советом о кандидатах к Победоносцеву.
Старый обер-прокурор не был столь дипломатичен, как Витте, притом он был более уверен в прочности своего положения и менее считался с характером Николая, своего бывшего воспитанника.
Победоносцев заявил с исчерпывающей откровенностью:
– Сипягин дурак, а Плеве – подлец.
Николай выслушал это сообщение молча. Получив столь определенную и согласную оценку своих кандидатов от людей столь различного характера и столь несомненной опытности, Николай назначил в последовательном порядке обоих. Сначала «дурака» Сипягина, а когда тот, за свою невыносимо глупую политику, на которую его усиленно толкал сам Николай, был убит, то был назначен «подлец» Плеве, который за свою подлую политику тоже был убит.
Витте в своих «Воспоминаниях» очень тепло относится к Сипягину. Он не отрицает его глупости, непонимания, узкой дворянской реакционности, но характеризует его как человека честного, бесхитростного и прямого.
Но для Николая Сипягин представлял особую ценность: Николай мог считать себя умнее своего министра, а такое удовольствие Николаю доставалось не часто.
«Он знал, что находится в большой опасности», – говорит Витте о Сипягине в своих “Воспоминаниях”. – «Перед самой смертью, за несколько дней, я с ним вел беседу в присутствии его жены и говорил ему о том, что в некоторых случаях, по моему мнению, он принимает чересчур резкие меры, которые по существу никакой пользы не приносят, а между тем возбуждают некоторые слои общества, и слои благонамеренные, и, во всяком случае, умеренные, на что он мне сказал: может быть, ты прав, но иначе поступить я не могу, наверху находят, что те меры, которые я принимаю, недостаточны, что нужно быть еще более строгим». /194/
После убийства Сипягина дворцовый комендант Гессе, получивший личные бумаги, оказавшиеся в кабинете Сипягина, две тетради его дневников передал царю.
Через несколько дней, когда вдова Сипягина явилась благодарить царя за внимание, Николай сообщил ей, что дневники мужа находятся у него, и просил разрешения задержать их для прочтения. Вдове, конечно, пришлось согласиться. Прошло много месяцев, и дневников ей не возвращали. Тогда она, через племянника своего, флигель-адъютанта Шереметьева, решилась напомнить Николаю о дневниках.
Затем, при одном из ее представлений царице, к ней вышел Николай, вручил ей пакет и сказал, что с благодарностью возвращает ей мемуары ее покойного мужа, которые очень интересны.
Возвратившись домой, Сипягина увидела, что в пакете находится только одна тетрадь мемуаров, та, в которой были записи за время, когда Сипягин был главноуправляющим комиссии прошений, второй же тетради, в которой были записи за время, когда Сипягин был министром внутренних дел, – не оказалось.
Сипягина обратилась за разъяснением недоразумения к старику Шереметьеву, тот – к Гессе. Гессе сказал Шереметьеву, что передал царю все, что получил, т.е. обе тетради.
Дурново, который вместе с Гессе по поручению Николая разбирал бумаги Сипягина, также удостоверил, что он передал Гессе две тетради мемуаров.
Когда Шереметьев завел об этом разговор с Николаем, тот стал увертываться и заметил, что Гессе не был в ладах с Сипягиным и, найдя в мемуарах что-нибудь нелестное для себя, вероятно, их уничтожил. Шереметьев же сказал Витте:
– А я знаю достоверно, что эту тетрадку уничтожил сам государь.
«Я мемуаров Сипягина не читал», – говорит Витте, – «но жена его мне говорила, что он писал в них все совершенно откровенно. Сипягин же был честнейший и благороднейший человек, совершенный дворянин, ультра-консерватор; он в последние полгода своего /196/ министерства откровенно и с большою горечью мне говорил, что на государя полагаться нельзя и, главное, государь неправдив и коварен. Это он в отчаянии говорил и своей жене».
Так как Витте в этом эпизоде ничем лично не заинтересован, то тут его «Воспоминаниям» можно верить вполне.
Итак, Николай II, царь и самодержец всея Руси, украл у вдовы убитого из-за него министра тетрадь мемуаров, а потом увертывался, лгал и старался свалить это воровство на одного из своих слуг.
Николай I тоже уничтожил в дворцовых хранилищах множество ценных исторических документов. Но он, кажется, при этом не лгал, не увертывался и не клеветал на других.
Николаю II часто приходилось уступать своим министрам и сановникам, особенно таким настойчивым, как Витте или Столыпин, и таким юрким, как Плеве, или таким по-солдатски упрощенным и решительным, как Трепов. Он почти никогда не оказывал прямого противодействия, но всякая такая «победа» дорого обходилась его слугам. Царь трусливо затаивал «обиду» в душе и затем коварно мстил, выжидая случая.
Это испытали на себе все: и Плеве, смерти которого Николай почти открыто обрадовался, и Столыпин, которого он в конце стал третировать с присущей Николаю мелочностью. Во время киевских торжеств, при поездке по Днепру для Столыпина не оказалось места ни на царском, ни на свитском пароходе. Испытали это еще в большей мере и Витте, и даже Победоносцев.
Витте, бывшему противником Победоносцева и настаивавшему на его уходе, пришлось хлопотать, чтобы старик был отставлен с соблюдением приличий, а не узнал об этом неожиданно из газет, и чтобы за ним была оставлена его казенная квартира.
Чувство благодарности было, по-видимому, совершенно чуждо Николаю II. Никакие заслуги перед ним, никакие жертвы, для него принесенные, не обеспечивали положения, не гарантировали от обид, коварства и каверз. /196/
Те же качества проявлял Николай и в отношениях международных. Будучи в союзе с Францией, он в Биорке, по секрету от своих собственных министров, заключил и подписал тайное соглашение с Вильгельмом. Такое же коварство он проявил по отношению к Китаю, и довел дело до Японской войны.
Его внешняя податливость создала ему, особенно в молодости, репутацию обаятельности в личном общении. Он казался таким симпатичным, мягким и скромным, что за этим многие не сразу замечали мелкое коварство, моральную нечистоплотность, прямо нечестность.
В свое время и Павел Петрович, когда с молодой женой совершал путешествие по Европе под именем графа и графини Северских, тоже произвел обаятельное впечатление даже при избалованном французском дворе. Там нашли русского наследника приветливым, милым своею непринужденностью, даже остроумным… /197/
3. Красноречие слов и дел
В Харьковской губернии были крестьянские волнения. Губернатор князь Оболенский усмирял, а усмирив, устраивал поголовные, в губернском масштабе, порки крестьян. Губернатор самолично объезжал усмиренные местности и самолично же распоряжался поркой. Эти расправы чрезвычайно радовали Николая, который запечатлел резолюцией, что губернатор «молодец».
На Кавказ был послан другой князь – Голицын, человек необыкновенной глупости, злобности и взбалмошности.
Он в самое короткое время сумел восстановить весь Кавказ против русского владычества и русских порядков. Голицын сумел достигнуть даже того, что до него никому не удавалось: острая национальная рознь между грузинами и армянами, армянами и мусульманами – потеряла свою остроту, потому что все, и даже большинство русских, объединились в общем чувстве ненависти против царского сатрапа. Николай вполне одобрял политику Голицына, самая подлая русская печать, с «Новым временем» во главе, захлебывалась от восторга.
Голицын, с царского благоволения, пошел даже на то, на что никогда не покушались ни турки, ни персы.
Он наложил свою полицейскую лапу на армянские церковные имущества. Это имело огромное значение потому, что у армян церковь живая. Вся благотворительность, все дело национальной культуры и национального образования тесно связаны с церковью, и никакие /198/ мусульманские зверства никогда не покушались на эту интимную духовно-национальную сторону армянского быта. Только православный русский царь, «защитник христианства», позволил своему холопу так грубо вторгнуться в эту область.
Такую же политику и с таким же успехом вел Николай в Финляндии, послав туда Бобрикова и занявшись «обрусительством».
Ни Николай I, ни Александр III в своем упоении самодержавием, в своей непримиримой ненависти ко всяким проявлениям конституционности, не позволяли себе так грубо нарушать финляндскую конституцию. Они все же считали себя связанными словом Александра I.
Николай II, трусливый и безвольный, и тут проявил свое коварство, и дождался убийства Бобрикова.
Как известно, Николай II не был ни красноречив, ни находчив. Люди, представлявшиеся ему, в особенности знатные иностранцы, часто попадали в мучительно-неловкие положения. Царь не находил нужных слов и не умел придумывать ненужных, безразличных. Получались тягостные паузы.
После революции 1905 г. кто-то надоумился выпустить маленькую книжку: «Собрание речей его императорского величества Николая II». В этой книжечке были собраны только изречения и телеграммы, в свое время напечатанные в «Правительственном Вестнике», и приведены без всяких комментариев. Получилось нечто поразительное, такой махровой глупостью и бездарностью повеяло от этого букета.
С утомительным, удручающим однообразием повторялись шаблонные, бесцветные фразы, почти одни и те же на все случаи.
Полиция поспешила изъять эту брошюру из обращения, настолько эта стенографическая «правда» оказалась «хуже всякой лжи».
Вообще обычные фразы Николая II: «Пью здоровье» и знаменитое «Прочел с удовольствием» набили оскомину всем его «верноподданным».
Впрочем, не все и не всегда Николай «читал с удовольствием». /199/ У него были свои взгляды и свои установившиеся мнения, которые он при случаях и выражал.
П.Е. Щеголев, пересмотревший несколько сотен всеподданнейших докладов, цитирует некоторые такие высочайшие резолюции, которые особенно ярко отражают психику царя.
27 сентября 1912 г. военный министр ген. Сухомлинов докладывал царю, что невозможно
«обеспечить в настоящее время церковными причтами те части, которые их по штатам не имеют», ибо, – объяснял министр, – «едва ли последует согласие министерства финансов и государственного контроля на ассигнование новых кредитов».
Царь «изволил начертать»:
«Военное ведомство обязано потребовать кредиты на удовлетворение важнейшей нужды в войсках. Упадок веры грозит началом нравственного разложения человека, особенно русского. Тут мало значит мнение того или другого – раз я этого хочу».
Последние слова Николай подчеркнул.
Тут, в этой резолюции, и целое мировоззрение, и своеобразная философия, и программа.
Во-первых, утверждение своего самодержавия: «я этого хочу». Это особенно комично звучит в устах царя, который именно хотеть-то и не умел. Как все бесцветные люди, Николай II любил подчеркивать не просто свою волю, а свою царскую «непреклонную» или «неизменную» волю, от которой неизменно ему приходилось – и очень скоро – отклоняться, нередко в противоположную сторону.
Затем, в резолюции сквозит уверенность в особой природе русского человека, которому религия нужнее, чем другим людям.
И еще выявлено сознание важности агитационной роли религии.
Религию Николай, конечно, понимал, главным образом, со стороны ее обрядности.
«Горестно», начертал Николай против слов доклада владимирского губернатора, доносившего в 1908 году, что в
«среде самого православного населения, особенно сельской молодежи, за последнее время замечается /200/ упадок религиозности, сопровождающийся уклонением от посещения храмов божиих и от исполнения установленных православной церковью обрядов».
Вообще коронованный обыватель, правивший Россией, весьма заметно отстал и в своем общем развитии, и в своем мировоззрении от современного ему среднего русского обывателя, не только столичного, но и провинциального.
Обыватель, который стоял бы против народного образования, против всеобщего обучения, стоял бы во времена Николая II ниже среднего обывательского миропонимания.
Олонецкий губернатор, думая, вероятно, угодить молодому царю, в своем отчете за 1896 год сообщает, что за год в его губернии открыто 117 народных школ, что это делается «в целях скорейшего осуществления плана всеобщего обучения».
Последние слова Николай II подчеркнул и против них написал: «излишняя торопливость совсем нежелательна». Последние слова своей резолюции царь также подчеркнул, чтобы этой струей холодной воды вернее остудить пыл наивного губернатора, вообразившего, что молодой царь желает расширения народного образования.
Но были и такие доклады, которые радовали царское сердце.
Виленский губернатор в отчете за 1897 год писал, «что введение питейной реформы последовало вполне успешно и было встречено сочувственно всеми классами христианского населения».
Это христианское отношение к казенной водке очень обрадовало Николая, и он «начертал»: «Прочел с удовольствием». А на подобное же сообщение полтавского губернатора выразился еще красноречивее, начертав:
«Отрадно видеть такое сознание самого народа».
Николай II не всегда восставал против народных школ. Иногда он с ними мирился.
Так, в 1896 году полтавский губернатор в своем отчете пишет, что школы вверенной ему губернии, как земские, так и церковно-приходские, по духу и характеру ничем не разнятся между собою: и в тех, и в других /201/ преподавание ведется «на одной общей основе православия и преданности царю и отечеству».
Царь подчеркивает эти слова и пишет свою сентенцию:
«В сохранении этих начал, присущих каждому русскому сердцу, зиждется залог настоящего развития у нас народных масс».
Уверенный, что он знает психику «народных масс», царь относится очень недоверчиво к рабочим. Тут он, по-видимому, не надеется на влияние церкви, а больше верит в полицию и настаивает на усилении кадров фабрично-заводской охраны.
Беспокоят Николая и будто бы крупные заработки рабочих. Против упоминания об этом екатеринославского губернатора имеется высочайшая отметка:
«Обратить на это самое серьезное внимание министра финансов».
В то же время Николай очень часто приводил в замешательство министра финансов приказаниями о выдаче крупных сумм в сотни тысяч, а иногда и миллионов из кассы государственного или дворянского банков вне устава, вне правил и вне закона разным проходимцам и аферистам из знати и дворян. Таким же сверхзаконным путем выдавались и крупные ежегодные подачки издателю «Гражданина», князю Мещерскому, и даже его любимцам из продажных молодых людей, угождавших старому развратнику.
Когда Николаю сообщали неприятную правду, когда ему сановники и министры докладывали и предлагали то, что ему не нравилось, он никогда почти не находил доводов для возражений. Николай в таких случаях молчал или поворачивался спиной к собеседнику, глядел в окно, барабанил пальцами по стеклу. Лишь в редких случаях он обнаруживал столько находчивости, чтобы перевести разговор на другое, обыкновенно на какой-нибудь пустяк, не имевший никакого отношения к затронутому вопросу. Иногда он отделывался кратким заявлением: «Я подумаю».
Краткость ответов и резолюций Николая II не знаменовали ни силы, ни сжатости твердого решения. Эта /202/ краткость и лаконичность свидетельствовали только о краткомыслии царя, да еще об упрямстве.
А упрямство это, при внешней податливости, обусловливалось у Николая сознанием своей слабости, умственной и волевой.
Сознавая свое безволие и зная, что и другие достаточно осведомлены об этой его слабости, Николай всегда был настороже, всегда боялся, что его обойдут, подчинят своей воле. Не умея дать ни логического, ни прямого волевого отпора своим оппонентам, он замыкался в себе, отмалчивался и затем делал все наоборот, – крадучись, коварными, обходными путями, действуя опять-таки не самостоятельно, а большей частью под другими, менее прямыми, более хитрыми и менее заметными влияниями, под влияниями «темными», которым он при своем разностороннем убожестве противостоять не мог.
При своем безволии Николай очень ценил в исполнителях проявления прямолинейной, ни перед чем не останавливающейся жестокости. Всякие репрессии, карательные экспедиции, расстрелы, опустошительные приемы административного упоения неизменно вызывали краткие одобрительные и поощрительные резолюции царя.
При Николае II стали возможны такие градоправители, которые далеко оставляли за собой щедринских помпадуров из «Истории одного города». Толмачевы, Каульбарсы и даже совершенно невозможный Думбадзе, который ходил на обывателей артиллерийским боем, сжег дом, из которого было произведено покушение, – все эти ошалелые сатрапы пользовались неизменной поддержкой и особым поощрительным покровительством царя. Всякое проявление насилия убогий и бессильный царь принимал за проявление силы и восторгался им.
И уступал Николай II только силе. Ни доводы разума, ни сознание ответственности, ни призывы совести не действовали на него. Только с перепуга, только прижатый к стене, как было в 1905 году, Николай шел на уступки с затаенным и всегда им осуществлявшимся /203/ намерением обмануть, отомстить, взять назад все уступки, как только гроза минует.