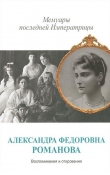Текст книги "Последние Романовы"
Автор книги: Семен Любош
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
4. Русско-французский союз
Русское правительство всегда нуждалось в деньгах.
Принцип «ён достанет» пришлось расширить в том смысле, что «ён» достанет не только то, что он может дать в наличности, но что мужик русский превзойдет самую красивую французскую девицу в том отношении, что он даст больше, чем он сам имеет, ибо откроет себе кредит и будет по нему уплачивать проценты, лишь бы удовлетворить начальство.
Таким образом, государственные росписи заключались с дефицитом и недохватки покрывались внутренними и внешними займами.
Внешние займы размещались на германском рынке. Но по мере развития германского капитализма и увлечения колониальной политикой рост германской промышленности сам поглощал все свободные капиталы. К тому же Бисмарк очень давал чувствовать России ее зависимость от германского денежного рынка. При малейшей политической заминке, он производил через послушную биржу нажим на русские бумаги, их переставали котировать на берлинской бирже, и в России сейчас же чувствовалось денежное оскудение.
А у Франции и денег было много больше, чем в Германии, и желание было большое заручиться поддержкой России. Но было это трудно. Союз России с Францией очень много давал Франции. Прежде всего он застраховывал ее от германского нападения, возможность которого висела над Францией вечным кошмаром. /167/
России же такой союз в смысле политическом давал очень мало.
Франция по своему положению очень мало могла помочь России в ее внешней политике.
Россия же нужна была Франции, конечно, не своей культурой, не своей слабой и отсталой техникой, а только своей военной мощью, проще – своим пушечным мясом.
Франция охотно купила бы это русское пушечное мясо, да мешали разные обстоятельства и традиции.
Но в конце концов соблазн французских сребренников превозмог все препоны, и царь Александр III, миротворец и патриот, продал французской буржуазии русских мужиков, одетых в солдатские шинели. Продал, конечно, не буквально, а условно, «до востребования».
Пришел момент – и французский Шейлок потребовал полностью и даже с избытком условленный «фунт мяса».
Об этом с каким-то удивительным цинизмом рассказывает в своих записках бывший французский посол в Петербурге, Морис Палеолог. Но это было уже в царствование Николая II. А при Александре срок уплаты еще не наступил. Александру приходилось расплачиваться пока только слушанием «Марсельезы». Но если Генрих IV находил, что «Париж стоит мессы», и терпеливо выслушал католическую обедню, то и Александр, по-видимому, находил, что французский миллиард стоит «Марсельезы», и терпеливо выслушивал революционный гимн.
Бисмарк с удивительным дипломатическим мастерством втягивал Александра III то в соглашение с Германией, то даже в тройственное соглашение трех императоров, несмотря на явное расхождение политики России и Австрии на Балканах.
Но решил все вопрос денежный. Как только Франция раскрыла перед Россией свой кошелек, русско-французский союз мог считаться делом решенным.
Французы оказались столь предупредительны, что еще до формального заключения союза поместили в русских ценностях миллиарда четыре франков, т.е. сумму, почти равную сумме, уплаченной им немцам контрибуции. /168/ А дальше на Россию посыпался французский золотой дождь. В общем, в займах и предприятиях французы поместили в России свыше 12 миллиардов франков.
Это французское золото создало в нашей стране видимость промышленного процветания, дало возможность выгодно конвертировать прежние займы, подготовить переход к золотой валюте, прикрыло внешним финансовым блеском лохмотья народной нужды, слабую покупательную способность населения, укрепило позицию царизма и, способствуя быстрой капитализации промышленности, умножило фабрично-заводской пролетариат.
«Так вот где таилась погибель моя», – мог бы сказать русский царизм, если б он обладал большей исторической проницательностью.
Это понял, а если и не понял, то почувствовал Николай II. При Александре же безумная пляска миллиардов еще не успела доплясаться до катастрофы, а напротив создавала мираж какого-то финансового преуспеяния.
Впрочем, не одни иностранные деньги влияли на внешнюю политику Александра III, на участие его в той или иной группировке держав.
Были и мотивы более «идейного» характера, и эти мотивы очень хорошо учитывались европейскими правительствами.
За русскую дружбу царю уплачивали не только золотом, но и живыми людьми.
Французское правительство отказало, потому что под давлением общественного мнения не посмело выдать Льва Гартмана, участника подкопа под Московско-Курскую ж. дорогу, и это испортило отношения русского царя к Франции и было немедленно учтено Бисмарком, который в июле 1884 г. угодил Александру высылкой из Берлина всех русских «неблагонадежных» с русско-полицейской точки зрения. На этой почве удалось осенью того же года устроить в Скерневицах свидание трех императоров, которое обнаружило перед всем миром, что Россия вновь служит интересам Германии и неизменно враждебной Австрии. /169/
Когда же оказалось, что Бисмарк за спиной России заключил отдельное соглашение с Австрией, направленное против России, а Франция стала подкупать русскую царскую политику своим золотом, то она не ограничилась одним золотом, а предала России и русских невольных эмигрантов. В Париже была, с благословения республиканского правительства, организована русская охранка по всем правилам русского политического сыска. К полному удовольствию русского правительства было ликвидировано дело провокатора Гартинга-Ландезена и вообще дело было так организовано, что с тех пор и во Франции русский человек постоянно чувствовал на себе взгляд русского шпиона и родного провокатора. Одним словом, и там «Русью пахло», и ощущалась родная, отечественная атмосфера, доходило даже до набегов русско-парижских сыщиков на русскую типографию (в Швейцарии), до того вольготно чувствовали себя русские охранники в свободной республике.
А в то же время французские деньги давали возможность, ни с чем не считаясь, вести империалистическую внешнюю политику и ярко реакционную внутреннюю.
Ближний Восток был потерян для России, и русский империализм стал оглядываться в поисках, где что плохо лежит. А плохо лежали, т.е. более или менее беззащитны были «инородцы», т.е. поляки, финны, евреи, армяне – внутри и Персия, Средняя Азия, Маньчжурия, Корея – извне.
И началось нащупывание почвы в этих направлениях. С «внутренними врагами», с печатью, со школой, с земством, да с инородцами церемониться было нечего. Тут у царизма была своя рука владыка. А к проникновению в Персию, Маньчжурию и Корею, к дальнейшему продвижению в глубь Средней Азии надо было подготовиться. Прежде всего надо было подумать о железных дорогах в Сибири и в Средней Азии.
Одним из проявлений усилившегося интереса к Дальнему Востоку было путешествие наследника Николая Александровича. В путешествии этом сопровождал наследника, между прочим, Э.Э. Ухтомский, впоследствии директор Русско-Китайского банка, который (банк), /170/ как и железная дорога через Маньчжурию, были орудием нашего агрессивного вмешательства в дела желтого материка.
На этот раз член русского императорского дома впервые показался в Японии. Но там вышла неприятность. В г. Отсу один из членов японской полицейской охраны, стоявший на пути следования путешественников, попытался своею саблею разрубить голову наследнику и, пожалуй, успел бы в этом, если б греческий королевич, шедший рядом, не успел отстранить второго удара. Все же наследник был ранен в голову.
Несмотря на все извинения японского правительства, царь-отец так рассердился, что по телеграфу приказал сыну немедленно прервать путешествие.
Тогда ходило по рукам четверостишие, неизвестно кем сочиненное:
Происшествие в Отсу,
Вразуми царя с царицею:
Сладко-ль матери, отцу,
Если сына бьет полиция.
По-видимому, в народных массах Японии обозначавшееся стремление России на Дальний Восток уже вызывало и тревогу, и враждебные чувства.
Но во дни Александра III только намечались первые шаги агрессивной дальневосточной политики, втянувшей нас впоследствии в гибельную войну с Японией. Великий Сибирский железнодорожный путь, без которого никакая агрессивность не могла быть осуществлена, был только торжественно заложен наследником во Владивостоке и требовал времени для своего осуществления.
С Ближнего Востока Россия ушла, в Константинополе самое влиятельное положение, из-за которого так долго соперничали там Россия и Англия, заняла Гepмания, уже мечтавшая о Багдадской железной дороге и о победе своей промышленности на этом новом для нее фронте. В то же время Германия открыто поддерживала Австрию в ее балканской политике, русская же дипломатия Александра III, вытесненная собственной неумелостью с Ближнего Востока, искала утешения /171/ в Персии, в которой никаких единоверных братушек не было и с которой воевать не приходилось, потому что слабая Персия шла на все уступки, предел которым ставило только соперничество Англии на этом пути в Индию. Франция, конечно, поддерживала Россию, германская дипломатия ничего не имела против того, чтобы новая союзница Франции впуталась в какую-нибудь далекую азиатскую авантюру, Австрия обделывала свои дела на Балканах, и Александру III пока что только и оставалась роль «миротворца». А так как он неожиданно скончался, успев процарствовать только 13 лет, то он и не успел выйти из этой роли, оставив своему преемнику задачу расхлебывать всю ту кашу, которую он начал заваривать.
Пока же все были довольны политикой Александра III, называя ее «мудрой», а его «миротворцем».
Австрия укрепляла свое положение в даром доставшихся ей Боснии и Герцоговине, опутывала экономически Сербию и имела своего ставленника в лице болгарского князя.
Германия открыто поддерживала Австрию и налаживала свою ближневосточную политику, ничего не имея против того, чтобы Россия запуталась на Дальнем Востоке. Франция считала себя застрахованной от нападения Германии, хотя платила за эту страховку высокие премии.
При таких условиях воевать пока было не с кем, и «слава, купленная кровью» не могла соблазнить Александра III.
Казалось, что Россия ощущала «полный гордого доверия покой», но этот покой все более походил на покой кладбища…
Тяжела была в свое время «николаевщина», невыносима была самоуверенная, самодовлеющая, самодержавная твердокаменность императора-жандарма.
Но тяжелая, грузная фигура Александра III, казалось, давила не то чтоб сильнее, но как-то обиднее, больнее.
И сам по себе этот тупой, сильно выпивавший, ограниченный человек был мельче Николая, будничнее, серее, и Россия была уж не та. За полвека, отделявшие /172/ Александра III от Николая I, Россия стала не та, она стала куда чувствительнее, восприимчивее.
Уже при Николае I выросла в России интеллигенция, которая была много культурнее, умнее, образованнее и талантливее и царя, и окружавшей его клики.
При Александре III разница эта обозначилась неизмеримо резче.
Даже средний уровень страны стал значительно выше той культурной низины, в которой очутилась высота престола… /173/
5. Финансы
При Александре II, в связи с общим упорядочением государственного управления, внесены были более культурные приемы и в управление финансами. В 1877 г. курс нашего бумажного рубля настолько повысился, что можно было мечтать о постепенном восстановлении обмена. Но война 1877-1878 гг. увеличила почти на полмиллиарда выпуски кредитных билетов, и финансы опять пришли в расстройство.
Но Александр III, как уже отмечено, имел одно неоспоримое достоинство: он не испытывал ни зависти, ни ревности к умным людям и не боялся их.
Когда вместе с Лорис-Меликовым и Милютиным ушел и министр финансов Абаза, Александр III вручил министерство финансов киевскому профессору Бунге.
Н.Х. Бунге был честный и дельный финансист, серьезный ученый и культурный человек.
Он приложил много стараний к упорядочению нашей налоговой системы и всего финансового управления. Но он не признавал никаких фокусов, и поэтому почти все сметы за время своего управления финансами он честно и откровенно сводил с дефицитами, скрывать которые не желал.
За это и главным образом за то, что он пытался привлечь к податному обложению и неподатные сословия, мечтал о введении подоходного налога, уменьшил выкупные крестьянские платежи и провел уничтожение подушной подати, его травили патриоты своих привилегий во главе с Катковым. /174/
К тому же Бунге не везло. Наш главный и бессменный министр финансов, с которым никакому самодержцу не сладить, г. Урожай, за шестилетнее управление Бунге финансами несколько раз подрывал все расчеты.
Зато этот самый г. Урожай очень благосклонно отнесся к преемнику Бунге, к Вышнеградскому, к человеку тоже ученому, но куда более ловкому и менее щепетильному.
Несколько хороших урожаев и подчинение всей железнодорожной тарифной политики государству, повышение пошлин, всякие поощрения быстрой реализации урожаев и широкого вывоза нашего хлеба за границу дали Вышнеградскому возможность, при улучшении торгового баланса, сводить бюджетные росписи без дефицитов, более выгодно заключить новые займы и конвертировать старые.
Получился некоторый финансовый блеск при удлинении сроков нашей задолженности и увеличении их суммы, т.е. при большем обременении будущих поколений.
Поощрение вывоза приводило к тому, что мужик, при еще большем недоедании, мог исправнее уплачивать налоги и подати. Стали продавать за границу и вывозить хлеба больше, чем можно было без ущерба собственной сытости. Курс нашего рубля стал повышаться, чрезвычайно оживились всякое грюндерство и биржевая игра, бешеные деньги завертелись в веселой свистопляске, и сермяжная Русь вдруг явила изумленному миру видимость необычайного финансового расцвета. Вдруг в 1891, а за ними в следующем году, г. Урожай опять подвел. Под мишурой финансового блеска обнаружилось рубище мужицкой нищеты и голодное, изможденное тело крестьянской Руси.
Вышнеградский правил финансами недолго, всего лет пять. В начале 1892 г. он заболел и в августе того же года ему пришлось оставить министерство.
Финансовый блеск, ознаменовавший деятельность Вышнеградского, не всех ослеплял. Достигнуты были крупные улучшения в железнодорожном хозяйстве и подчинение его интересам государственным или тому, что /175/ считалось ими, но самые крупные достижения, например, смелая и широкая операция конверсии займов и тогда вызывали сомнения.
Сумма задолженности увеличилась, процент по долгам в конечном счете остался довольно высоким. Но банкиры, при посредстве которых совершались конверсии, были очень довольны. Им были уплочены огромные суммы в виде комиссионных. Такие гонорары зарабатывались до тех пор только на банкирских операциях с экзотическими странами. Но там никогда не могло быть такого размаха и не могли фигурировать такие колоссальные суммы.
После Вышнеградского вступил в управление финансами С.Ю. Витте, могущий считаться его учеником.
Витте перед тем недолго (около пяти месяцев) управлял министерством путей сообщения.
Со вступлением в управление финансами Витте, Россия стала еще в большей степени удивлять Европу «финансовыми чудесами».
Дефициты как рукой сняло – и независимо от того, был ли урожай или недород. И это продолжалось во все одиннадцатилетнее управление Витте.
Мало того, не только не было дефицитов по росписям, но и по их исполнению непрерывно оказывались еще избытки, отчего у министра финансов образовалась «свободная наличность». Это создало министру финансов совершенно исключительное положение. Раз министр располагал не только сметною, но и сверхсметной свободной наличностью, то главы всех других ведомств должны были с ним не только особенно считаться, а и заискивать в нем.
А Витте и по личному характеру своему умел широко пользоваться своим положением, и очень скоро стал самым властным министром, истинным главой правительства.
Несомненно, Витте был самым умным и самым даровитым из министров последних двух царствований, но волшебником он, конечно, не был, и сверхъестественными силами не обладал.
Чем же объяснить произведенное им финансовое чудо бездефицитности? /176/
Народ русский не разбогател. Его покупательная сила не возросла.
Крестьянские урожаи не увеличились ни на одно зерно. Народ не стал ни лучше питаться, ни лучше одеваться, ни культурнее жить. И вдруг такой волшебный переход от неизбывных дефицитов к неизменно накопляющейся свободной наличности!
Все волшебство и все чудо в том, что Витте, не будучи ни ученым профессором политической экономии, как Бунге, ни финансистом, твердо усвоил щедринскую формулу «ён достанет» с присовокуплением афоризма Кречинскогo: «В каждом доме имеются деньги, надо только уметь их достать».
Вот эту технику доставания Витте усвоил в совершенстве и осуществил с изумительной энергией и талантом.
Он нисколько не печалился о том, что Бунге уменьшил некоторые прямые налоги. Витте знал, что не в них сила, а суть в косвенном обложении, обладающем удивительной растяжимостью. Витте на эту сторону и поналег, да так умно, что нищий, обыкновенно недоедающий русский мужик стал снабжать бюджет не миллионами, а миллиардами. А Витте исчислял приходные сметы в обрез, заведомо меньше ожидаемых поступлений, и потому всегда обеспечивал себе «свободную наличность».
Очень умело использовал Витте и все те улучшения в финансовом хозяйстве, которые до него подготовили Бунге и потом Вышнегpадский, и ему удалось осуществить то, к чему его предшественники стремились: ввести золотое обращение, причем правительство сразу скинуло со счетов целую треть своего внутреннего долга по кредитным билетам; это в коммерческом быту называется «ломать рубль» или «вывернуть шубу», а на вежливом бюрократическом языке называется девальвацией. Удалось провести казенную водочную монополию, окончательно утвердившую основой государственного бюджета – народное пьянство.
Впрочем, все это сделано уже при Николае II, но свое выдающееся положение в правящей бюрократии Витте успел создать уже при Александре III. /177/
Витте не был ни богат, ни знатен, не было у него родовых связей. Карьеру свою он начал со скромной должности товарного кассира на одесской железнодорожной станции, но скоро стал одним из самых крупных авторитетов в практике и в теории железнодорожного хозяйства.
Он был умен, энергичен, смел до дерзости, резок, тверд и самоуверен.
Таких людей европейской, или даже американской складки бюрократия наша до того не знала. Даже внешностью своей, крупной фигурой, резкостью, деловитостью и уверенностью в своих силах, с налетом грубости, ярко выделялся он из толпы сановников, окружавших царя и правивших Россией.
В лице Витте в ряды правительства впервые вошел настоящий кровный буржуа европейского стиля, необычайно трудоспособный и… беспринципный.
Витте как-то выпустил книгу: «Принципы железнодорожных тарифов». Этим кажется и исчерпывалась вся его принципиальность.
Правда, у него был предтеча, тоже выдающийся делец буржуазного стиля, Вышнегpадский, но тот был только предтеча, Витте был полным воплощением «бога индустрии».
На пути развития капитализма в России стояла вся историческая нескладица нашей жизни. Остатки изжитого московско-татарского византийского феодализма, петербургская бюрократия, полицейско-казарменный режим, бесправие городского и сельского населения, крестьянское общинное землевладение, закабаленное на службу интересам фиска, непреодоленное пространство, пережитки натурального хозяйства, неграмотность народной массы в тисках малограмотного царизма. И при таких условиях индустриализация России совершалась медленно и спорадически, как начиналась европеизация России при предшественниках Петра I.
Витте, в котором было нечто от неукротимой энергии и революционности Петра, всю эту энергию, опиравшуюся на самодержавную власть царя, бросил на дело быстрой индустриализации России. /178/
Александр, конечно, ничего в этом не понимал, но он видел, что Витте бескорыстнее, дельнее и умнее окружавших его сановников. Притом, при Витте не было вопроса о том, где взять денег. Деньги у Витте всегда были, дефицитов не было, и царь поддерживал своего министра против его многочисленных сановных врагов.
Впрочем, наряду с врагами, было у Витте не мало и друзей. Витте отлично знал, кого, как и за сколько можно и надо купить.
В своих воспоминаниях Витте с благодарностью говорит о личности Александра III и подчеркивает свою преданность идее самодержавия.
Это и понятно: Александр III, ограниченности которого Витте не мог не видеть, был для такого министра, как Витте, идеальным царем. Он был верен своему слову, он не способен был хитрить и лукавить, он был властен, держал в страхе всю ораву князей, эту язву всякого управления, потому что это люди, для которых закон не писан.
Когда Александр III министру доверял, тот чувствовал себя прочно и уверенно, когда же Александру случалось натыкаться на такое явление, как поступок П. Дурново, выкравшего в личных интересах интимные женские письма из стола иностранного посла, то царь не постеснялся написать хорошо известную яркую резолюцию.
И особенно должен был ценить Витте Александра III после того, как ему пришлось больше десяти лет иметь дело с Николаем II, на которого никто никогда и ни в чем положиться не мог.
Александр III не любил инородцев: финнов, поляков, армян, евреев… но погромов, как узаконенного приема внутренней политики, да еще казенного изготовления, он не только в мыслях не допускал, но даже не понимал.
На докладе Лорис-Меликова по поводу киевского погрома, бывшего в конце апреля 1881 г., Александр сделал пометку:
«Весьма прискорбно, надеюсь, что порядок будет совершенно восстановлен».
На сопроводительной бумаге, при которой царю представлена была копия телеграммы одесского временного /179/ генерал-губернатора об антиеврейских беспорядках, происходивших в Ананьевском уезде Херсонской губ. 26 апреля 1881 г., имеется следующая резолюция Александра:
«Не может быть, чтобы никто не возбуждал населения против евреев. Необходимо хорошенько произвести следствие по всем этим делам».
На докладе Лорис-Меликова о беспорядках в Киеве, происходивших в конце того же апреля, при которых подожжена была еврейская синагога и во время которых прапорщик Леманский обнаружил «поощрительное отношение к погрому», Александр на самом докладе подчеркнул слова, касавшиеся прапорщика, и сбоку написал: «Хорош офицер. Безобразие».
«Что это значит, это повсеместное грабление евреев?» – начертал царь на докладе об антиеврейских беспорядках в Конотопе Чернигoвской губ.
Впоследствии отрицательное отношение Александра III к еврейским погромам еще усилилось в связи с тем, что преемник Лорис-Меликова на посту министра внутренних дел, Игнатьев, убедил царя, что антиеврейские беспорядки дело рук «анархистов» и «крамольников».
Тогда, в 1881 г., даже Плеве, бывший директором департамента полиции, еще не видел в еврейских погромах обычного приема внутренней политики и в докладе царю привел выписку из записки гр. Кутайсова, обследовавшего погромы.
«Для того», – писал Кутайсов, – «чтобы обратить уличную драку в погром с кровавыми последствиями, нужно было действовать именно так, как действовала нежинская полиция».
«Весьма грустно» – гласит отметка Александра III.
Есть среди этих резолюций и свидетельство патриархального отношения царя к задачам власти: на докладе о беспорядках в Ростове-на-Дону, Александр написал:
«Если-б возможно было главных зачинщиков хорошенько посечь, а не предавать суду, гораздо было бы полезнее и проще». /180/
Так смотрел Александр на дело и в других случаях. Даже с людьми, арестованными на Невском с бомбами в форме книг в руках, Александр предпочел расправиться келейно, без излишней гласности и без шума.
Покушение на Александра III (в котором, между прочим, участвовал А. Ульянов) не удалось. Но самая неудача должна была убедить царя в том, что революционный терроризм возрождается и, что в той тишине, которую, казалось, удалось ему водворить в России, не все столь благополучно, как его уверяли придворные льстецы.
Россия вошла в какой-то глухой тупик и топталась на одном месте. Наступила почти такая же кладбищенская тишина, как при Николае I.
Царь прилепил всю мощь своего самодержавия к мертвому и вполне безнадежному делу сословного поместного дворянства. А страна уже пережила сословные разделения, все ярче обозначалась в ней борьба классов, все определеннее выступали политические вожделения выросшей буржуазии, самодержавие становилось все более резким анахронизмом, и что-то новое стало проявляться даже в психике Александра III. Правда, он соображал туго, и течение неизбежного исторического процесса оставалось для него неясным, но реакционный восторг первых лет его царствования уже остыл и слишком явно отразилась даже на командующих высотах необходимость какого-то поворота. Однако, судьба избавила неповоротливого мыслию царя от тяжести «шапки Мономаха».
Быстро развившийся нефрит освободил Россию от этого тупого и ограниченного гиганта, свободно ломавшего подковы и гнувшего рукой серебряные рубли.
Всего тринадцать лет просидел Александр III на прародительском престоле в спокойном непонимании России, в блаженном неведении неизбежных исторических судеб давно изжившего себя самодержавия и царизма.
Почти все эти годы прожил Александр III узником в Гатчине, точно человек, «лишенный столицы», по русской полицейской терминологии. /181/
«Возлюбленный и обожаемый» монарх не смел носа высунуть за пределы той крепости, в которой он заперся от «обжавшего» его народа. Выезды царя в столицу или в Крым обставлялись прямо скандальными предосторожностями, и возмущавшими, и смешившими всю Россию и всю Европу.
Задолго до проезда «гатчинского узника» по всему пути на тысячи верст расставлялись солдаты с ружьями, заряженными боевыми патронами. Солдаты эти должны были стоять спиной к железнодорожному пути, а лицом – и заряженными ружьями – к стране. Железнодорожные стрелки наглухо забивались. Пассажирские поезда отводились заблаговременно на запасные пути, станционные помещения со всем их населением запирались и с известного момента все управление пути переходило к военному начальству. Никто не знал, в каком поезде «следует» царь, вообще «царского» поезда не было, а было несколько поездов «чрезвычайной важности». Все они были замаскированы под царские и никто не знал, какой настоящий.
Все это не помешало крушению в Борках, где, как предполагают, царь и получил травматическое повреждение, повлекшее за собою болезнь почек.
Впрочем, болезнь эта развилась еще и оттого, что «хозяин России», владевший десятками грандиозных дворцов, пребывал узником в Гатчине, где жил в сырых комнатах.
Эти сырые комнаты, обострившие болезнь Александра III, сведшую его в могилу, очевидно, сродни тем клопам, которые водились в детских комнатах вел. кн. Александра и Николая Павловичей.
Русский двор поражал иностранцев своей необычайной, азиатской пышностью. Нигде в мире уже нельзя было видеть такой безумной роскоши приемов. Но подлинная культурность царизма вернее всего определяется этими клопами и сыростью.