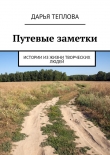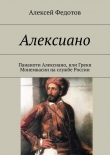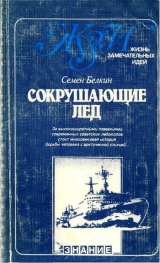
Текст книги "Сокрушающие лёд"
Автор книги: Семен Белкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
Этот чрезмерный интерес к атомному ледоколу подогревался еще и тем, что практически одновременно в США велось проектирование и строительство транспортного атомохода «Саванна», и американцам очень хотелось опередить русских в этом негласном соревновании. Не случайно во время постройки советского ледокола на его борту побывали крупнейшие военные специалисты, видные политические деятели США и Англии, премьер-министр Англии Макмиллан, вице-президент США Никсон и многие другие. В группе, сопровождавшей Никсона летом 1959 года, был адмирал Риновер – руководитель наблюдения ВМФ США. Осмотрев атомоход, адмирал выступил на сенатской комиссии США с докладом о своих впечатлениях об осмотре и заявил, в частности, что в 1959 году ледокол «Ленин» не будет сдан в эксплуатацию.
Советский атомоход был сдан точно по графику в 1959 году и за двадцать с лишним лет работы проявил себя с самой лучшей стороны, чего нельзя сказать об американском атомоходе «Саванна», в котором постоянно обнаруживались какие-то неполадки, он много лет стоял на приколе и в конце концов владельцы были вынуждены продать его за бесценок [13]13
Согласно последним сообщениям «Саванну» передали в аренду муниципалитету небольшого американского городка в штате Южная Каролина, где городские власти намерены превратить судно в морской музей. Из-за больших убытков выведены из эксплуатации и другие атомные суда – «Отто Ган» (ФРГ) и «Мутцу» (Япония).
[Закрыть].
Атомоход «Ленин», придя на Север, вскоре опрокинул все привычные представления о ледовых плаваниях и полярной навигации. Со времени открытия Северного морского пути арктическая навигация, как правило, начиналась примерно в июле и завершалась в сентябре, а при особенно благоприятных условиях – в октябре.
Теперь стало возможным открывать «сезон» на месяц-полтора раньше и закрывать его на месяц позже, что сразу позволило резко увеличить объемы грузовых перевозок по северным морям.
Невиданные ледокольные качества атомохода позволили решительно изменить географию полярных плаваний: недоступные прежде участки полярных морей стали вполне судоходными, появилась возможность сокращать протяженность трасс, поскольку уже не нужно было обходить участки с тяжелыми ледовыми условиями. Скорость проводки судов увеличилась в три раза!
После первой навигации капитан Пономарев сказал: «Навигация показала, что на трассе Северного морского пути для атомохода нет непреодолимых преград».
В первом же арктическом плавании «Ленин» сравнительно легко прошел проливом Вилькицкого, где обычно застревали не только транспортные суда, но и ледоколы. Атомоход быстро освободил из ледового плена множество затертых там судов, и среди них… ледокол «Ермак».
Среди судов, спасенных тогда атомоходом в проливе Вилькицкого, были ледоколы «Капитан Мелехов» и «Красин», а также два лесовоза. Ветры и течения неотвратимо несли эти суда, намертво зажатые льдами, на камни. Вот тут-то атомному ледоколу потребовалось продемонстрировать всю свою мощь. Развив пары до возможного предела, атомоход околол беспомощные суда и вывел их в безопасное место. Так спустя 60 лет атомный ледокол повторил подвиг «Ермака», который, как мы помним, начал свой долгий и славный путь с того, что спас от неминуемой гибели мощный броненосец «Генерал-адмирал Апраксин».
Во время следующей навигации, в 1961 году, на атомном ледоколе была организована необычная экспедиция Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.
Перед нею была поставлена задача пройти в район к северо-востоку от острова Врангеля, найти надежную многолетнюю льдину и устроить на ней дрейфующую станцию «Северный полюс-10».
Мы знаем, что со времени Папанина и его спутников полярные станции высаживали только с воздуха: самолет облетывал арктические моря, наблюдатели находили подходящую льдину, затем на нее садились тяжелые самолеты, на лед сгружали оборудование и участников дрейфа.
Все это было очень трудно и опасно: надо было посадить тяжелый самолет на льдину; в условиях, близких к робинзоновским, строить лагерь, экономить на каждом килограмме и без того нелишнего груза, чтобы не перетяжелить самолет, отказывая себе при этом в самом необходимом.
Атомоход с его высокой ледопроходимостью и сверхавтономностью обещал более легкое решение задачи. С судна значительно проще найти подходящую льдину, на нем можно подойти к ней вплотную, выгрузить на лед любое количество груза, любую технику, включая дорожные машины. Отныне строители лагеря могли жить в комфортабельных условиях на борту большого корабля, пользоваться мощной техникой и неограниченными запасами энергии, вырабатываемой на борту атомохода.
29 сентября 1961 года ледокол вышел из Мурманска. На борту находилось вдвое больше людей, чем предусматривалось штатным расписанием: помимо эки пажа, в рейс отправился весь персонал будущей дрейфующей станции. Резервных мест на ледоколе явно не хватало, так что пришлось поставить раскладушки в самых неожиданных местах, включая гордость атомохода – роскошный клуб.
В начале рейса ледокол занимался своими обычными делами – проводкой судов в проливе Вилькицкого, а затем пошел на восток, в Восточно-Сибирское море.
Там, где некогда проходили трассы Норденшельда и Нансена, была обнаружена отличная многолетняя льдина размерами 6,5×4,5 километра. Ледокол пришвартовался к ней с помощью специальных ледовых якорей, и 14 октября разведывательная группа высадилась для проведения рекогносцировки.
Обследовав льдину вдоль и поперек, нашли место, где ее толщина достигала 15 метров, и в течение нескольких дней построили дорогу длиной 2,5 километра, основные сооружения, оборудовали взлетно-посадочную полосу. Все операции по высадке на лед и оборудованию лагеря длились 10 дней: сказалась отличная оснащенность дорожными машинами и прочей современной техникой, которую можно было доставить на льдину только на борту мощного корабля.
В течение всего высокоширотного плавания на ледоколе работала научная экспедиция Арктического и Антарктического научно-исследовательского института под руководством Д. Д. Максутова, который по сей день возглавляет в институте лабораторию ледовых качеств судов.
На обратном пути, уже глубокой полярной ночью, с борта атомохода вдоль всей границы тяжелых паковых льдов были установлены автоматические радиометеорологические станции. Примечателен и тот факт, что во время этого ночного рейса атомный ледокол поднимался до 81° северной широты. Домой, в Мурманский порт, «Ленин» вернулся только 22 ноября, что тоже стало своеобразным рекордом.
Шесть навигаций ледокол трудился в Арктике с полной отдачей своих могучих ядерных сил. Каждая навигация длилась 140–160 суток, что было немыслимо для ледоколов доатомной эры. За это время не было зарегистрировано ни одного отказа атомной установки, ни одного случая опасного повышения уровня радиации.
Однако к 1966 году ядерная установка выработала свой ресурс, и поэтому было принято решение отправить атомоход на модернизацию, в процессе которой энергетическая установка была заменена на более совершенную, с двумя реакторами вместо трех. Впоследствии аналогичная установка была применена на атомных ледоколах второго поколения, что решало проблему унификации энергетических установок всех атомоходов.
В процессе усовершенствования атомного сердца корабля конструкторы пошли по линии упрощения первого контура, установка стала более доступной для ремонта, появилась возможность упразднить постоянное несение вахт. Численность экипажа ледокола была сокращена на 30 процентов, а стоимость потребляемой энергии сократилась в два раза.
После капитального ремонта атомоход снова вернулся в Арктику и включился в работу по обеспечению полярных перевозок, в частности по проводке транспортных судов в устье Енисея для вывоза норильской руды.
В 1971 году в жизни ледокола и в истории освоения Арктики произошло важное событие. Вместе с ледоколом «Владивосток» атомоход совершил высокоширотное плавание из западного сектора Северного Ледовитого океана в восточный. Оба ледокола благополучно пробились сквозь ледяные преграды и достигли порта Певек. Так в развитии арктического мореплавания был взят еще один трудный рубеж. Ведь даже непосвященный человек, взглянув на карту Арктики, поймет: чем севернее будут проложены судоходные магистрали между Европой, Азией и Америкой, тем короче путь, связывающий три континента, тем интенсивнее будут грузопотоки. Правда, сведущие люди знают оборотную сторону медали: чем ближе морская линия подходит к полюсу, тем труднее пробиться сквозь толщу льдов, тем мощнее и прочнее должны быть ледоколы.
Поэтому до появления атомохода о высокоширотных маршрутах через Северный Ледовитый океан можно было только мечтать. Теперь же руководители Северного морского пути стали задумываться о создании новой, укороченной трассы.
Повод для экспериментального рейса появился совсем неожиданно. Весной 1971 года из гарантийного ремонта вышел ледокол «Владивосток», который нужно было срочно, до начала арктической навигации в восточном секторе Арктики, перегнать в порт Певек. Идти обычным путем означало бы непозволительную потерю времени. Тогда-то и родился замысел высокоширотного плавания. Атомоходом командовал будущий герой штурма Северного полюса Ю. С. Кучиев. Капитаном ледокола «Владивосток» был опытный полярный моряк Ю. П. Филичев. Поход тщательно разработали и подготовили. Ученые дали свои рекомендации по выбору курса и по организации графика движения ледоколов, корабли непрерывно получали прогнозы погоды по трассе, свою информацию регулярно давала авиаразведка. Так же как и в высокоширотном плавании 1961 года, на борту атомного ледокола, а также ледокола «Владивосток» работала научная экспедиция Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.
Атомоход «Ленин» вышел из Мурманска 26 мая, обошел с севера Новую Землю, где у мыса Желания к нему присоединился ледокол «Владивосток». Затем оба судна поднялись на север и, не заходя в пролив Вилькицкого, обошли Северную Землю. Меньше чем через месяц, 22 июня, ледоколы пришли в Певек, обеспечив таким образом участие «Владивостока» в летней проводке судов по морям восточного сектора Арктики. Длина пути составила 2800 миль, из которых 1600 миль пролегала во льдах, в том числе 950 миль в очень тяжелых льдах.
Рейс ледоколов «Ленин» и «Владивосток» предвосхитил знаменитый высокоширотный эксперимент атомохода «Сибирь» с транспортным судном «Капитан Мышевский», о котором мы поговорим несколько позже.
В 1978 году атомоход «Ленин» закончил навигацию, когда полярная ночь уже близилась к концу – в январе. Это был рекорд продолжительности арктической навигации. Впрочем, а что в условиях Арктики не рекорд? Тут почти все, что связано с деянием человека, так или иначе выливается в рекорд.
Работа атомного ледокола в Арктике заметно повлияла на развитие грузовых перевозок в советском Заполярье. Объем грузопотоков увеличился. Не будет преувеличением сказать, что появление атомохода в немалой степени способствовало народнохозяйственному развитию советского Заполярья, росту его экономического потенциала. Вклад атомного ледокола в освоение Севера был настолько велик и весом, что в 1974 году он получил высшую правительственную награду – орден Ленина.
В 1976 году атомоход «Ленин» впервые осуществил весеннюю проводку транспортного судна к полуострову Ямал, обеспечив выгрузку материалов и оборудования для нефте– и газодобывающей промышленности прямо на апрельский припайный лед.
Ямал считается перспективным газо– и, возможно, нефтеносным районом, но его освоение, особенно в начальном периоде, связано с «неудобным» географическим расположением. Вопрос всех вопросов здесь – доставка необходимого оборудования и материалов. В настоящее время легче всего и наиболее выгодно доставлять их морем. Но легче всего совсем не означает легко! На Ямале нет ни портов, ни просто причалов, где можно было бы разгружать крупнотоннажные суда. Более того, такие суда не могут подойти к берегу ближе 5 километров (в некоторых местах ближе двух). Вот и родилась смелая мысль – использовать припаи, в общем-то, ровный, мощный и неподвижный прибрежный лед, как естественный «выносной» причал.
Понятно, что идея эта могла обрести «плоть и кровь» только с появлением мощных ледоколов, поскольку естественный причал годится для использования лишь зимой и весной – с февраля по апрель.
Так атомные ледоколы – сначала «Ленин» в 1976 году, затем «Арктика» в 1977-м – позволили расширить временные границы полярной навигации и проложить относительно надежный путь к труднодоступным районам нашего Крайнего Севера. Теперь зимние и весенние рейсы на Ямал, к мысу Харасавэй, стали обычной (конечно, по меркам сурового Заполярья), будничной работой. Вот только несколько цифр – для наглядности. При рейдовой разгрузке суточная производительность обработки судна, как правило, не превышала 200–300 тонн (а рейдовая разгрузка неизбежна во время летней навигации, когда припай становится ненадежным). В условиях порта (причем не обязательно полярного) эта величина лежит примерно в пределах 600–800 тонн. На ямальский же припай выгружают ежесуточно свыше 1000 тонн (были случаи, когда сгружали и 2000 тонн!).
Никто не станет утверждать, что Северный морской путь на всем его протяжении – это, уже планомерно, регулярно действующая магистраль. Будет ли он когда-нибудь ею – покажет время; во всяком случае полярники к этому стремятся, отчетливо сознавая, однако, всю сложность и грандиозность задачи. И все же полгода навигации на восточном участке трассы, круглый год в сущности на западном – в частности, к Ямалу и в Дудинку, которую теперь с еще большим основанием можно называть морскими воротами обширного региона и Норильского горно-металлургического комбината в первую очередь, – разве это не великое достижение? Безусловно, великое. А началось все с появлением в Арктике атомохода «Ленин»…
Первому советскому атомному ледоколу перевалило за 20. По современным представлениям, когда моральный износ техники происходит так быстро, это уже почтенный возраст. Но ледокол до сих пор в строю и прекрасно справляется с самыми трудными заданиями. Достаточно сказать, что за годы своей работы в Арктике он осуществил проводку более 2000 судов и про шел в полярных морях 350 000 миль. Опыт ледокола подтвердил полную безопасность атомной установки и перспективность ее применения не только на ледоколах, но и на некоторых других типах судов особенно в наши дни, когда цены на нефть растут.
Велико значение атомохода «Ленин» еще и потому, что он – первый. На нем отрабатывались и проверялись в действии новые конструкции, машины, оборудование, технические приемы ледового плавания. За время эксплуатации атомного ледокола решено 300 научно-практических и технических вопросов, связанных с работой атомных энергетических установок, включая проектирование, строительство и эксплуатацию атомных кораблей. Вполне справедливо капитан второго советского атомохода Ю. С. Кучиев сказал, что без атомного ледокола «Ленин» не было бы ни «Арктики», ни «Сибири».
Вместе с тем первый полярный атомный богатырь стал прекрасной школой кадров для отечественного атомного флота. Когда формировался экипаж первого в мире атомного ледокола, группа специалистов побывала в Высшем инженерном морском училище имени адмирала С. О. Макарова. Они рассказали курсантам о необычном судне, о его энергетической установке и предложили желающим работать на нем записаться в особую учебную группу. Для этих курсантов организовали специальные курсы, затем их направили на стажировку на атомную электростанцию, а после стажировки – в Арктику, на атомный ледокол.
Впоследствии эти молодые люди составили костяк экипажей атомоходов, многие из них работают на атомных ледоколах и по сей день. На «Ленине» прошли отличную выучку такие прославленные асы атомного флота, как капитан «Арктики» Ю. С. Кучиев, который пять лет был сначала дублером, а затем капитаном первого атомного корабля, капитан «Сибири» В. К. Кочетков, главный инженер-механик «Арктики» О. Г. Пашнин, старший инженер-механик В. Г. Ициксон, старший инженер-электрик О. И. Бойцов. Десятки других моряков «Арктики» и «Сибири» прошли свои первые атомные мили на ледоколе «Ленин». Достаточно сказать, что 30 процентов экипажа «Арктики» – это бывшие моряки атомохода «Ленин».
Первый атомоход показал не только свои сильные стороны. С развитием полярного мореплавания выяснилось, что он не может решить всех задач, которые жизнь ставит перед покорителями Арктики. Оказалось, что далеко не все ледовые преграды способен преодолеть первенец атомного судостроения.
Широкая программа развития северных и восточных районов нашей страны, освоение природных богатств, лежащих в труднодоступных районах Заполярья, неуклонное и стремительное увеличение грузопотоков потребовало увеличения скорости проводки караванов, надежной круглогодичной работы ледоколов на арктических трассах, освоения более коротких морских путей, проложенных в непосредственной близости от Северного полюса – все это вместе взятое обусловило создание еще более мощных и технически совершенных атомных ледоколов – атомоходов второго поколения. Так родился проект нового судна, по которому уже построены два атомных богатыря – «Арктика» и «Сибирь», а сейчас строится «Россия».
Мы уже говорили, что применение атомных энергетических установок опрокинуло все привычные и устоявшиеся каноны теории и практики проектирования корабля. Раньше проектировщики твердо знали, что резкое увеличение мощности неизбежно должно повлечь за собой значительное увеличение линейных размеров корпуса, достаточных, чтобы разместить установку требуемой мощности и соответствующий запас топлива. На атомных судах запасы топлива вне зависимости от мощности энергетической установки незначительны, а габариты и масса энергетического оборудования в гораздо меньшей степени зависят от количества лошадиных сил. Эту мысль убедительно иллюстрирует сравнение атомохода «Ленин» с атомными ледоколами второго поколения: хотя мощность «Арктики» и «Сибири» вдвое больше, размеры увеличились совсем мало (см. таблицу на с. 175), а поскольку рост мощности на единицу водоизмещения приводит к существенному увеличению ледопроходимости, можно понять, насколько повысилась эффективность новых ледоколов при их движении в полярных льдах.

Вопросам уменьшения габаритов ядерной установки было уделено особое внимание. По опыту первого атомохода число реакторов сразу было сокращено с трех до двух, что уже дало ощутимую экономию площадей и объемов, а также сокращение массы установки на единицу мощности.
Прогресс, достигнутый к тому времени в проектировании и строительстве турбоэлектрических установок, позволил добиться еще большей экономии «жизненного пространства». Вместо 4 турбогенераторов, размещенных в двух отсеках, как это было на первом атомоходе, на атомоходах второго поколения оборудован всего один турбогенераторный отсек, в котором установлены два агрегата мощностью по 37 500 лошадиных сил.
Поперечными переборками корпус судна разделен на 8 отсеков, по сравнению с первым атомным ледоколом длины отсеков значительно увеличились. Тем не менее при затоплении двух любых из них судно останется на плаву, что свидетельствует о высоком уровне обеспечения его безопасности.
Так же как и на атомоходе «Ленин», ядерный отсек огражден с двух сторон продольными переборками, доведенными до жилой палубы. Атомная установка состоит из двух блоков, в каждом из них – реактор, 4 парогенератора, 4 циркуляционных насоса и прочее оборудование. Циркулирующая в первом контуре под высоким давлением дистиллированная вода нагревается, в таком виде направляется в парогенераторы, откуда, отдав тепло, снова возвращается в первый контур.
Водо-водяные реакторы обладают свойством саморегулирования. Это свойство проявляется в том, что реактор в силу внутренних обратных связей (главным образом температурных) стремится изменить режим и перейти в новое состояние так, чтобы скомпенсировать изменение реактивности, вызванное внешними возмущениями.
Это свойство упрощает управление атомной установкой во всех режимах работы, включая режим взаимосвязанного управления: мощность установки должна следовать за нагрузкой главных двигателей.
Таким образом, при нормальном режиме (применительно к ледоколам это значит – плавание на чистой воде, когда не требуется частое маневрирование мощностью) энергетическая установка работает по принципу авторулевого, оператор становится просто наблюдателем, который вмешивается в процесс управления только при отклонениях от нормы.
По опыту первого атомохода вся пароподогревательная установка высоко поднята над двойным дном, что позволило существенно улучшить параметры качки. Период качки «Арктики» и «Сибири» составляет 19–21 секунду, как на самых больших пассажирских судах.
На новых судах установлена ЭВМ (на атомоходе «Ленин» ее не было), в которую поступает непрерывный поток информации о работе машин, систем и механизмов. ЭВМ соединена с мнемотехническими схемами, причем при нормальной работе сигналы на щитах и пультах не высвечиваются, только при отклонениях от нормального режима загораются предупредительные и аварийные сигналы.
Оператор следит за работой оборудования и за прохождением команд. Интересует его, скажем, температура подшипников двигателя, он набирает соответствующий код и немедленно получает ответ, как в автоматическом справочном бюро.
На атомных ледоколах второго поколения улучшена система обеспечения радиационной безопасности, повышена ее надежность. Биологическая защита выполнена таким образом, что она создает надежный заслон для опасных излучений даже при работе реакторов длительное время на самую полную мощность. Кроме того, корпус судна разделен на герметические контуры, так что если даже случится невероятное и в каких-то помещениях уровень радиации достигнет опасных пределов, распространение ее по всему ледоколу полностью исключено.
Контроль радиационной обстановки осуществляется блоками детектирования. Особо контролируется состояние наиболее ответственных участков контура первичного теплоносителя и состояние металла корпуса реактора. Специально для этого используются ультразвуковые, гаммаграфические и оптические приборы, применяются проникающие краски, магнитные порошки и другие современные методы контроля. Информация о радиационной обстановке поступает на центральный пульт управления комплекса и на мнемосхему. Регистрация параметров излучения и отклонений от нормы производится автоматически.
Нельзя не отметить и такое новшество, осуществленное на новых атомных ледоколах, как навигационная аппаратура, которая обеспечивает управление судном с помощью искусственных спутников Земли.
Очень впечатляет ходовая рубка – просторная, светлая, расположенная в верхнем ярусе высокой надстройки. Размеры рубки 25×5 метров. В лобовой и бортовой ее стенках – большие прямоугольные окна. Палуба устлана мягким зеленым ковром, скрадывающим шаги. Разговаривают тоже очень тихо – повышать голос здесь не принято, разве что когда отдаются особо важные команды. В рубке установлены три одинаковых пульта с ручками управления. Бросаются в глаза необычные часы с 24-часовым циферблатом: ведь в условиях бесконечного полярного дня и такой же долгой полярной ночи очень нетрудно перепутать время…
Высокие мореходные качества, отличная маневренность, отменные ледокольные свойства – таковы отличительные особенности «Арктики» и «Сибири». Они способны преодолевать толстые льды без заклинивания, что достигнуто за счет удачных обводов корпуса, рационального выбора отношения мощности к водоизмещению, высокой тяги заднего хода [14]14
Для отработки оптимальной формы корпуса в ледовом бассейне Арктического и Антарктического научно-исследовательского института были испытаны десятки моделей.
[Закрыть]. Освобождению от ледовых капканов в немалой степени способствуют креновая и дифферентная системы, которые на новых ледоколах работают автоматически.
По сравнению с первым атомоходом на новых ледоколах значительно улучшены условия обитаемости. Практически все члены экипажа имеют отдельные каюты со всеми удобствами; увеличено число запасных мест, есть учебцый класс, спортивный комплекс, плавательный бассейн, финская баня. Корабли украшены оригинальными произведениями декоративно-прикладного искусства, стеклотканью с художественной вышивкой, керамическими панно, картинами, литыми барельефами.
По оснащению медицинского блока новым атомоходам могут позавидовать многие самые современные сухопутные клиники и больницы. Здесь есть все, чтобы оказать больному необходимую помощь, сделать сложную операцию, обеспечить должный уход.
Мы помним, что число помещений на первом атомоходе составляло 900. На «Арктике» и «Сибири» 1285 помещений, что дало основание морякам сравнивать новые ледоколы с Эрмитажем.
Проектирование нового ледокола возглавил А. Е. Перевозчиков, получивший за свой вклад в развитие атомных кораблей высокое звание Героя Социалистического Труда. В создании атомоходов второго поколения приняло участие свыше 100 научно-исследовательских и проектных организаций, 350 объединений и предприятий. При проектировании атомохода было создано свыше 40 образцов новых изделий и, в частности, все основное оборудование атомной установки.
Строили второй советский атомоход, получивший имя «Арктика», в Ленинграде, на Балтийском заводе им. С. Орджоникидзе. Коллективу завода пришлось перестраивать технологический процесс, создавать новые энергетические мощности, лаборатории, устанавливать новое оборудование. Была введена в действие новая подстанция мощностью 3000 кВт, специальное хранилище для оборудования атомных реакторов, лаборатория радиационной безопасности, лаборатории предмонтажной проверки систем и приборов, автоматизированных комплексов управления.
Сборку судна производили из крупных объемных секций, весящих до 450 тонн, в то время как первый атомоход собирали из секций массой не более 75 тонн [15]15
А еще раньше, при строительстве пароходов типа «Седов», чрезвычайно прогрессивной считалась сборка из секций весом от 3 до 5 тонн!
[Закрыть]. Прогрессивная технология предварительной сборки из крупных секций позволила большой объем работ производить в цехе, что повышает качество монтажных операций и сокращает сроки строительства. Всего было собрано 200 объемных секций. Надстройку собирали на берегу отдельно и потом установили на судно двумя мощными плавучими кранами. Только это мероприятие ускорило постройку ледокола на полгода.
Учитывая огромную массу корпуса, для спуска его на воду пришлось применять специальные приспособления и, в частности, по опыту первого атомохода прикрепить к корпусу большой понтон, чтобы увеличить плавучесть судна.
Еще до окончания строительства на ледокол пришел его капитан Ю. С. Кучиев. В отличие от многих других полярных капитанов он вышел не из потомственных поморов. Уроженец Северной Осетии, Кучиев попал в Арктику молодым парнем и стал матросом на буксире. Закончив курсы штурманов, он ходил на многих исторических ледоколах и судах ледового плавания: «Таймыре», «Сибирякове», «Красине», «Ермаке», а 5 июня 1971 года коллегия Министерства морского флота утвердила его капитаном атомохода «Арктика», Буксир мощностью 400 лошадиных сил и атомный ледокол мощностью 75 000 лошадиных сил – таковы вехи пути, пройденного капитаном Кучиевым на кораблях арктического флота…
Трудно представить себе человека, более преданного Арктике, чем капитан Кучиев. Примерно за 10 лет до исторического похода к полюсу будущий капитан атомного ледокола оставил в отделе кадров Мурманского пароходства следующее весьма красноречивое заявление:
«Поскольку срок действия моего договора с пароходством истек, прошу Вашего разрешения на продление договора на неограниченный срок, ибо был и остаюсь пожизненным работником арктического ледокольного флота».
Подстать капитану и команда. Не случайно министр морского флота Т. Б. Гуженко, участник плавания на «Арктике» к полюсу, дал морякам ледокола такую оценку: «Я бы назвал коллектив „Арктики“ экипажем высоких стандартов».
Вот какие люди заступили на трудную полярную вахту на борту вновь построенного могучего ледокола.
Атомоход «Арктика» был введен в эксплуатацию 25 апреля 1975 года и сразу, в первую же навигацию, показал свои поистине богатырские возможности. Припай Енисейского залива корабль одолел за 6 часов, тогда как все другие ледоколы проделывали этот же путь за 2–3 суток. Работа по расчистке Енисейского залива была выполнена так быстро и качественно, что путь на Дудинку и Игарку открылся на несколько недель раньше обычного.
В следующую навигацию ледокол завершил прокладку канала по Енисейской перемычке в начале июня, открыв путь транспортным судам еще раньше, чем в прошлом году. Затем «Арктика» направилась в пролив Вилькицкого и за полтора дня проложила в нем канал протяженностью 300 миль. Первые же рейсы корабля показали, что за навигацию он проходит путь, в полтора раза больший, чем другие ледоколы, – до 30 000 миль.
В 1977 году навигация началась на 3 месяца раньше обычного. Столь ранние арктические плавания позволили сделать ряд важных открытий: оказалось, что в это время наблюдается совсем иная физика ломки льда, по-иному взаимодействует корпус судна с ненарушенным сильно заснеженным покровом. И снова – в который уже раз! – пришлось менять привычные воззрения на процесс работы ледокола и вносить соответствующие коррективы в расчеты кораблестроителей по определению формы корпуса, его осадки, дифферента и других технических характеристик.
Примечательно, что во время этого сверхраннего рейса стихия предстала перед новым ледоколом во всем своем могуществе и лишний раз подтвердила свою способность оказывать сопротивление самым мощным и совершенным созданиям рук человеческих. Согласно намеченной программе атомоход должен был пройти через пролив Карские Ворота и достичь полуострова Ямал в конце марта. Но ледовая обстановка в проливе оказалась настолько сложной, что капитан Ю. С. Кучиев после бесплодных попыток пробиться сквозь льды был вынужден отступить и повести свой корабль более южным путем, через пролив Югорский Шар.
Бывали и другие неудачи и отступления, но тем не менее всем было ясно, что с вводом в эксплуатацию нового атомного корабля полярные мореплаватели получили в свое распоряжение тот «золотой ключик», с помощью которого можно открыть заветную дверь и пробиться к сердцу Арктики. После жарких дебатов и нелегких раздумий, долгих экспериментов и исследований было принято решение об организации похода «Арктики» к Северному полюсу.
К рейсу готовились долго и обстоятельно, мобилизовав для этой цели все знания об Арктике, многолетний опыт полярных плаваний, новейшие достижения науки и техники, включая информацию, полученную с искусственных спутников Земли. На борту ледокола находилась группа специалистов Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, который, кстати, предложил и обосновал маршрут плавания. Специалисты института пришли к выводу, что оптимальная трасса похода должна идти не кратчайшим путем, а сложным, кружным маршрутом – мимо Новой Земли, Северной Земли, через море Лаптевых и только оттуда – к полюсу. Слишком хорошо ученые и полярные мореплаватели знали крутой нрав Арктики, чтобы даже спустя 80 лет не последовать призыву Макарова «К полюсу – напролом».