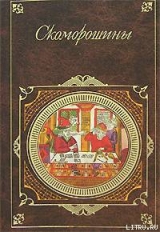
Текст книги "Скоморошины"
Автор книги: Сборник Сборник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
Про русалку
Марина-русалка
Лет со сто тому назад в Симбирске жил под горой у Спаса Иван Курчавый с отцом и с матерью. Церковь Спаса старинная была и вся расписана по стенам разными житиями. На одном образе была написана царица-красавица: румяная да такая полная и едет она на лебедях – одной рукой правит, в другой ключи держит. Иван Курчавый часто говаривал в хороводе:
– Мне невесту нужно эдаку, как писана царица в лебедях.
А он был красавец, писаный глазок. Голова была вся курчава, а эти волосы как кольца золотыя вились. Белый, румяный, полный, кровь с молоком – одно слово – молодец! А уж бандурист был какой – заслушаешься! Плясовую заиграет – не удержишься! Весь, бывало, хоровод распотрошит. А бывало девушки да молодыя вдовушки сберутся весной в хоровод в белых кисейных рукавах да в стандуплевых или в штофных сарафанах, как лазорев и маков цвет, любо посмотреть!
Недалеко от Курчаваго жила молодая вдова Марина. Год, почитай, она жила с мужем, и, поговаривали, извела его. Суровая была, а красивая: сдобная, чернобровая, черноглазая, лице, что твой фарфор, а румянец во всю щеку так и играл, и играл; и взгляд был пронзительный. Она в хоровод не ходила, а редко, в праздник после обеда выдет за ворота, сядет на завалинку, да издали на хоровод и любуется, да все смотрит и смотрит на Ивана Курчаваго и теперича, если заметит, что котора девушка ему приглянется, так вся и покраснеет, до ушей разгорится, а уж глазами так на него взмахнет – кажись, готова съесть. Такой-то у ней был взгляд: насквозь человека пронзит. Иван Курчавый, бывало, даже побледнеет. Диковинное дело, какие глаза бывают! От инаго глазу захворать даже можно. У меня бабушка хорошо от глазу лечила: почерпнет с молитвой ковшичек чистой воды, положит туда из горнушки холодных углей, прочитает три раза «Богородицу», да нечаянно и спрыснет водой, чтобы у тебя от испугу мурашки по телу забегали – ну, и легче от этого. И глаз глазу рознь бывает: от синаго глаза – холодные угли, как горячие шипят. У нас была золовка Овдотья, так та теленка сглазила: на другой же день околел. И глазищи у ней были серы, ехидны этаки. Ну, вот видишь ли ты, должно быть, Марина этого Ивана Курчаваго любила и ревновала ко всякой девке и бабе, и, поговаривали, что он к ней, Марине, по ночам похоживает и с ней любится. Это отцу с матерью стало известно, и задумали они сына женить, и нашли они ему невесту хорошаго роду и племени и богатых родителев – девицу красивую, степенную. Только что узнала Марина и начала колдовать, и чего только не делала, по розсказам, так индо ушеньки вянут. Вынимала она у невесты и следы, и на кладбище его хоронила, и на соль-то наговаривала с причитанием:
– Боли у раба Божия Ивана сердце обо мне так жарко от печали, как соль эта будет гореть в печи.
Роскалит печку до красна и туда наотмашь и бросит горсть этой соли, а то, слышь, снимет с себя ношну рубашку, обмакнет в пиво или в вино, выжмет, да помоями-то этими и напоит его. Это все не действовало. Она взяла да из восковой свечи вынула светильню, отрезала ленту коленкору и написала на коленкоре:
– Гори сердце у раба Божия Ивана обо мне, как эта свеча горит перед тобою, Пресвятая Богородица!
Да свечку-то у Спаса запрестольной Божьей Матери и поставила. Так эдаким родом она Ивана Курчаваго к себе приворожила, что стал он Марину во сне видеть и только ей грезить. Ну, родителям не хотелось ее себе в невестки брать; боялись Марины, али хотели взять за него девицу. Верно что девицу, потому ее всякий муж по своему карахтеру может переделать, а вдову не перевернешь, все равно, что упряму лошадь. А у Марины знали, что у ней карахтер крутой был, и она старше годами была Ивана Курчаваго и что-что красавица, все-таки вдова, а не девка. Поди ты, что эта Марина с Иваном Курчавым наделала! Беды! На другой день рукобитья приехал он домой от невесты, отпрег лошадь, поставил в конюшню и вошел к себе в избу. Отец с матерью посмотрели на своего Ивана и с диву дались: бледный, помучнел весь, а глазами так страшно ворочает, словно что потерял да ищет. Спросили его:
– Что с тобой, Ванюша?
А он как бросится с хохотом из избы в сени за дверь и давай руками-то все шарить. Отец с матерью перепугались, видят: дело худо, их Иван сбесился, а он с конюшни бросился на сеновал. Они там его и заперли, вскричали соседей, чтоб им помогли его связать, кабы он чего с собой и с ними не поделал. Тут пришли человек пять соседних извощиков и ломовых, и выездных, кое-как стащили с сеновала за руки и за ноги, а он бьется, брыкается, удержать не могут и пять человек. Вот так силища была! Несмотря, что извощики парни дюжи – молодец к молодцу, кажись, по сажени в плечах будет, а он их так на себе и носит. Кое-как связали возжами руки назад, повалили на спину; один стал держать его за руку, другой рукой придавил ему брюхо, а трое стали ноги вязать. Как он плечами-то поднатужился да ахнет – возжи-то, как нитки, хрустнули! Не знают что с ним делать. Случился тут у Курчавых Чувашенин (с хлебом к ним приехал), подошел к извощикам да и говорит:
– Надевай, ребя, на него хомут вон с моей-то потной лошади.
Те рты разинули, молчат.
– Надевай, знай надевай! Небось не тронет! Хозяин-отец! Ищи бабу брюхату, вели ей Ваньку держать за хомут! Смирней будет, все пройдет! Над ним гораздо баба шутила, ишь шайтана в него садила!
И случись тут моя матушка, царство ей небесно, из-за калитки смотрела как Иван Курчавый бесится (а она, слышь, мной беременна была), давай ее упрашивать, чтоб она подержала. Ну, баушка и соседки уговорили ее, чтобы она помогла спасти душу христианскую. Обрядили Ивана Курчавого в хомут с шлеёй, как лошадь; мать стала держать – не шелохнулся даже; появилась у рта пена, отерли. Стал засыпать и захрапел, а Чувашенин все что-то бормотал и заклинал шайтана. Оставили Ивана в хомуте до утра, и спал он до полудня. Проснулся как угорелый и спрашивает:
– Где я?
Сняли с него хомут, вошел он в избу, перекрестился, сел за стол, попросил квасу, напился. Его стали расспрашивать, что с ним случилось, он все и рассказал.
– Еду, – говорит, – от невесты, на Завьяловой горе меня и встретила Марина и говорит: Ванюша, домой что ли едешь? Домой, – говорю. Довези меня, голубчик. Садись, довезу. Кое о чем с ней поговорили насчет себя, и я ее привез с себе домой, да за дверь в конюшню и спрятал, чтобы не видал никто. А потом стал Марину искать, и так и сяк – нет, не могу найти. Дальше что со мной было и не помню. Ивану Курчавому полегчало, зато Марина заболела. Ударит ее, говорили, чертова немочь и лежит Марина без языка, вся бледная и простоволосая, а груди на себе руками так и теребит, рубашку в лоскутки изорвет… Билась, билась, да в день свадьбы Ивана Курчаваго в Волгу и бросилась. Как сумасшедшая выбежала на берег нагишом, косы распущены – и поплыла на середину, да там на дно и опустилась. Искали и неводом и снастями – не могли найти. После слухи пошли, что Марина оборотилась русалкой, да по вечерам и выходит на берег. Сядет на огрудок или на конец плота и все моет голову, да расчесывает свои косы, а сама смотрит в избу, где живет Иван Курчавый с молодой женой. Потом вдруг застонет да заохает жалобно-прежалобно и бросится в воду со всего маху. Многие ее видели, даже слышали как она горько плачет и поет заунывно тихо – индо сердце берет:
Ах ты, Ванюшка,
Ты мой батюшка!
Ты меня разлюбил,
Ты меня погубил!
Ненаглядный ты мой!
Дорогой ты мой!
Стали про Марину-русалку поговаривать в городе. И Иван Курчавый слышал, что Марина от любви к нему утопилася в Волге, стала русалкой и живет в страшном омуте, где и в бурю и в тиху погоду вода как в котле кипит, белый вал ходит. Ну, будто бы Марина-Русалка с каким-то седым стариком в этом валу и появляются и лодки опрокидывают. Рыбаки поговаривают, будто видели Марину-Русалку на песках против Симбирска. Плывет, кажется, лебедь тихо, выйдет на песок, взмахнет да ударит крыльями и превратится в красавицу бабу и развалится на песке как мертвая. Вечерком многих пугала.
А Ивану Курчавому что-то не жилось с молодой женой, хоть и красавица была, да видно душе не мила. Начал все тосковать и повадился в полночь один одинешенек на бударке ездить к омуту с гуслями, да играть разны песенки. Сам то заплачет, то засвищет, то как лешой захохочет, то затянет заунывную песню, да таким зычным голосом, что она по всей Волге так и разольется:
Изсушила меня молодца
Зла тоска жестокая!
Сокрушила меня молодца
Моя милая, сердешная,
Моя милая, что задушевная!
Ты возьми, возьми моя милая,
Меня в Волгу матушку глубокую,
Обойми меня рукою белою,
Прижми к груди ты близехонько,
Поцелуй меня милехонько…
Ну, слышь, Марина-Русалка вынырнет из воды, бросится в лодку к Ивану Курчавому и давай с ним миловаться да обниматься и хохотать, да так страшно! Ездил, ездил Иван Курчавый в полночь на омут, да так и след его простыл: ни его, ни бандуры не нашли, только весла да лодка у берега. Осталась его молодая жена, стала по мужу плакать да тосковать и раз, слышь, он ночью к ней приходил и сказал:
– Не тужи обо мне, женушка, Мне с Мариной жить на дне Волги-матушки весело: меня полюбил Водяной Волнок, угощат меня разными яствами и питиями и живет он во дворце изумрудном и все просит ему играть на бандуре. Заиграю – он распляшется со всеми женами русалками, а как перестану – остановится. Обещал наградить меня на этом свете: отпустить вместе с Мариною – моей полюбовницей. Никому только ты об этом ни-ни, не сказывай!
После этого видения вдова Ивана Курчаваго вдруг сделалась при смерти больна, да родным и розсказала, что она свого мужа ночью видала. Как рассказала, у ней язык отнялся и тут же дух вон.
(Записано со слов симбирской мещанки Екатерины Григорьевны Извощиковой и сообщено М. И. Извощиковым)
Водяные шутовки
Портной обругал свою жену в неудобный час, послал ее к шутам. Было около полуночи баба вышла по нужде во двор и пропала. Искали день, два, неделю, а баба как в воду канула. По совету добрых людей стали отчитывать, подавать милостыню. Через несколько недель в полночь же, подкатывает к избе телега и что-то с треском сбрасывает. Выходит портной из дому, глядит – это его жена, худая и измученная. На расспросы его и домашних рассказала, что когда муж обругал ее непригожими словами, вышла во двор, окружила ее какая-то невидимая сила и повела со двора вон, привели к реке, ее потянуло в воду и оказалась она в гнезде шутовок. Живут они, как и мы, в избе, стряпают едят, прядут, шьют, одним словом, делают все как и у нас. Живут артелью одни шутовки. По ночам ходят по деревням и заходят в те избы, где за стол садятся не молясь, бросают на стол куски, смеются за едой, не зааминивают окон и дверей. Там они забирают всякую еду к себе, воют по избам в свой час, уводят проклятых детей и больших, которые им поддадутся. Сначала с бабой обращались хорошо, а когда стали молиться и подавать милостыню, то принялись озорничать, морить голодом. Наконец, когда заморили, привезли и бросили к избе.
«Нечистые места» есть около каждой деревни: там водится нечистая сила, которая старается погубить крещеную душу. Такой славой пользуется «Большое болото», около которого видали огни в ночное время, слыхали крики и т. п. По средине болота вроде пруда. Подойти к воде можно только по лавам, положенныи через кочки. Купаться здесь боялись, были несчастные случаи, кого за ногу схватил, кто утонет. Но все же находились смельчаки, которые иногда купались, но надо было избегать полден и темного времени. Раз молодой парень пошел купаться, прошел лавы и видит, что на том берегу сидит голая девка и моет голову. Он задумал ее напугать, обошел кругом болото, близко подкрался к ней и закричал. Девка в воду и больше не появлялась. На кочке остался кусок ноздреватого мыла. Парень сначала думал, что девка утопилась, долго стоял над водой, видел только как вода заходила и долго волновалась. Взял кусок мыла, пошел на деревню, ни у кого такого мыла нет и ничья девка не купалась. А это была шутовка, у ней и одежи-то никакой не было.
Про домового
Домовой
1898 г. сентябрь. Недавно мне пришлось слышать рассказ о домовом. Молодая баба, уроженка дер. Саломыковой, Фекла Алтухова, рассказала мне случай, бывший с ея невесткой. У этой невестки был трехлетний сын, здоровый, славный мальчик. Однажды ночью мать этого ребенка была разбужена стуком отворяемаго окна. Открыв глаза, она увидала влезающаго в окно «хозяина», то есть домового. По виду он был похож на человека, одет «по-мужицки», на голове у него была огромная шапка, которую он не снял и в избе, а лица нельзя было разглядеть благодаря темноте. Влезши в окно, он подошел к лежанке и лег, вытянувшись во весь рост и низко свесив голову с лежанки. Бедная баба лежала ни жива, ни мертва. Потом, собравшись с духом она начала звать Феклу, когда та проснулась она попросила ее открыть трубу, так как из печи будто бы идет угар. Фекла встала, зажгла лампу. Домовой исчез. Угара в печке не оказалось и невестка призналась Фекле, что она позвала ее потому, что ей было очень уж страшно и рассказала ей о неожиданном посещении «хозяина». Вскоре после этого проишествия сын Феклиной невестки заболел и через несколько времени умер. Появление домового было принято бабами за предсказание смерти ребенка. Фекла сообщала мне еще, что домовой – или «хозяин», или еще «милак» – живет на чердаке – «на потолоке» – но ходит по всему дому и двору и «вещует», то есть является предупредить людей о приближении какого-либо несчастья.
Раньше я слышала, что при переходе в новую избу домового зовут с собой, «зазывают его». Я начала расспрашивать жену школьнаго сторожа.
– Скажи мне, Максимовна, как у вас зазывают домового, когда переходят в новую избу?
Старуха сначала отнеслась недоверчиво к моему любопытству.
– Не знаю, – отвечала она, – я молодая была, когда наши переходили в новую хату, может, старики и звали его как, не слыхала… А что?
– Да мне в Шелковке сказали, что его «зазывают», а я не поверила. Значит, неправда?
– Ды нет, гаворят надо зазывать… (Старуха, видя, что я спрашиваю серьезно, сделалась доверчивее). Вот как совсем перейдуть у новаю хату, да придут у стараю, памолютца Богу и кличут «хозяина»: «Хозяин! Хозяин! От нас нятбивайси, пайдем с нами у новаю жилишшу…» Тах-та штоль, я не знаю…
Максимовна вдруг оживилась:
– Ен вот кого любя, усе кукобя,[221]221
Кукобить, т. е. заботится о благосостоянии хозяев.
[Закрыть] – заговорила она доверчиво и благодушно. – Лошадей и увесь скот жалея, кормя, лошадям коски заплетая, – так гривы позавьют-ца… Как мы уместя жили,[222]222
Вместе жили три брата с семьями: ея муж и его два брата.
[Закрыть] дык раз што было. Мужики, балча,[223]223
Бывало.
[Закрыть] днем паложут лашадям корму, а ночью каму хотьца на гарот иттить? – Дык они днем свяжут визанку саломы, ды на тилегу на двор паложут, а повичерявши,[224]224
Поужинавши.
[Закрыть] атнясуть лашадям. Вышал раз мой девярь,[225]225
Брат мужа.
[Закрыть] слухая – хтой-та саломой шумить?
– Хтой-та?
Малчить.
– Мишка!
Малчить.
– Степка!
Малчить.
Пашел ен у хату. А ребята усе у хатя.
Што за казия![226]226
Что за оказия!
[Закрыть]
– Ребята, вы у хатя?
– У хатя.
– Хто ш эта$7
– Вот, хозяин-то у нас какой! Скатину как любя, сам и корм нося… А вот куго ен не залюбя, дык возьмет, увес весь корм из ясел повыгрибя, да чужим атнисет, а сваи не евши… И бьет их… Усе падохнут.
– А если он не взлюбит какого-нибудь человека, что он делает? – спросила я.
– Да, гаварят, наваливаитца ночью, али шшипя (щиплет). У мине невестка, дык уся у синяках, бала (бывало), ходя. Ды дужа (очень) шшипя, ажно кровь почернея…
– Что же далать, чтобы он не щипал? – опять спросила я.
– Ды хто зная, – отвечала Максимовна, – Ды ана балыматная (легкомысленная, пустая) была, нивеска мая: усе, бала, с салдатами, с палюбовниками… Нехорошая баба, Бох с ей. Туго (оттого) ие хозяин и шшипал.
– А вот у суседей наших «напушшено» было, – начала опять Максимовна, – хтой-то сярдит на их был, ды «изделал».[228]228
Колдовством «напустил» чужих домовых, которые не заботятся о хозяйстве.
[Закрыть] Дык суседка сама видела двоих (домовых): адин у синей рубахе, другой – у красной, да пириметываютца.
– Как это «переметываются», – спросила я.
– Ды тах-та абнимутца, да павалютца абои, а потом ускочут, схватютца, да апять павалютца: играють. Дык у их вся скотина подохла, ничего как есть во дворе не было. Напушшено. Хто слово зная, ды сдурить, а чалэку ат етага плоха.
– А как это, говорят, домовой «вещует»? – снова спросила я.
– Бувая… Мая сяструшка сказывала: как узять ие мужа у солдаты, дык хозяин по ем голосил. Вот завтря иго везть, а нынча ани пашли у клетку спать. Мужик-то выпил – то-то прошшалси со сваими – храпить, а сяструшка только стала дремать и слыша: хтой-та у клетку дверь растворил и лез им по нагах, патам зли стеначки прашел, у галавах астанавилси и начал голосить. Слов не выгаваривая, а тольки голосам: у-у-у, у-у-у… Как вот бабы голосют. А сяструшка мая уробела, баитца мужа пазвать, да усе иго пад бок – толк, толк! А ен храпит, не слыша. Как праснулси ен, а она:
– Ох, Ликсан (Александр)! Што ш ты$7
– А што?
– Ды у нас у галавах штой-та галасило усю ночь…
А раз со мной была оказия, – продолжала разболтавшаяся старушка. – Начивала я у хатя адна как есть – наши были на поля. Задула свет, легла на печь, лежу и слышу: падшел ен к столу, узял са стола ножик – я, знать, забыла прибрать, ды тах-та ножиком:
– Дзы-ынь!.. Дзы-ынь!..
А потом как шварсня (швырнет) ножик наземь! А я лежу ни оторопь мине не взяла, ни што. Тольки думаю, што ш ета$7
– Няставляй ножик на ночь на столе – грех!..
А старик сторож, муж Максимовны, сообщил мне, что он слышал, как «хозяин» прял на приготовленных прялках в то время, когда все спали.
Про кикимору
Про кабачную кикимору
В одной дистанции стоял кабак на юру близ оврага, и овраг-то обсыпался, так что кабак чуть лепился на овраге. В этом селе были большие базары по понедельникам и пятницам и шла в кабаке большая торговля вином, но ни один целовальник не мог долго усидеть в кабаке: постоянно проторговывался и разорялся. То находили у них недочет в деньгах, а главное дело – большую усышку вина и разсыропку, так что в откупной конторе все этому дивились, и еще тому дивились, что все целовальники рассказывали, как ровно в двенадцать часов кто-то у них вино цедит и, когда зажигали свечку, то видели карбыша, который бег от бочки и скрывался под полом в нору. Откуп кому ни предлагал сымать кабак, все отказывались. Даже даром предлагал кабак, без всякаго залогу, но никто не сымал. Предложили одному пьянице и моту, и несколько раз оштрафованному, и пойманному в приеме краденых вещей. Он был в крайности, потому что промотался. Не имел себе пристанища и ходил из кабака в кабак, а был человек семейный, очень неглупый и отчаянная голова. Он согласился взять кабак, хотя и слышал много страшных рассказов об нем. Кабак стоял заброшен. В первую ночь, когда он поселился в нем, он приготовил сальную свечку, спичек, положил топор на стойку, выпил полштоф вина и лег спать.
– Ну, – говорит, – теперь хоть сам черт приходи, никого не боюсь.
Спустя короткое время он услыхал, что кто-то вино из разливной бочки цедит. Он быстро зажег свечку, взял топор, подошел к бочке, осмотрел ее. Видит, что она не повреждена: печати все на ней целы, а кран заметно полуотворен. Постукал он топором в бочку и по стуку определил, что будто вина меньше, сорвал печати, накинул мерник, видит, что трех с лишком ведер нет. Он удивился и выругался как ему хотелось.
– Чорт, что ли отлил! Покорись мне! Ведь я чертей-то не боюсь: до чертиков-то я раз десять напивался. Не привыкать стать мне вашего брата видеть!
Тут он услыхал под полом треск: стала выворачиваться половица и стало вырастать из-под пола странного вида дерево. Все растет и растет, распространяются ветви, сучья и листы, закрывают почти что весь кабак и склоняются над его головой. Целовальник, собравши что есть силы, взмахнул топором рубить дерево и говорит:
– Ну, так, брат, вот как по-нашему! Я тебе удружу!
В эту минуту топор его как будто во что воткнулся, он не может его сдвинуть и чувствует, что какая-то могучая рука удерживает топор. Целовальник не струсил.
– Пусти, – говорит, – меня! Я знаю, что ты чорт! Пусти! Я все-таки буду рубить!
В это время слышит над своей головой тихий и кроткий голос:
– Послушай, любезный, меня. Не руби ты дерево, это я.
– Да кто ты?
– Я тебе скажу. Ты со мной уживешься, мы будем с тобой друзьями, и ты будешь счастлив.
– Да кто ты? Говори скорей! Пусти топор, я хочу выпить.
– Ну, брат, поднеси и мне.
– Да как я тебе поднесу, когда я тебя не вижу?
– Ты меня никогда и не увидишь, только когда с тобой прощаться буду, может, покажусь.
– Правду ли ты говоришь?
Целовальник почувствовал, что кто-то топор пустил, зашел за стойку, взял штоф вина и хотел из него наливать, голос ему и говорит:
– Послушай, любезный, ты много теперь не пей. Для нас довольно и этого полуштофа. Вон возьми вон этот, у котораго горлышко проверчено, в том, брат, вино-то хорошее, еще не испорчено.
– Да как ты это узнал? Я принимал, все полштофы были целы…
– А ты ходил опускать вино-то мужику-то, тебе нарочно дистаночный его и подменил, чтоб узнать наперед будешь ли ты здесь мошенничать.
Целовальник взял этот полштоф, посмотрел со свечкой на его дно и увидел, что действительно на дне проверчена дыра (чтобы можно было отлить и впустить туда, а после воском залепить).
– Ну, чортова образина, теперь я верю тебе, что ты – чорт.
– А ты не ругайся, мы с тобой будем друзьями, ты угости лучше.
Целовальник налил два стакана, взял свой и выпил, сам скосился и смотрит на другой и видит: стакан поднялся сам собой и так в воздух испрокинулся, как кто его пил, и так сухо, что капли не осталось, только кто-то крякнул.
– Ну, брат, спасибо за угощенье.
– Спасибо-то спасибо, а ты мне розскажи кто ты.
– Я тебе, брат, расскажу, слушай! Я – сын богатых родителей и сын купеческий, проклятый еще в утробе матери, и вот теперь скитаюсь по свету и около тридцати лет не нахожу себе пристанища. Отец меня проклял ни с того, ни с сего, а мать поклялась своей утробой в нечестивом деле (они душу человеческую сгубили, отравили своего роднаго брата, чтобы воспользоваться его богатством). Так вот я кто такой! Теперь дальше слушай! Ты каждый день в двенадцать часов дня и ночи ставь за заслонку по стакану вина и пресную на меду лепешку. Этим я буду кормиться, а ты себе торгуй, не бойся ни поверенных, ни дистаночных, ни подсыльных, а я тебе об них буду говорить; за десять верст ты будешь знать, кто едет и кого подослали, чтоб тебя поймать в разливе вина, а теперь ложись и спи! Только, брат, образов не заводи и молебнов не служи и как я отсюда уйду через год, так и ты уходи, а то худо будет тебе. Слышал?
– Слышал.
– Так и поступай.
Целовальник выпил еще вина и лег. Посмотрел на дерево, оно стало меньше, все ниже и ниже, скрылось под полом и половица опять легла на свое место, как ни в чем не бывало. Целовальник затушил свечу и заснул.
На другой день был базар. Он поутру встал рано и увидал, что у него открылась хорошая торговля, и он, полупьяный, целый день хорошо торговал, ни в чем не обсчитался. К вечеру проверил выручку и смекнул, что торговля шла на удивленье, а что говорил ему проклятый, он это все и исполнил, и с этого дня целовальник стал торговать так хорошо, что все его товарищи стали ему завидовать. Он никогда не попадался ни под какой штраф, несмотря на то, что постоянно продавал вино рассыропленое, и заблаговременно знал кто из дистаночных или поверочных придет к нему его ревизовать. Удивлялись его аккуратности, его ловкости, его честности и больше всего тому, что целовальник, хотя пил вино, но пьян не напивался. Прошел год. Наступила полночь. Целовальник по обыкновению спал на стойке и проснулся. Слышит вдруг голос:
– Ну, прощай, брат, я ухожу. Ты завтра же откажись от кабака и прекрати торговлю!
– Ну что ж. Покажись мне!
– Возьми ведро воды и смотри в него!
Целовальник взял ведро воды, а в другую руку свечку и стал на воду смотреть. Он увидал в ведре свое лицо и с леваго плеча – другое лицо красиваго человека средних лет черноброваго, черноглазаго, а в щеках как будто розовые листочки врезаны.
– Видишь ли?
– Вижу, какой ты красавец.
В это время кто-то вздохнул и раздался голос:
– Не родись ни хорош, ни пригож, а родись счастлив.
Все пропало. В печной трубе раздался страшный вопь и плач. Целовальник все-таки не послушался и на другой день торговал по случаю базарного дня и хотел еще зашибить копейку, но несмотря на то, что в течение года нажил мошенничеством и приемом краденых вещей до двух с лишком тысяч. В этот же день дистаночным был оштрафован на двести пятьдесят рублей, сдал должность и навеки отказался от торговли вином. Перестал пить, купил себе постоялый двор и сделался набожным человеком.
(Записано и сообщено М. И. Извощиковым)
Два брата
Жили-были двое братьев – один бедный, другой богатый. У беднаго была только одна корова. Богатый раз пришел к бедному: «Убей корову, шкура на базаре пятнадцать рублей, а мясо ни по чем». Бедный обрадовался и убил, мясо оставил себе, а шкуру пошел продавать. За шкуру ему дают полтора да два рубля. В последней лавочке он продал за три рубля, при этом вырядил стакан водки. Купец послал его к своей жене. А у купчихи в это время сидел любовник. Как только бедный отворил дверь, любовник скрылся. Он сказал купчихе, что хозяин велел налить стакан водки. Купчиха налила неполный стакан на палец. Мужик выпил и сказал: «Мне хозяин велел полный налить». Купчиха налила полный, мужик выпил. Вдруг хозяин идет с гостем. Купчиха мужика вместе с любовником посадила в подполье. Купец заказал самовар. Гость напился допьяна и они запели песню. А бедный в подполье и говорит: «Я подхвачу эту песню, эта песня моего родителя-батюшки». Любовник стал просить мужика, чтобы молчал, и дал денег. Между тем гость запел другую песню, эта песня оказалась песней родимой матушки и мужик за молчание опять получил деньги. После второй веселый гость затянул третью песню. Мужик заявил, что это песня его любимая, и что он непременно запоет. Любовник заплатил мужику еще больше за молчание. Голос умолк. Мужик и говорит: «Я есть хочу, пора и выходить до каких пор мы будем сидеть?! Иди проси подушку да ведро смолы». Любовник отворил западню и сказал: «Дай ведро смолы да подушку с перьями». Она дала. Мужик вылил смолу на любовника, обвалял его в перьях и сел верхом на него и вывел его в комнаты. Купец, увидав это, испугался, купчиха говорит мужу: «Разве я тебе неправду говорила, что в подпольи у нас кикиморы живут?! Вот кто у нас и деньги таскает». Отворили дверь, и те выехали на улицу… Мужик слез с кикиморы, толкнул ее и пошел домой и позвал к себе богатого брата. «Смотри, брат, как дороги шкуры-то! Я счету не могу дать деньгам». Богатый пошел и перебил всю свою скотину, мясо оставил про себя, а шкуры повез на базар. Но шкуры совсем сделались дешевы, и он спустил их по полтине за шкуру. Оставшись без скота и без денег, он совсем обеднел и стал хуже, чем его бедный брат жил раньше.








