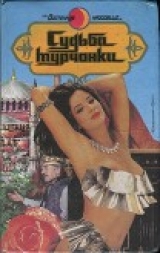
Текст книги "Призрак музыканта"
Автор книги: Сабахатдин-Бора Этергюн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
5
ЛЮБОВЬ
Отец Анастасиос выполнил свое обещание и учил меня франкским наречиям по мирским книгам. Новый чудесный мир раскрылся передо мной. Я скоро заметил, что книги франков походят на стихи и повествования арабов и персов. В чудесных историях о принцессах и рыцарях я находил много общего с поэмами о Тахире и Зухре, о Лейле и Меджнуне, о прекрасном Юсуфе и гибнущей от страсти Зулейхе. Я сказал об этом своему учителю.
– У тебя острый ум, – похвалил он меня. – Да, франкские книжники многое взяли у арабов, персов, иудеев и древних эллинов. Но все же остались собою, не утратили своих собственных черт.
Мы с Панайотисом жили погруженные в мир чудесных приключений, порою непристойных, порою трагических. История Тнугдала, воочию видевшего подземное царство, милые повествования о девушке на муле, о нежной любви Окассена и Николетты, похождения хитрого лиса Ренара – все так нравилось нам. Отец Анастасиос рассказывал нам о столицах франкских государств, о больших городах – Париже, Флоренции, Риме, Толедо. Он много повидал на своем веку. Он рассказывал, как учился в университетах Парижа и Болоньи. Студенты живут бедно, но весело. Однажды воспоминания так разгорячили доброго старика, что он, оглянувшись на дверь своей кельи, заговорщически подмигнув, сказал нам:
– Вот погодите, я сейчас кое-что вам покажу!
С этими словами он вынул из ниши в стене, где хранил свои книги, одну старинную с плотными пергаментными страницами.
– Вот! Это «Кармина Бурана».
В этой книге были собраны веселые песни, сочиненные франкскими студентами на латыни. Мы, Панайотис и я, листали страницы, краснели, прыскали, закусывали губу и, честно говоря, завидовали франкским студентам – они были такими свободными, к их услугам всегда находились искусные в своем ремесле блудницы (если быть совсем уж честным, это вызывало особенную нашу зависть), а мы… Ладно еще Панайотис, он сирота, и отец Анастасиос, его опекун, не станет его так уж стеснять. Но я! Куча родственников следит за каждым моим шагом и когда придет время, они и женят меня и будут направлять в жизни, и будут пользоваться моими услугами улема, а я, должно быть, стану улемом – ученым толкователем Корана. Целые дни буду проводить в мечети, а дома – жена, дети, все те же родственники – что за скука будет! Нет, надо хорошенько изучить франкские наречия. Вдруг это позволит мне сделаться посольским переводчиком?
Отец Анастасиос взял из рук Панайотиса книгу, раскрыл, и запел приятным, немного дребезжащим голосом:
Будем же радоваться,
Пока мы молоды.
После юности прекрасной,
После старости ужасной
Нас возьмет земля-а-а!..
От звуков этого старческого голоса, от этих простых и правдивых слов мне сделалось грустно, защипало в глазах.
– Я хотел было тебе сказать, Чамил, – отец Анастасиос взял меня за руку своими сухими пальцами, – я хотел было сказать тебе, что не следует быть таким чувствительным! Но внезапно подумал, а чем это дурно – быть чувствительным, сохранять способность проливать слезы над нежными и грустными стихами… И вот я говорю тебе: оставайся таким, каков ты сейчас, мальчик мой!
В одну из книг отца Анастасиоса мы с Панайотисом просто были влюблены. Эту книгу написал флорентиец Джованни Боккаччо, называлась она «Декамерон» – «Десятидневник». Мы с моим другом просто поселились на ее страницах! Каждый из нас представлял себя любовником юной Катерины, которая засыпает на балконе, нагая, в его объятиях, лаская своими девичьими пальчиками его обнаженный член. А на другой день мы уже были настроены возвышенно и серьезно, и восхищались кротостью и терпением красавицы Гризельды. Но скоро я заметил, в чем разница между мной и моим другом – я готов был с головой, то что называется, погрузиться в книги и жить в их мире, не особенно нуждаясь в мире реальной жизни с ее печалями, глупостями и радостями. Панайотис же был привязан именно к этой реальной жизни, хотел жить, существовать в ней и во имя ее. Возможно, именно поэтому из него не вышло ни иконописца, ни музыканта; он никогда не умел всем своим существом погрузиться в мир вымысла. Но, может быть, он в чем-то был прав?
Какое-то чутье подсказало мне, что не следует заводить с Панайотисом разговор о его любви, он переживал еще ту фазу влюбленности, когда есть одна лишь потребность, одно желание – глубоко затаить свои чувства, лелеять и беречь их в своей душе, ни с кем не делясь, никому не открываясь.
Но мне все же хотелось завести такой разговор. Я мечтал быть деятельным помощником влюбленных, столь близких моему сердцу. Я давно не видел Сельви, потому что выполнял свое обещание и не бывал в доме деда Абдуррахмана, но я знал от матери, что Сельви гораздо лучше, припадки стали намного реже, и родители не теряют надежды на то, что их дочь совершенно поправится. Меня это радовало несказанно. Я думал о том, что я окажу неоценимую услугу моей Сельви; быть может, помогу ей соединиться с возлюбленным, и тем самым заглажу свою вину перед ней, ибо, несмотря ни на что, я все еще чувствовал себя виновным.
И вот случайно нашелся повод заговорить с Панайотисом о его чувствах. Ко мне вдруг обратился доверенный слуга Хасана с несколько странной просьбой.
– Господин Чамил, я слышал от моего господина Хасана, что вы бываете в монастыре архангела Михаила…
– Да, бываю, – подтвердил я, ожидая дальнейших вопросов и не догадываясь, о чем пойдет речь.
– У меня есть одна приятельница, гречанка. Все мы ведь не чужды слабостей! Господин Хасан рассказывал, что видел в монастыре одну красивую икону с изображением девушки, нарисованную молодым тамошним послушником. Не помню уж, как называется эта языческая доска, но вы, должно быть, и сами ее отыщете. Не согласился бы этот послушник списать с нее копию, за плату, конечно; охота мне сделать подарок моей приятельнице; так не согласился бы? И, зная вашу доброту…
Я подумал, что Панайотису будет приятно и получить деньги, которыми он сможет распорядиться по своему усмотрению; и то, что на его икону будут молиться.
– Что ж, – я сделал вид, будто хмурюсь, – дурно, конечно, что ты не склоняешь свою подругу к правой вере, но сам же и даришь ей изображения языческих идолов! Но что поделаешь – человек и вправду подвержен слабостям. Я постараюсь выполнить твою просьбу.
Я рассказал Панайотису о просьбе слуги, и мой друг с удовольствием согласился и принялся за работу. Скоро икона была готова. Слуга пришел на условленное место, мы передали ему икону, а он нам – деньги. В скором времени Панайотис сказал мне, что слуга Хасана передал ему приглашение от женщины, которой подарил икону; эта, де, женщина хочет сама отблагодарить художника за прекрасную работу.
– Но я сказал, что без тебя никуда не пойду! – Панайотис посмотрел на меня.
– Но ты можешь пойти и без меня, – я был тронут, но мне не очень-то хотелось идти в незнакомый дом.
– Ты не хочешь? – спросил Панайотис, и лицо его приобрело немного ребячески-обиженное выражение.
– Я не знаю, зачем… – я смутился и не договорил. – Ты знаешь, мне кажется, я чего-то не понимаю, объясни мне.
– Хорошо! – он решился. – Мы ведь уже взрослые. А я слыхал, что любви, то есть телесной любви, следует учиться. Помнишь историю Дафниса и Хлои; мы читали; ведь прежде, чем сделаться супругом любимой Хлои, Дафнис вступил в телесную близость с одной опытной женщиной, которая научила его любви, просветила его…
– Я помню. Но в наших книгах; я имею в виду, не сердись, книги, написанные людьми правой веры, любовь не такова. Разве Меджнун учился любви у продажных опытных женщин? Нет!
– Но ведь тогда есть риск, что в будущем разочаруешь своей неумелостью истинную свою возлюбленную! – воскликнул Панайотис. – А если говорить о ваших книгах, разве не имел Тахир двух жен?
– Но обеим он был супругом, обе были честные девушки!
– Ох, Чами! Ну разве мы…
– Я все понимаю, – прервал его я. – И мне этого хотелось. Но откуда ты знаешь, что эта гречанка – доступная женщина? И потом, ведь у нее уже есть друг – слуга моего брата!
– Ну вспомни истории о блудницах из «Декамерона»! Никакого значения этот ее друг не имеет! И приглашает она нас не случайно, не просто так!
– Меня не приглашает!
– Этот слуга твоего брата просто, я думаю, постеснялся передать приглашение и для тебя; боится, что ему за это достанется от твоих родителей! Но как родители узнают? Ничего они не узнают!
Короче, я согласился идти к пресловутой гречанке вместе с моим другом. Это приключение очень занимало нас. Я немного, впрочем, сердился на Панайотиса; сам не знаю, почему; я понимал, что говоря об истинной возлюбленной, которую он боится в будущем разочаровать, он думает о Сельви! Но в конце концов, я ведь и сам желаю, чтобы они соединились в будущем супружескими узами. Думал я и о себе – возможно, и я впервые познаю телесную близость с женщиной. Может быть, Панайотис прав, и действительно следует начинать с опытных женщин…
В назначенный день мы отправились на рынок, нашли лавку ювелира и начали тратить деньги, полученные Панайотисом за копию иконы. Накупили дешевых украшений. Мне показалось, что и сам старый иудей, и его молодой красногубый помощник, и даже слуга-негр, все догадываются, что мы покупаем украшения для подарка продажным женщинам, и поглядывают на нас как-то иронически. Я напустил на себя гордый вид, предоставил моему приятелю расплачиваться, а сам вышел из лавки, высоко вскинув голову. Но Панайотис, конечно, заметил мое смущение; на улице он, смеясь, ткнул меня кулаком в бок, я толкнул его в плечо и мы двинулись дальше. Наняли носильщика, завернули в лавку, где продавались ткани; прибавили к украшениям дешевую шаль, но пеструю, нарядную. Потом купили мясо, зелень, фрукты и сладости. Навьючили нашего носильщика и так добрались до условленного места. Слуга Хасана, его имя было Муса, уже ждал нас. Он немного смутился, увидев меня, но я бодро сказал:
– Все мы не чужды слабостей! Главное, что господин Ибрахим, мой отец, и госпожа Мальхун, моя мать, ничего не узнают! Ну и господин Хасан, разумеется, тоже! – я посмотрел на Мусу, как смотрел на слуг мой отец, спокойно, но повелительно.
Слуга кивнул. Но мне показалось, что он озабочен чем-то иным.
Мы углубились в греческий квартал. Приятельница Мусы жила в небольшом доме, на вид довольно чистом. Муса постучал о деревянную дверь медным дверным кольцом. Служанка впустила нас. В тот день я надел нарядный тюрбан; Панайотис был в новом кафтане и в шапке, из-под которой выбивались прядки его темно-светлых волос. Гречанка не показалась нам особенно молодой и красивой, длинноносая, сильно набеленная и нарумяненная, руки и шея у нее уже отличались дряблостью. Мы отпустили носильщика, щегольнув в присутствии нашей продажной дамы щедростью. Она приказала служанке готовить ужин, рассыпалась в благодарностях. Я развернул шаль и выложил украшения.
– О! – воскликнула женщина нарочито-певучим голосом. – Это слишком много для меня одной! Мелита! – она позвала служанку. – Ступай, пригласи к ужину Марию и Кристину, пусть девушки развлекут моих гостей.
Услышав слово «девушки», мы с Панайотисом исподтишка переглянулись. Мы с удовольствием предпочли бы девушек нашей любезной хозяйке. Она продолжала болтать без умолку. Хвалила икону Панайотиса. Но я видел, что что-то ее тревожит. Наконец она извинилась и сказала, что служанка очень бестолкова, поэтому лучше ей самой сходить за девушками, это здесь недалеко. Не согласимся ли мы отпустить ее и Мусу ненадолго? Она боится одна идти по темной улице. Выговорив это, она жеманно хихикнула.
Разумеется, мы отпустили ее и Мусу. А сами сидели за кофе с вареньем, волнуясь и не решаясь даже говорить друг с другом.
Явились обещанные девушки. Это, конечно, тоже были потаскухи, но и вправду молодые и довольно красивые. За ужином пили вино. Я молчал и важничал. Муса пытался острить. Панайотис привел всех в восторг, спев несколько песенок на латинском языке из «Кармина Бурана». Он перевел их содержание на греческий язык и все смеялись. Потом Муса заиграл на тамбуре. Девушки поднялись, вынули тонкие платочки и начали танцевать. Пригласили присоединиться и нас с Панайотисом. Впервые в жизни я держал за руку чужую женщину, с которой к тому же собирался провести ночь, и двигался в такт ее движениям. Я заметил, что это очень возбуждает. Панайотис заинтересовался тамбуром, даже попробовал играть; у него сразу получилось. Я тогда решил, что подарю ему тамбур! Вечер завершился тем, что хозяйка развела нас по отдельным комнатам и я познал женскую любовь. Это оказалось приятно. Но странно, все, что проделывала искусная девушка (а я понял, что она искусна); все, что она говорила; казалось мне бледным сколком, почти комичным подражанием тому, что полнокровно жило на страницах книг. После я спросил у Панайотиса, каково его впечатление. И странно, оно было прямо противоположным: ему показалось, что то, что описано в книгах, вторично по отношению к живой жизни. Я же думал иначе: люди просто подражают тому, что описано в книгах или рассказано в легендах, подражают вольно или невольно. Ведь не найдешь на земле человека, который не слышал бы ни одной песни, не знал бы ни одной легенды, даже если он и не умеет читать.
– Вот какое приключение доставила нам твоя святая Параскева! – начал я разговор, спустя день.
Но мой друг не поддержал моего шутливого тона. Он был задумчив и печален. И заговорил со мной прямо, это я в нем особенно любил.
– Меня грызет чувство вины! – сказал Панайотис. – У меня такое чувство, будто я предал… – он вдруг осекся.
– Я понимаю тебя. И чувство вины мне знакомо. Знаешь, Панайотис, я хотел бы, чтобы ты пришел в гости в мой дом. Мне надо поговорить с тобой. Ты не думай, что я не слушаю, не понимаю тебя, перевожу разговор на другое. Нет!
Панайотис согласился. Мы уговорились с отцом Анастасиосом, что он отпустит своего питомца на день (когда мы отправлялись в гости к любительнице икон, мы, конечно, сделали это тайно, зато теперь стали такими послушными мальчиками, и скромно просили дозволения отлучиться).
В моей комнате я прежде всего подал моему другу тамбур. Это был старинный с прекрасным звучанием инструмент, инкрустированный перламутром, подарок Хасана.
– Это, – сказал я, – должно принадлежать тому, кто заставит это жить в звучании! То есть тебе!
Он посмотрел на меня, улыбнулся своей детской улыбкой, чуть выпятив губы, и принял подарок.
Немного развеселившись, он откинул крышку сундука, вынул один из моих халатов и тюрбан, и примерил. Затем встал передо мной, смеясь, с тамбуром в руках, в распахнутом халате, в криво надетом тюрбане.
– Призрак музыканта! – засмеялся я.
– Что это за призрак? – спросил Панайотис.
Я рассказал ему о призраке юноши с тамбуром; там, где является этот призрак, следует ждать беды! Панайотис выслушал меня и сказал, что это красивая легенда. Я замолчал, внезапно вспомнив то, что моя мать недавно говорила о Сельви. Сельви хорошо себя чувствует, очень расцвела, но иногда по ночам ей чудится призрак музыканта, тогда она вскрикивает и с трудом успокаивается. По ходатайству деда Абдуррахмана старуху Лейлу, принесшую в их дом историю о призраке музыканта, изгнали из города. Я твердо решился поговорить с Панайотисом именно сейчас.
– Сядь, Панайотис, – попросил я.
Он послушно опустился на подушку, держа в руках тамбур.
– Я должен сейчас сказать тебе много важного для тебя, для меня и еще для одного человека. Ты, конечно, помнишь, как я рассказал тебе о своей детской влюбленности в больную безумием девочку?
Панайотис кивнул, внимательно глядя на меня.
– Эта девочка – младшая сестра моей матери. Ее имя – Сельви. Думаю, что и ты влюблен в нее.
Он широко раскрыл глаза.
– Ведь это свою любимую ты изобразил на иконе?
Он снова кивнул, не сводя с меня глаз.
– Скажи мне, где ты видел ее? – спросил я.
– У ручья на поляне… они разбили шатер… Должно быть, выехали на загородную прогулку… Она набирала воду в кувшин…
– Она видела тебя? Ты говорил с ней?
– Нет, мы не говорили, – он отвечал с какой-то странной покорностью, – но она обернулась и посмотрела на меня. Она не испугалась… А я убежал… – он пожал плечами и улыбнулся.
– Думаю, и она любит тебя, – я рассказал ему о том, как Сельви смутилась, когда зашел разговор о поездке, как она уверяла, будто ничего не помнит.
Панайотис слушал меня.
– Но я не хочу, – продолжал я, – доставлять бедной девочке горе. Ты должен знать о ее болезни. Это тяжкий недуг. Из кроткого, прелестного и серьезного существа она мгновенно превращается во что-то злобное, страшное, бессмысленное. Ты должен знать об этом! Моя мать говорит, что сейчас ее сестра почти здорова, и только иногда ночью видит перед собой призрак музыканта…
– Тот самый? – тихо перебил меня Панайотис.
– Да, тот самый. И если ты чувствуешь, что не сможешь любить больную, лучше откажись от встречи с ней!
– От встречи?! – Панайотис вскочил, не выпуская тамбура из рук. – Я увижу ее?!
– Подумай прежде! Даю тебе семь дней на размышления! Я верю, знаю, ты не обманешь меня.
– Как я благодарен тебе, – просто сказал мой друг, снова опускаясь на подушку. Он уже снял тюрбан, но так и забыл снять халат. – Я тоже должен сделать тебе одно признание. Тогда, у гречанки, эта девушка, с которой я был, – он опустил глаза. – Она хвалила мою икону и все выспрашивала, а, может и вправду существует на свете та красавица, которую я нарисовал. И в конце концов я все рассказал. Как увидел Сельви. А она все выспрашивала. Как выглядели родные девушки, которую я увидел. И я рассказал все, что успел тогда заметить. А теперь я думаю, не грозит ли Сельви опасность. Вдруг ее хотят похитить? И я клянусь тебе, что никогда больше не стану ходить к продажным женщинам! Я все вытерплю, я буду терпеливо переносить ее недуг, никогда не оставлю ее; как бы она ни изменилась, для меня она всегда останется единственной и самой прекрасной!
– Я верю тебе. А все эти расспросы о девушке, которую ты изобразил; да, все это странно. Пока непонятно. Но за Сельви дома следят. И ведь есть мы – ты и я!
Он обнял меня и расцеловал в обе щеки.
Пошло время, отведенное Панайотису для раздумий. Я стал напряженно думать, как устроить его встречу с Сельви, как дать ей знать о нем. Сам я теперь не говорил о семье Сельви, о деде Абдуррахмане. Но чутко прислушивался к тому, что говорили об этом другие. За общей трапезой мать иной раз заговаривала о деде и его семье. Я слушал молча. Мать довольно часто навещала своего отца. Она сказала, что дня через два собирается наведаться к деду Абдуррахману. Меня немного удивило, когда Пашша, первая жена моего отца, мать Хасана, предложила моей матери:
– Отправимся вместе, Мальхун. Я просто пропадаю со скуки!
Обычно Пашша была молчалива и не особенно любила ходить по гостям. Но то была мелочь, о которой я быстро забыл, и вспомнил лишь много времени спустя.
Я принял самое простое решение. Проникнуть в дом деда тайком. Я хорошо знал этот дом, все ходы и выходы. И, стало быть, я пробираюсь в дом, поговорю с Сельви, расскажу ей о Панайотисе, а после устрою их встречу.
Я знал, что в доме деда днем часто не запирают маленькую садовую дверцу. Она выходила в глухой переулок, стиснутый с двух сторон белыми безоконными стенами домов. Здесь же теснилось несколько деревьев. Я затаился в тени раскидистого карагача и выжидал. Затем осторожно подкрался к дверце. Она оказалась заперта. Я снова вернулся к стволу дерева. Было еще рано. Возможно, дверцу еще не отперли с ночи. Я оказался прав. Прошло еще несколько часов и слуга-садовник отпер дверь, подмел и полил мостовую перед домом, и вернулся в дом, уже не запирая дверцу, а просто прикрыв ее. Я прокрался в знакомый сад. Здесь почти ничего не изменилось, и странно было крадучись пробираться по дорожкам, где я не так уж давно бродил желанным гостем.
Я спрятался за беседкой. Надо было появиться осторожно, чтобы не напугать Сельви. Я стал ждать. Наконец увидел ее. Она прошла с госпожой Зейнаб, та очень постарела, лицо обрюзгло, щеки отвисли. А Сельви и вправду чудесно расцвела, теперь она была точной копией девушки, изображенной на иконе. Ей уже исполнилось пятнадцать. Они прошли через сад на кухню. Затем вышел в сад дедушка Абдуррахман. Он одряхлел, согнулся, опирался на трость с набалдашником в виде львиной головки. Он медленно заковылял к беседке. Я не знал, что предпринять. Дед вошел в беседку, присел на скамью. Посидел немного. Потом выпрямил спину и чуть подался вперед. Я затаил дыхание.
– Чами, это ты? – тихо позвал дед.
Голос его не был угрожающим, даже наоборот, затаенная радость слышалась в этом голосе. Прятаться дальше, пожалуй, было глупо.
– Я… это я! – с этими словами я тихо выбрался из кустов позади беседки. – Как вы меня углядели, дедушка?
– Так хорошо ты прятался! – дед хмыкнул. – Старый воин Османа Гази еще на что-то годен! Вот тебя выследил!
Мы оба засмеялись.
– Рад я тебе, – сказал дед. – И зачем только госпожа Зейнаб отлучила тебя от дома!
– Она курица! – лукаво откликнулся я.
– А! Этот грешный монах, старый гяур отец Анастасиос! – дед широко, во весь рот ухмыльнулся.
– Как ваше здоровье, дедушка? – спросил я.
– Что говорить обо мне! – он замолк и вдруг прямо спросил. – Ты хочешь видеть Сельви?
– Хочу, – я почувствовал, что краснею предательски, – я ведь люблю ее, как любил бы родную сестру! – Это была правда!
Дед устремил на меня испытующий взгляд все еще черных глаз, они так мало выцвели от времени.
– Подожди здесь, – сказал он. – Я приведу ее.
Я остановился в затененном уголке беседки, чтобы кто-нибудь из домашних случайно не заметил меня. Сердце сильно билось. Я любил их обоих, и Сельви и Панайотиса, и чувствовал какую-то сладкую горечь, оттого что у них будет и даже уже есть то, чего, быть может, никогда не даст мне судьба – взаимная искренняя любовь!
Сельви шла рядом со своим отцом, бережно поддерживая его под руку. Я вспомнил, как в детстве увидел их в первый раз. Тогда и она была ребенком, чудесной девочкой. А теперь стала совсем взрослой, юной и цветущей, и что-то потаенное появилось, чувствовалось в ней. Они приблизились ко мне.
– Ну, вот он! – дед указал на меня набалдашником своей трости.
Мы с Сельви молчали, не могли говорить. Мысли мои мешались. Я не понимал – быть может, я все еще люблю ее, люблю не как сестру? Я машинально взглянул на трость деда. Набалдашник представлял собой голову крылатого льва – то есть гривастую голову и крылья.
– Очень красиво, – я указал на набалдашник.
Сельви посмотрела на меня своим прежним серьезным взглядом; мне показалось, что она благодарит меня за то, что я оттягиваю разговор. Если бы она знала, о чем я хочу сказать ей!
– Эту палку и еще другие подарки прислал мне мой старший сын из столицы, из Брусы! – похвастался дед. – Это поднес ему один лекарь из франкского города Венеции, этот лекарь решил обратиться в правую веру и служить султану!
Боже! Где-то там, за стенами этого сада, этого нашего маленького мира, люди жили честолюбивыми стремлениями, добивались почестей и славы, а здесь я пытался устроить счастье двух влюбленных. Здесь дышала пышная зелень листвы и розы благоухали нежно и сильно.
Дед опустился на скамью. Сельви помогала ему, поддерживая его за локоть.
– Ступайте! – дед махнул на нас рукой. – Походите! Поговорите! В это время сюда никто не заглядывает.
Мы послушно, как маленькие дети отошли от беседки.
– Ты не сердишься на меня? – спросил я, когда мы вдоволь намолчались.
– Нет, – ответила Сельви своим прежним, глубоким и серьезным голосом, и добавила: – Теперь уже нет.
Я подумал, что «теперь» – это после того, как она увидела Панайотиса, полюбила его, познала другую любовь, не то детское чувство привязанности, которое мы питали друг к другу несколько лет тому назад.
– Я люблю тебя, как сестру, и хочу, чтобы ты об этом знала!
– Я знаю, – она склонила голову, я увидел нежную светлую ниточку пробора на шелковистых темно-каштановых волосах.
– Я хочу многое открыть тебе. Я буду с тобой откровенным и тебя прошу об откровенности. Слушай меня спокойно и ничего не бойся! Скажи мне правду, ты помнишь ту поездку за город, когда вы разбили шатер? Помнишь?
Поколебавшись миг, она снова склонила голову.
– И монастырь помнишь, ведь помнишь?
Новый кивок.
– И юношу с флейтой? Ведь ты его помнишь?
Панайотис не говорил мне, был ли он тогда с флейтой, но мне почему-то казалось, что был.
Она снова кивнула и стояла, не поднимая головы.
– Не тревожься, Сельви, – ласково сказал я. – Этот юноша – мой друг! Он любит тебя! Ты хотела бы увидеть его и говорить с ним?
– О Чамил! – она снова прижала ладони к груди.
– Жди нас здесь через два дня!
– Так долго! – невольно воскликнула она.
Я не мог не улыбнуться. Я уже снисходительно, как взрослый, относился к любовной горячности этой юной девушки.
– Да, через два дня. Они быстро пролетят. Ты не побоишься выйти в полночь и открыть вон ту дверцу? Сумеешь? Тебе не будет страшно?
– Нет, нет! Страшно? Мне будет радостно!
– Тогда так и сделай. И жди нас.
Мы вернулись к деду.
– Что? Наговорились? – спросил он. – А Сельви повеселела. Приходи еще, Чамил! Жаль, что я не могу оставить тебя обедать. Но, увы, приходится считаться кое с кем! – он зажмурил один глаз и подмигнул нам. Мы с Сельви весело рассмеялись.
Правду говоря, я немного тревожился. Вдруг Сельви испугается ночью в саду? Вдруг увидит свой призрак музыканта? И от потрясения болезнь вернется с новой силой. Я вспомнил, как Панайотис мне рассказал об этих странных расспросах о Сельви и ее семье. И где? В доме продажной женщины! А вдруг и в самом деле какой-нибудь развратник собирается похитить Сельви? Ночью она выйдет в сад совсем одна, откроет дверь, ведущую на улицу!.. Но все же я решил, что бояться нечего. Мы с Панайотисом придем раньше полуночи и будем ждать у двери. Только и всего!
Семь дней завершились. После занятий в монастыре мы с Панайотисом вышли в лес.
– Семь дней прошли, – сказал мой друг.
– Что ты решил?
– Я хочу увидеть ее!
Я и не ожидал иного ответа.
– Что ж, тогда… – и я рассказал ему мой простой уговор с Сельви. – Она будет ждать нас!
Он схватил меня за руку, горячо пожал, и вдруг повернулся и помчался обратно в монастырь. Я не стал дожидаться его возвращения. Я понял, что ему надо побыть в одиночестве.
В назначенную ночь мы подошли к дверце. На этот раз, конечно, Панайотис не отпрашивался у отца Анастасиоса. Мы немного подождали. Было еще рано. Затем я все же осторожно налег на дверцу плечом. Она была открыта! Страшные домыслы полезли мне в голову и, должно быть, отразились в испуганном выражении моего лица.
– Что-то не так? Что-то случилось? – Панайотис тоже встревожился.
– Нет. Все как уговорено. Только дверь отворена немного раньше, чем надо было. Войдем.
Мы вошли в сад. «Неужели случилось несчастье? – думал я. – Неужели Сельви похищена? По моей вине! Что делать?»
«Прежде всего – не бить тревогу раньше времени!» – откликнулся внутренний голос.
Мы медленно шли по дорожке ухоженного сада. И вскоре – что за радость! – увидели Сельви. Она стояла возле беседки, у розового благоухающего куста. Значит, это она в нетерпении открыла дверь раньше времени и выглядывала на улицу, забыв всякий страх! Быть может, любовь излечит ее от ее недуга? Как мне хотелось этого!
Мы приблизились к Сельви. Она стояла, прижав ладони к груди. Должно быть, от волнения у нее учащенно билось сердце.
– Это мой друг Панайотис, – сказал я. – Он хочет говорить с тобой, Сельви…
При свете луны я видел, что оба они принарядились, а Панайотис даже надушился розовой водой. Они стояли друг против друга, два темных силуэта на смутном фоне лунной ночи, и уже, казалось, готовы были протянуть руки навстречу друг другу.
– Но… – я все же нашел в себе силы говорить дальше. – Не сердитесь на меня, но я не могу вам позволить говорить наедине! Сельви – дочь моего деда, родная сестра моей матери. Я должен беречь Сельви хотя бы ради них. Но я берегу ее и ради нее самой.
Влюбленные слушали, обернувшись ко мне, лица их смутно белели в светлой темноте лунной ночи. Они молча склонили головы в знак покорности. И снова мне почудилось, что я намного старше их.
Я отошел и стоял немного в стороне.
Они стояли друг против друга.
– Вы узнали меня? – тихо спросил Панайотис.
– Да, – прозвучал ее тихий серьезный ответ.
Молчание. Затем Панайотис спросил:
– Видели ли вы когда-нибудь иконы?
– Я видела.
– Я изобразил вас на иконе и сделал с нее несколько копий. Одну продал, другие отдал людям, не взяв денег, потому что грех мне торговать вашим изображением. Теперь люди молятся на вас.
– Я не достойна этого, – голос ее звучал по-прежнему тихо и серьезно, надрывая мне сердце своей беззащитностью.
– Вы – любимы!
Тишина.
Они молча стояли друг против друга. Затем обернули ко мне молящие кроткие лица.
Я кивнул.
Они подошли к скамье в беседке. Шли, смиренно опустив руки, и словно бы тянулись друг к другу пальцами опущенных рук.
Сели на скамью, рядом, не касаясь друг друга. Молча смотрели друг на друга, повернув друг к другу светлые лица. Я стоял поодаль, тоже молча. Воздух начал светлеть. Близился рассвет.
– Пора, – я тихо подошел к ним.
Они подняли на меня глаза.
Я чувствовал себя жестоким, но я должен был это сказать.
– Я надеюсь на вашу честность, – сказал я. – Я знаю, что вы не будете видеться наедине, не обманете меня. Но если хотите, вы увидитесь уже завтра в такое же время. При мне, как сегодня.
Они склонили счастливые лица.
Когда мы с Панайотисом шли по глухому переулку, мой друг все еще не произносил ни слова, лишь изредка брал меня за руку и признательно пожимал. Я чувствовал, что ему радостно касаться моей руки, потому что я родственник Сельви.
Теперь они виделись почти каждую ночь. Панайотис показал Сельви ее изображение на иконе, приносил и другие иконы своей работы. Они говорили мало. И спрашивали друг о друге такое, что мне никогда не было нужно. Например, Сельви спросила, как называла Панайота в детстве его мать. Оказалось – Панко. Сельви тоже теперь иногда звала его так.
Я получал огромное наслаждение, наблюдая их любовь, слушая простые, но исполненные глубины слова и фразы, произносимые ими. Иной раз я спрашивал себя, не кроется ли в этом моем наслаждении некая извращенность. Но, подумав, отвергал такое предположение. Я был уверен, что они не пытаются видеться без меня. И я действительно не мог позволить никакому мужчине, даже моему другу, а тем паче гяуру, видеться наедине с моей родственницей. Это значило бы запятнать позором нашу семью.
Наконец Панайотис спросил меня прямо, могу ли я содействовать его браку с Сельви.







