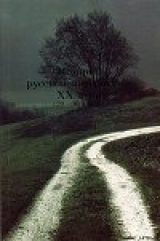
Текст книги "История русской литературы XX века (20–90–е годы). Основные имена."
Автор книги: С. Кормилов
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 40 страниц)
В толпе участвовавших 2 июня 1960 г. в похоронах Б.Л. Пастернака чей – то «голос негромко сказал:
– Вот и умер последний великий русский поэт.
– Нет, еще один остался.
Я ждала, холодея, не оборачиваясь, – записывает Л.К. Чуковская.
– Анна Ахматова».
А в 1966 г. Н.А. Струве откликнулся на смерть Ахматовой так: «Не только «умолк неповторимый голос», до последних дней вносивший в мир… тайную силу гармонии, с ним завершила свой круг и вся неповторимая русская культура, просуществовав от первых песен Пушкина до последних песен Ахматовой ровно полтораста лет».
Подобной оценки впоследствии, тридцать лет спустя, удостоится лишь один поэт, в молодости поддержанный и благословленный Ахматовой, – И.А. Бродский.
В.В. Набоков
Владимир Владимирович Набоков (10/22.IV. 1899, Петербург – 2.VII.1977, Монтре, Швейцария) оставил Россию в 1919 г., совсем еще молодым человеком. Для семьи будущего писателя, принадлежащей к древнему дворянскому роду и высшему петербургскому обществу, представлявшей цвет русской аристократии, жизнь в большевистской России была просто невозможна. Его отец Владимир Дмитриевич, юрист по образованию, человек, занимавший важные государственные посты, либерал по политическим убеждениям, даже прослывший «красным» среди особых консерваторов, один из лидеров конституционно – демократической партии, погиб уже позже, в эмиграции, в 1922 г., заслонив собой лидера кадетов Милюкова от пули убийцы, тоже русского эмигранта, монархиста. Отец на всю жизнь остался для Набокова идеалом – воплощением всех лучших черт, вообще мыслимых в человеческой личности. Он был единственным из всех живших или живущих, о котором писатель отзывался без иронии или снисхождения.
Эмиграция, вероятно, не была для Набокова такой страшной трагедией, как для большинства русских, – сказалось его космополитическое воспитание, европейское образование, свободное владение несколькими языками – и отсутствие глубокой внутренней связи с родиной, которую несли в себе старшие писатели – эмигранты – Бунин, Шмелев, Зайцев – или же ровесники, как Г. Газданов. Благодаря англоманству Владимира Дмитриевича английский Набоков знал как свой родной язык. Он вспоминал, как отец с ужасом выяснил однажды, что его маленький сын не знает некоторых русских слов, но свободно обходится их английским эквивалентом, – тут же была нанята русская гувернантка, обучавшая русского мальчика, живущего в России, русскому языку!
Сразу после эмиграции Набоков учился в Кембридже, штудировал французскую литературу и энтомологию – увлечение бабочками, доставшееся от отца, прошло через всю жизнь и переросло в серьезную научную деятельность.
В 1922 г. Набоков переезжает в Берлин, где пишет и переводит. В 20–е годы в берлинской газете «Руль» помещаются его стихотворения, а в 1923 и 1930 годах выходят сборники стихов. В 1937 г. Набоков эмигрирует вторично – на сей раз из гитлеровской Германии – в Париж. К этому времени он уже хорошо известен как романист, автор романов «Машенька» (1926), «Король, дама, валет» (1928), «Защита Лужина» (1929–1930), «Камера обскура» (1932–1933), «Соглядатай» (1930), «Подвиг» (1932), «Отчаяние» (1934), «Приглашение на казнь» (1935&nbso; – 1937). «Дар» (1937–1938) и сборника рассказов «Возвращение Чорба» (1930). С Парижем у писателя были давние литературные связи: все его романы с 1929 г. публиковались в одном из самых заметных журналов русской эмиграции – «Современных записках». Но литературная деятельность не давала возможности содержать себя и семью – жену с сыном, поэтому Набоков занимается переводами, дает уроки языков и тенниса. Но и из Парижа он уезжает изгнанником после немецкой оккупации. Стечением обстоятельств этот год – 1940 – оказывается последним годом русского писателя Набокова. Покинув Европу и переселившись в США, он перестал писать по – русски, став писателем американским. Мужественный и сильный человек, Набоков вынужден жить случайными заработками, порой бедствовать, но он точно знает перспективу своего литературного пути. В Америке, как и многим писателям – эмигрантам первой волны, ему пришлось начинать все с начала. Он заводит знакомства в литературной среде Нью – Йорка – но не унижаясь и не заискивая, не идя ни на какие литературные компромиссы, твердо настаивая на своих эстетических и жизненных принципах. Мировая известность приходит к нему достаточно парадоксальным образом – с романом «Лолита» (1955), который был воспринят американскими гиперморалистами как порнографический. В 1957 г. выходит роман «Пнин», который рассказывает о злоключениях неустроенного и неуверенного в себе русского эмигранта профессора Пнина – ему Набоков как бы передает те качества характера, обусловленные жизнью в чужой среде, с которыми сам сумел прекрасно справиться – вероятно, не без основательной внутренней борьбы с собой. В 1948 г. он становится профессором Карнельского Университета, читает интереснейший цикл лекций по русской литературе, переводит на английский Гоголя, Лермонтова, Пушкина. К этому периоду относится его эссе «Николай Гоголь» (1944), предисловие к «Герою нашего времени» (1958).
В 1960 г. Набоков возвращается в Европу, на сей раз – в Швейцарию, где и проводит последние семнадцать лет своей жизни: пишет новые романы на английском – «Бледный огонь» (1962), «Ада, или Желание» (1969), «Посмотри на арлекинов!» (1974) – и переводит с русского на английский свои прежние произведения. К швейцарскому периоду относится и знаменитый прозаический перевод с обширными комментариями «Евгения Онегина»(1964).
Ключом к удивительному и во многом уникальному для русской литературы дару Владимира Набокова оказывается его псевдоним, под которым он выступал до 1940 г., последнего для его русской прозы, – Владимир Сирин. В средневековой мифологии сирин – райская птица – дева с женской головкой и грудью. В русских духовных стихах птица сирин, спускаясь на землю, зачаровывает людей своим чудесным пением – поистине райским, неземным. В западноевропейских легендах сирин воплощает несчастную, не нашедшую приюта душу. Неземная красота, чудесная гармония звуков, внутренняя трагичность – вот что стояло за этим претенциозным псевдонимом молодого писателя. В этой претензии, безусловно, обоснованной, проявлялась жизненная и творческая позиция Набокова, реализовавшаяся в его литературном поведении.
Эта позиция шла вразрез с незыблемыми, казалось бы, принципами, утвержденными гуманистическим пафосом русской литературной традиции. Весь литературный опыт предшествующего столетия утверждал жалость к «маленькому человеку», открытому Пушкиным в «Станционном смотрителе», сострадание «униженным и оскорбленным» Достоевского – Набоков не видит в литературе места жалости и состраданию. Русский XIX век утверждал любовь как величайшую общечеловеческую ценность – в романах Набокова нет любви, но лишь жалкая пародия на нее. Трагедия «лишнего человека» – от Онегина до Обломова – объяснялась невозможностью для мыслящей личности общественного служения в условиях скверной действительности – для Набокова сама мысль об общественном служении или социальном пафосе литературы кажется кощунственной и недостойной искусства и художника. Чехов объясняет трагедию Ионыча тем, что жизнь прошла мимо, не затронув и не взволновав, – для Набокова здесь не может быть трагедии, ибо куда важнее внутренняя жизнь личности и субъективное ощущение счастья и состоявшейся жизни. Стоит ли говорить о неприятии Набоковым и его героем любого суда, будь то суд «общественности», стоящей справа или слева от художника, или же суд собственной совести героя, находящегося чаще всего вообще вне нравственного закона, как в «Лолите» или «Камере обскура».
Эта позиция была столь нова для русского художника, что прозу Сирина сразу же встретил хор недоуменных голосов эмигрантской критики. Первым и наиболее очевидным способом объяснить эти странности писателя было объявить его «нерусским». Эту примитивную ошибку сделал, в частности, Георгий Иванов в журнале «Числа», заявив, что в романе «Король, дама, валет» «старательно скопирован средний немецкий образец», в «Защите Лужина» – французский, что оригиналы хороши, и копия, право, не дурна, и что суть писательской техники Сирина составляет счастливо найденная идея перелицовывать на удивление соотечественникам наилучшие заграничные образцы. С этим были согласны почти все. М. Цетлин, размышляя о первых романах Набокова, говорил, что они «настолько вне большого русла русской литературы, так чужды русских литературных влияний, что критики невольно ищут влияний иностранных». Это было наиболее простое псевдорешение того неразрешимого, казалось бы, уравнения, которое составила в отношении к Набокову Зинаида Гиппиус, назвав его талантом, которому нечего сказать. Талант – и пустота… Так она сформулировала противоречие сирийского творчества, ощущаемое почти всеми современниками, писавшими о нем. Очень точно это противоречие определил В. Варшавский, размышляя о «Подвиге» и находя там «утомительное изобилие физиологической жизненности… Все чрезвычайно сочно и красочно и как – то жирно. Но за этим разлившимся вдоль и вширь половодьем – пустота, не бездна, а пустота, плоская пустота, как мель, страшная именно отсутствием глубины».
Талантливо – бесцельно. Красочно, сочно – и пусто. Великолепная демонстрация писательской техники – и отсутствие нравственного закона. Красиво – но зачем? «Замечательный писатель, оригинальнейшее явление», «талант подлинный, несомненный, абсолютно – очевидный», «исключительный, несомненный талант»(все эти эпитеты принадлежат Г. Адамовичу) – и полное отсутствие привычного гуманистического пафоса любви к людям: «У него отсутствует, в частности, столь характерная для русской литературы любовь к человеку», – сетовал Г. Струве. «Душно, странно и холодно в прозе Сирина», – вторил ему Г. Адамович. «Людям Сирина недостает души… Мертвый мир…» – добавлял он же по поводу романа «Отчаяние». «Чувство внутреннего измерения, внутренний мир человека и мира лежат вне восприятия Сирина, – присоединялся к этому единодушному хору Ю. Терапиано, анализируя «Камеру обскура». – Волшебство, увлекательное, блестящее – но не магия… Пусто становится от внутренней опустошенности – нет, не героев, самого автора».
Если и видели современники Сирина позитивную сторону его творений, то только с внешней, формальной стороны. Наиболее показательной здесь является вполне доброжелательная статья В. Ходасевича, где он использовал метафору, ставшую потом расхожей, сравнив писателя с фокусником, «который, поразив зрителя, тут же показывает лабораторию своих чудес. Тут, мне кажется, – пишет Ходасевич, – ключ ко всему Сирину. Его произведения населены не только действующими лицами, но и бесчисленным множеством приемов, которые, точно эльфы или гномы, снуя между персонажами, производят огромную работу: пилят, режут, приколачивают, малюют, на глазах у зрителя ставя и разбирая те декорации, в которых разыгрывается пьеса. Они строят мир произведения и сами оказываются его неустранимо важными персонажами. Сирин их потому не прячет, что одна из главных задач его – именно показать, как живут и работают приемы».
Своего рода заключающим ряд недоуменных констанций признанием в невозможности для современников и попутчиков по эмиграции разрешить это неразрешимое уравнение сирийского творчества стала глаза о нем в знаменитой монографии Глеба Струве «Русская литература в изгнании», вышедшей первым изданием в 1956 г, в Нью – Йорке: «Дальнейшее творчество Сирина показало, что выйти на путь человечности он был не в состоянии – для этого в нем должен был произойти какой – то коренной внутренний переворот… Всего яснее это становится при чтении его последнего произведения, написанного по – русски – автобиографии «Другие берега» (1954)… Здесь, как только Набоков пробует выйти в область человеческих чувств, он впадает в совершенно нестерпимую, несвойственную ему слащавую сентиментальность (напоминающую, правда, некоторые ранние его стихи). Кроме того, здесь, в рассказе о невыдуманной, действительной жизни на фоне трагического периода русской истории с полной силой сказался феноменальный эгоцентризм Набокова, временами граничащий с дурным вкусом».
Для того чтобы решительно, во всеуслышанье и сразу заявить в своем творчестве такую позицию, идущую вразрез с общепринятыми представлениями о высокой и трагической миссии русской литературы, не испугавшись суда литературной эмиграции, воспитанной на тех же демократических идеалах XIX века, что сказались и в советской литературе (а среди этих традиций – нетерпимость в отношении не только иной общественно – политической позиции, но и эстетических взглядов), нужно было обладать и мужеством, и чувством глубочайшей внутренней независимости и самодостаточности – ив частной, и в литературной жизни. Набоков, думается, обладал ими: черты личности обусловили характер творческого дара и особенности его художественного мира.
Глубинной чертой его мироощущения было неприятие любого соседства – как чисто бытового, так и литературного (ставшее следствием совершенно искреннего презрения ко всем жившим и живущим – единственным исключением, повторимся, был его отец). Поэтому одиночество мыслилось им как совершенно естественное и единственно возможное состояние – просто по невозможности существования кого – то равного в жизни и литературе. Этой брезгливой нетерпимостью к соседу, к тому, кто в силу жизненных обстоятельств оказывается рядом, наделены те герои Набокова, которым он что – то доверяет от самого себя. Чувствует физическое отвращение Лев Глебович Ганин («Машенька»), когда застревает в лифте вместе с Алферовым, нащупывая, вынужденный пожать в темноте руку, которая тыкалась ему в обшлаг. Князь Годунов – Чедынцев из «Дара» страдает от вида тупого в своем типичном самодовольстве немца в трамвайном вагоне. Так же искренне и почти физически страдал Набоков, когда его имя оказывалось в каком – то литературном ряду – предшественников или современников. Он напрочь отрицал влияние кого – либо из предшественников на собственное творчество и терпеть не мог, когда его об этом спрашивали, а о том, что у него есть нечто общее с современниками, не могло быть и речи. Известно, что Набоков прекратил отношения с Глебом Струве, посвятившем ему главу в своей книге и поставившем ее в контекст глав, посвященных другим авторам русской эмиграции, – речь о соседстве не могла идти даже на книжной странице! Когда Солженицын, получая Нобелевскую премию, обратился к Набокову с письмом, в котором говорил о правомерности присуждения этой премии не ему. Солженицыну, а Набокову, тот на письмо не ответил, а в частных беседах, в частности, со своим биографом Эндрю Филдом, рассказывал об орфографических ошибках, допущенных автором письма.
Все эти черты личности Набокова имели значение лишь для людей, знавших писателя и общавшихся с ним. Разумеется, не дело читателя или критика истолковывать и давать оценку – положительную или отрицательную – этим чертам давно уже ушедшего человека и великого писателя. Но для нас важно, что эти черты личностного миросозерцания, основанного на исключительной самооценке, предопределили эстетику писателя, основные черты его художественного мира.
Отношение к человеку сказалось, в первую очередь, на концепции личности, предложенной Набоковым литературе.
Один из героев романа «Король, дама, валет», удачливый и талантливый предприниматель по фамилии Драйер, мимолетно увлечен созданием искусственных манекенов, способных, однако, двигаться почти как живые люди. «В тишине был слышен мягкий шелестящий шаг механических фигур. Один за другим прошли: мужчина в смокинге, юноша в белых штанах, делец с портфелем под мышкой, – и потом снова в том же порядке. И вдруг Драйеру стало скучно. Очарование испарилось. Эти электрические лунатики двигались слишком однообразно, и что – то неприятное было в их лицах, – сосредоточенное и притворное выражение, которое он видел уже много раз. Конечно, гибкость их была нечто новое, конечно, они были изящно и мягко сработаны, – и все – таки от них теперь веяло вялой скукой. – особенно юноша в штанах был невыносим. И, словно почувствовав, что холодный зритель зевает, фигуры приуныли, двигаясь не так ладно, одна из них – в смокинге – смущенно замедлила шаг, устали и две другие, их движения становились все тише, все дремотнее. Две, падая от усталости, успели уйти и остановились уже за кулисами, но делец в сером замер посреди сцены, – хотя долго еще дрыгал плечом и ляжкой, как будто прилип к полу и пытался оторвать подошвы. Потом он затих совсем. Изнеможение. Молчание».
Этот малозначительный, казалось бы, эпизод очень показателен. Главной чертой набоковского романа является отсутствие характера в традиционном – реалистическом – смысле этого слова. Перед нами не столько характер, сколько манекен, кукла, своего рода автомат, литературным провозвестником которого был Э. – Т. – А. Гофман. Главным и единственным характером в таком романе оказывается характер самого автора, герои же – в явно подчиненном положении, они мыслятся не как самостоятельные образы, наделенные собственной волей, неповторимой индивидуальностью, но как исполнители воли авторской, даже самой причудливой и нереальной. В результате персонажи являют собой не столько характер, сколько эмблему, реалистический критерий их оценки просто неприемлем.
Набоков очень редко давал интервью, но несколько исключений он все же сделал. Одно из них – интервью, данное своему университетскому ученику Альфреду Аппелю в 1966 г. Понимая невозможность подойти к героям писателя с традиционных реалистических позиций, ученик задает своему учителю наивный и в то же время каверзный вопрос:
«– Писатели нередко говорят, что их герои ими завладевают и в некотором смысле начинают диктовать им развитие событий. Случалось ли с Вами подобное?»
Набоков не заставил себя ждать в опровержении этой удивительной черты реалистической эстетики, когда герой как бы оживает под авторским пером, начинает действовать как бы самостоятельно, эмансипируясь от авторской воли:
«– Никогда в жизни. Вот уж нелепость! Писатели, с которыми происходит такое, – это или писатели очень второстепенные, или вообще душевнобольные. Нет, замысел романа прочно держится в моем сознании, и каждый герой идет по тому пути, который я для него придумал. В этом приватном мире я совершеннейший диктатор, и за его истинность и прочность отвечаю я один».
В самом деле, у Набокова начисто отсутствует доверие к герою и уважение его суверенитета, характеризующее реалистический роман. Его герои лишены самых, казалось бы, естественных человеческих эмоций, а если и наделены ими, то в пародийной форме. Это заметили еще первые критики его творчества: «Лолита», например, роман о любви, но любви – то там как раз и нет – есть болезненная, скорее, физиологическая и психопатическая страсть Гумберта Гумберта, взрослого мужчины, к двенадцатилетней «нимфетке», девочке – подростку, но никак не духовное парение. В ситуации любви набоковские герои чаще всего выглядят наивными, потерянными, смешными, как гроссмейстер Лужин, жена которого застает его мирно спящим в первую брачную ночь, как Гумберт Гумберт, брошенный – таки своей нимфеткой Лолитой, а женское начало связано с изменой и предательством (Марфинька из «Приглашения на казнь», Магда, героиня романа «Камера обскура», жена главного героя в романе «Отчаяние», оставшегося, правда, совершенно равнодушным к ее измене).
Это, думается, обусловлено одним из самых парадоксальных качеств Набокова: его художественный мир основан на отрицании женского начала. Страсть Гумберта Гумберта к Лолите обусловлена как раз тем, что в ней нет пока еще ничего женского. Оно появляется лишь в конце романа, у уже повзрослевшей и утратившей свое обаяние Лолиты.
Откуда у абсолютно здорового и счастливого в семейной жизни человека, пронесшего через все года изгнания тепло и свет родительской любви и нежности, которыми судьба наделила его с избытком в детстве и юности, откуда у любящего и верного мужа, прекрасного отца – такое странное отношение к женщине и любви? Поиски ответа на этот вопрос давали возможность психоаналитической школе в литературоведении развивать в отношении Набокова разнообразные вариации сюжета об изживании благоприобретенных комплексов в своих творениях. Набоков терпеть не мог подобных фрейдистских подходов, яростно издеваясь над ними. В статье «Что всякий должен знать?», построенной как пародия на фрейдистский взгляд на мир, он иронизирует как раз над такими горе – филологами: «Филологи подтвердят, что выражения: барометр падает, падший лист, падшая лошадь – все намеки (подсознательные) на падшую женщину. Сравните также трактирного полового или половую тряпку с половым вопросом. Сюда же относятся слова: полгода, пол – сажени, пол – ковник и т. д. Немало есть и имен, проникнутых эротизмом: Шура, Мура, Люба (от «любви»). Женя (от «жены»), а у испанцев есть даже имя «Жуан» (от «Дон – Жуана»)».
И, конечно, Набоков был прав, выступая против столь примитивного толкования творчества (да и вообще человеческого сознания), с обычной для него резкостью называя Фрейда «комической фигурой» или же «венским шарлатаном», который трясется «в третьем классе науки через тоталитарное государство полового мифа» («Другие берега»). Ключ к специфике набоковского художественного мира нужно искать не в изживании через художественное творчество неких комплексов, а в творческой (и вполне осознанной) позиции самого автора.
Одна из традиций русской литературы – идеализация любви, восприятие ее как величайшей нравственной ценности, способной обогатить личность. Проверку любовью проходят все герои Тургенева, она стала важнейшим испытанием «лишнего человека» – от Онегина до Ильи Ильича Обломова. Их неудача в любви была способом мотивировать их жизненную несостоятельность, в неудачной любви виделись истоки неудачи жизненной.
Можно ли объяснить разрывом с традицией то, что герой Набокова просто не знает, что такое любовь? Пафос индивидуализма, страх отдать хоть каплю собственной индивидуальности другому человеку, страх поставить себя под его суд или, что страшнее всего, пойти на подчинение себя предмету своей любви заставляет Набокова и его героя вообще забыть о любви. Почему?
Прежде всего потому, что любовь всегда таит в себе предательство, и человек, способный отдаться этому чувству, – погибший человек.
В основе набоковского сюжета очень часто лежит любовный треугольник. Нередко коллизия нарочито снижена: герой, как всегда русский эмигрант, живущий в Германии, возвращается из командировки и застает у жены любовника (рассказ «Подлец»). Бедный Антон Петрович, который «был коротконог, кругловат и носил монокль», пораженный изменой, вызывает Берга, своего бывшего компаньона, на дуэль, вряд ли в тот момент осознавая свою «недуэлеспособность», как говорил сам Набоков: «Был Берг плечист, строен, чисто выбрит, и сам про себя говорил, что похож на мускулистого ангела». Однажды он показал Антону Петровичу старую черную записную книжку «времен Деникина и покоренья Крыма», страницы которой были сплошь покрыты крестиками, и таких крестиков было ровным счетом пятьсот двадцать три: «Я считал, сказал он, – конечно, только тех, которых бил наповал». Так что силы дуэлянтов явно неравны, и Набоков с удовольствием показывает позорнейшее бегство Антона Петровича. Благородная драма обманутого мужа сведена к фарсу: секундант, «длиннолицый человек в высоком воротнике, похожий на черную таксу», носит фамилию Гнушке; Антон Петрович не умеет стрелять и пытается тренироваться на пресс – папье; утром перед дуэлью пудрит лицо, пользуясь косметикой изгнанной жены, чтобы скрыть мертвенную бледность, – ив конце концов позорно убегает, так и не дойдя до места «побоища». Холодный смех обращает автор на своего героя, называя его в заглавии рассказа подлецом и не наделяя его ни каплей сочувствия или хотя бы сострадания, которого он все же, быть может, достоин.
Любовь для героя набоковского эпоса – всегда проклятье и жизненная катастрофа. История Кречмара («Камера обскура»), богатого немецкого бюргера, близящегося к концу своего четвертого десятка, и Магды Петере, шестнадцатилетней девушки, тоже приводит к любовному треугольнику, третьей гранью которого оказывается художник – карикатурист Роберт Горн. Для образа Кречмара, убитого в конце романа своей любовницей Магдой, Набоков находит страшную метафору – лейтмотив: внезапно вспыхнувшая любовь – страсть настигает его в небольшом зале кинематографа, куда он входит посреди сеанса, прямо во тьму зрительного зала. Ослепшего от внезапной тьмы, его встречает девушка с электрическим фонариком в руке, проводящая на свободные места случайных посетителей, – красивая и бездушная Магда, воплощение его будущей страшной судьбы. Роман с Магдой, который Кречмар неумело пытается завязать, выводит ее из тьмы кинематографического зальчика, из тьмы камеры обскура, но погружает самого Кречмара в вечную тьму. Нравственное ослепление от безумной страсти к шестнадцатилетней девчонке оборачивается уходом из дома, разрывом с женой и дочерью, с близким кругом родных, отзывается настоящей, физической слепотой. Потрясенный изменой любовницы, он разбивается в автомобиле, и результатом этой аварии становится шрам на лице и абсолютная потеря зрения. Тьма кинематографа, куда он вступил и где нашел любовную страсть, оборачивается тьмой духовного ослепления и трагической физической слепотой. Магда и Горн, лишенные какого бы то ни было нравственного чувства, обманывая уже слепого Кречмара, бездумно проматывая его состояние, живут в снятом загородном особняке втроем, пользуясь беспомощностью слепца, который может лишь подозревать присутствие третьего. Любовь – тьма, безысходность, пропасть, погружающая человека в камеру обскура. Женщина может возбудить лишь страсть, оборачивающуюся в итоге тьмой и небытием.
Эта вывернутость и искалеченность любви у героев Набокова обусловлена очень странной чертой его писательского мира, основанного на активном неприятии женского начала – от того его варианта, который показан в «Лолите», до комически сниженного образа развратницы Марфиньки в «Приглашении на казнь», радостно сообщающей Цинциннату Ц. о своих изменах, и пустой и самодовольной невесты Лужина, даже и не подозревавшей о той странной игре с жизнью, которую ведет по законам шахмат ее муж («Защита Лужина»). Даже в «Даре», где любовь Годунова – Чердынцева к Зине освещена человеческим светом и основана на взаимной и безусловной поддерже, Набоков не может не улыбаться. Роман заканчивает отъездом родителей Зины, комнату в квартире которых снимает Федор Константинович, – герои, наконец, могут оказаться наедине. Но увы, вход в дом, который теперь станет их общим домом, для них закрыт: обе связки ключей по рассеянности Зининых родителей и самого Федора Константиновича остались в передней и в ящике письменного стола. Писатель оставит своих счастливых героев за несколько шагов до подъезда, когда волей – неволей они выяснят, что надежда на ключ, лежащий в милой дамской сумочке или в кармане пиджака, увы, эфемерна, «С колен поднимается Евгений, но удаляется поэт» – Набоков тоже оставляет своего героя в минуту не то чтобы злую, но весьма досадную для него.
Впрочем, это самая милая шутка, которую сыграл Набоков с влюбленными из своих романов.
В отношении Набокова к своим героям сказались как раз те черты характера самого автора, о которых мы говорили: индивидуализм, возведенный в жизненный принцип, желанное творческое и личное одиночество, неприятие соседства в любых его формах, недоверие к простым и естественным человеческим чувствам. Подобная совершенно новая для русской литературы этическая система, утверждаемая писателем, основанная на принципиальном индивидуализме и пафосе общественного неслужения, вела к разрыву с традицией и в сфере эстетической: Набоков отказался от реализма и пришел к модернистской эстетике. В результате в его творчестве происходит разрушение реалистического характера, что обусловлено иными, чем в реализме, принципами типизации.
Довольно долго бытовало мнение, что в отличие от героя реалистического романа, сознание которого сформировано типическими обстоятельствами окружающего бытия, герой модернистской литературы не мотивирован ничем. Разумеется, это не так. Герой модернистского романа тоже детерминирован, но эти мотивации – совсем иной, нереалистической природы. В чем же их суть, каковы они?
Если мы с этой точки зрения посмотрим на роман Набокова «Приглашение на казнь», то увидим, что все драмы главного героя Цинцинната Ц. происходят от его непрозрачности. В мире, где живет Цинциннат, прозрачны все, кроме него. «С ранних лет, чудом смекнув опасность, Цинциннат бдительно изощрялся в том, чтобы скрыть некоторую свою особость. Чужих лучей не пропуская, а потому, в состоянии покоя, производя диковинное впечатление одинокого темного препятствия в этом мире прозрачных друг для дружки душ, он научился все – таки притворяться сквозистым, для чего прибегал к сложной системе как бы оптических обманов…». Что означает эта странная и скрываемая к тому же от других «непрозрачность» героя? Некая метафора, объясняющая трагедию человека, лишенного в тоталитарном обществе права «непрозрачности», права внутренней жизни, сокрытого индивидуального бытия? Именно такую трактовку пытался навязать Набокову его интервьюер А. Аппель.
«– Есть ли у Вас, – спрашивает он у Набокова, – какое – либо мнение о русской, если к ней приложимо такое определение, антиутопической традиции, начиная с «Последнего самоубийства» и «Города без имени» в «Русских ночах» Одоевского и до брюсовской «Республики Южного Креста» и «Мы» Замятина, – ограничусь лишь несколькими примерами?
– Мне эти вещи неинтересны.
– Справедливо ли сказать, что «Приглашение на казнь» и «Под знаком незаконнорожденных» – это своего рода пародийные антиутопии с переставленными идеологическими акцентами – тоталитарное государство здесь становится предельной и фантастической метафорой несвободы сознания – и что тема обоих романов – именно такая несвобода, а не политическая?
– Может быть, это так».
Возможно, и так, повторим мы вслед за Набоковым, нехотя уступающим интервьюеру и уставшим твердить о своем нежелании превращать литературу в арену политической борьбы. Но лишь такой трактовкой нельзя объяснить главную сюжетообразующую метафору романа – метафору непрозрачности, приведшей героя к тюрьме и страшному приглашению на казнь. Метафора модернистского романа в принципе неисчерпаема, несводима к однозначному, эмблематичному толкованию. И пусть Цинциннат Ц. не настоящий (в традиционном, реалистическом смысле) характер. Ему не присуща противоречивость героя реалистической литературы, его мотивации лежат вовсе не в сфере социально – исторического процесса, трагические разломы которого пришлись на судьбу поколения, к которому принадлежал и сам Набоков. Но будучи определен всего лишь единственной своей чертой – непрозрачностью в прозрачном, проникнутом солнцем светлом мире, – Цинциннат не менее сложен, чем герои реалистической литературы. Пусть его движения похожи на поступь тех самых манекенов, от которых устал Драйер, но понять и определить его суть раз и навсегда, однозначно – в принципе невозможно. Просто сложность его совсем иная и состоит в другом.








