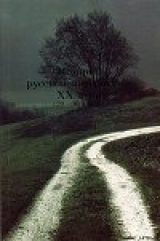
Текст книги "История русской литературы XX века (20–90–е годы). Основные имена."
Автор книги: С. Кормилов
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 40 страниц)
Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.
Магдалина – единственное имя, фигурирующее в «Реквиеме»: его содержание, столь личностно значимое, вместо с тем предельно обобщено. Это и цикл лирических стихотворений, и единое произведение – поэма эпического масштаба. Устами героини «кричит стомильонный народ». Прежде чем она начинает уступать безумию, «обезумев от муки, / Шли уже осужденных полки». Свое, личное составляет основу центральной части, десяти пронумерованных стихотворений, общее же больше представлено в обширном обрамлении (эпиграф, «Вместо предисловия», «Посвящение», «Вступление», двухчастный «Эпилог»), примерно равном по объему основной части, но именно здесь впервые у Ахматовой появляется державинско – пушкинская тема памятника, который может быть поставлен не многоликой лирической героине раннего творчества, а конкретному человеку с реальной биографией, личное горе которого в то же время символизирует громадное народное горе. Ахматова не только как мать (в «Распятии»), но и как поэт берет на себя роль богородицы – покровительницы страдающих: «Для них соткала я широкий покров / Из бедных, у них же подслушанных слов». Это не просто утешение – такое горе неутешно. Слово «реквием» в начале католического гимна (воспринятого Ахматовой, очевидно, через «Моцарта и Сальери» Пушкина с его противопоставлением гения и злодейства) означает просьбу вечного покоя. Ахматова же боится забыть происходящее – забыть «и в смерти блаженной», оттого и памятник ее необычен, это словно живой, плачущий памятник. В «Реквиеме» по – новому предстал важный для Ахматовой мотив греха, далеко не только греха отдельной личности. По ее мнению, как пишет исследовательница этого вопроса «историческим» грехом страны «были и сама революция 1917 г., и ее причины («Русский Трианон», «Петербург в 1919 году», «Царскосельская ода», «Мои молодые руки…» и т. д.), и следствия (гражданская лирика, «Реквием», «Решка», «Седьмая северная элегия» и др.). Расплата за совершенный грех революции, цареубийства и безбожия – сталинские репрессии; искупление – Великая Отечественная война, принесшая прощение народу за его неисчислимые бедствия.
Но с конца 30–х годов сказывается и другая концепция «исторического» греха… Уже в «Реквиеме» «безвинная Русь» противопоставляется кому – то, на ком лежит вина за страдания народа. Народ… пассивная жертва чьей – то злой воли. Народ, «мы», – безгрешны, а во всех бедах виноваты «они»… Такова логика не только «Реквиема», но и замысла первой редакции «Пролога» и таких стихотворений, как «И яростным вином блудодеянья…», «Так не зря мы вместе бедовали», «Защитники Сталина», «И клялись они Серпом и Молотом» и др.» Это не ортодоксально христианская, но психологически объяснимая и убедительная позиция. Те, кто губит людей, лишены человеческих черт, обезличины («Уводили тебя на рассвете», «отняли список», в сцене ареста упоминается только «верх шапки голубой»). Потом в стихах об Отечественной войне враг будет выступать таким же неперсонифицированным злом.
Наряду с торжественным высоким слогом в «Реквиеме» звучит просторечие, народные выражения: дважды упомянуты «черные маруси», женщина, готовая «под кремлевскими башнями выть», «кричит» семнадцать месяцев, при аресте предполагает увидеть «бледного от страха управдома» (советизм) – эта и другая конкретика соответствует не лирическому, а повествовательному, «поэмному» началу.
«Нам со свечой идти и выть», – писала Ахматова еще в 1935 г. в стихотворении «Зачем вы отравили воду…», которое потом с шестью другими вошло в параллельный «Реквиему» цикл «Из стихотворений 30–х годов» (причем три из них датированы 1940 и 1945 годами). «Немного географии» (1937) посвящено О. М., т. е. О.Э. Мандельштаму, с которым Ахматова солидаризируется как в творчестве, так и в судьбе: перечисляются отдаленные сибирские места, места ссылок и лагерей, словно виденные Ахматовой. Характерен запомнившийся ей с 30–х годов отрывок из уничтоженных стихов «…Оттого, что мы все пойдем / По Таганцевке, по Есенинке / Иль большим маяковским путем…» (профессор Таганцев считался главой «заговора», по обвинению в участии в котором был расстрелян Н.С. Гумилев). Ни эти стихи, ни «Реквием» Ахматова не увидела напечатанными на родине. Лишь в конце 1962 г. она решилась записать «Реквием», до того хранившийся в памяти автора и нескольких ближайших друзей. В 1963 г. без ведома автора он был напечатан в Мюнхене, а в СССР – только в 1987 г.
В 1939 г. дочь Сталина Светлана, прочитав некоторые старые ахматовские стихотворения, пробудила любопытство к ней своенравного вождя. Неожиданно Ахматову вновь стали печатать в журналах. Это тоже явилось причиной ее творческого подъема. Летом 1940 г. вышел ее сборник «Из шести книг». Шестая книга отдельно не выходила, но была подготовлена Ахматовой из новых стихов под названием «Тростник»; две трети из них в сборнике 1940 г. составили раздел «Ива» («И упало каменное слово…» без заглавия «Приговор» вошло в него из «Реквиема»). В нем не было внутреннего «лирического сюжета», как в первых пяти книгах, стихи 1924–1940 годов намеренно перемешивались. В стихотворении «Ива» (1940) героиня вспоминает любимое дерево, которое она пережила.
Там пень торчит, чужими голосами
Другие ивы что – то говорят,
Под нашими, под теми небесами.
И я молчу… Как будто умер брат.
На поэтическом языке Ахматовой «брат» – вовсе не обязательно кровный родственник (ср. стихотворение 1910 г. «Пришли и сказали: «Умер твой брат!«…», навеянное попытками Гумилева покончить с собой из – за нее). Ивы у Ахматовой принимают на себя роль «мыслящего тростника», принадлежащего большой поэтической традиции. Образ тростника, бывшего когда – то человеком, восходит к мифологии, встречается у Данте, немецких романтиков, Пушкина, Тютчева и др., это звучащая человеческая душа, голос умершего, говорящего с живыми, что «отчетливо корреспондирует с одним из ведущих мотивов зрелой лирики Анны Ахматовой: голосом поэта, пробивающимся сквозь толщу косной матери, сквозь лед забвения». В книге обозначилась ключевая для ахматовской историософии дата – 1913 г., канун мировой войны, породившей революцию и последующие потрясения. «Боевой сигнал» – это поэзия Маяковского («Маяковский в 1913 году», 1940). Но в сборник не могли войти «Стансы» («Стрелецкая луна. Замоскворечье… Ночь…», 1940), опубликованные только в 1989 г. Кремль времен Петра Первого (преображенца – жителя села Преображенского и преобразователя России) ассоциировался в них со сталинской цитаделью.
В Кремле не надо жить – Преображенец прав,
Там зверства древнего еще кишат микробы:
Бориса дикий страх и всех Иванов злобы,
И самозванца спесь взамен народных прав.
В книгу вошли «Данте» (1936), «Клеопатра» (1940), «Когда человек умирает…» (1940) и другие шедевры. И тематикой, и поэтикой они контрастировали с предвоенной советской литературой. Поначалу это не пугало. Впоследствии Ахматова писала: «На судьбу этой книги повлияло следующее обстоятельство: Шолохов выставил ее на Стал<инскую> премию (1940). Его поддержали А.Н. Толстой и Немирович – Данченко. Премию должен был получить Н. Асеев за поэму «Маяковский начинается». Пошли доносы и все, что полагается в таких случаях». Ахматова предполагала также, что сборник не сразу попался на глаза Сталину, а затем последствия не замедлили сказаться. Рептильная критика набросилась на сборник «Из шести книг». В год завершения «Реквиема» Ахматова должна была выдержать еще и это.
Потрясло ее и начало второй мировой войны. Цикл «В сороковом году» открывается словами «Когда погребают эпоху, / Надгробный псалом не звучит…» («Август 1940»). Захват немцами Парижа, бомбардировки Лондона («Двадцать четвертую драму Шекспира / Пишет время бесстрастной рукой» – стихотворение «Лондонцам») Ахматова восприняла как гибель родной ей европейской цивилизации. Еще раньше, в марте 1940 г., она обратилась к самым ранним истокам исторических потрясении. XX века. Поэма «Путем всея земли (Китежанка)» построена на обратном течении времени: от революции к первой мировой и русско – японской, а затем и англо – бурской войне 1899–1902 годов. «Меня, китежанку, / Позвали домой» – одни из первых слов поэмы, а заключительные – «В последнем жилище / Меня упокой». Это поэма о смерти, вечности и истории. Китежанкой Ахматову звал Н.А. Клюев. Она высоко ценила оперу Римского – Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». С девой Февронией отождествляется героиня ее стихотворения 1940 г. «Уложила сыночка кудрявого…», написанного народным складом. И в поэме «героиня, путешествуя из 1940 года к годам своей поэтической славы, крымской юности, детства, рождения, возвращается в свой «вечный» дом – легендарный град Китеж», чудесным образом спасенный от врагов.
Поэма оказалась пророческой. Отечественная война в некотором смысле выручила Ахматову, спасла на этот раз от остракизма. В печати стали появляться ее патриотические стихотворения: «Клятва», «Первый дальнобойный в Ленинграде» и др., «Мужество» 8 марта 1942 г. напечатала «Правда», главная газета страны, орган ЦК ВКП (б). Ахматовская героиня вновь заговорила непосредственно от лица всех, от лица народа, как женщина вообще, мать вообще: первый дальнобойный немецкий снаряд в Ленинграде «равнодушно гибель нес / Ребенку моему», словно о родном (и живом: «Постучись кулачком – я открою») пишет она в эвакуации, в Ташкенте о погибшем под бомбами маленьком сыне ее соседей по Фонтанному Дому («Памяти Вали», 1942), и даже старинная статуя в Летнем саду, заботливо укрываемая землей, для нее «доченька» («Nox. Статуя «Ночь» в Летнем саду», 1942). Цикл «Победа» из трех стихотворений Ахматова начала создавать уже в январе 1942 г. Ее военные стихи не противоречили ни массовым настроениям, ни советским канонам, но это было абсолютно органично. Впрочем, ташкентские впечатления в ту пору дали больше стихов (цикл «Луна в зените», стихотворения «Когда лежит луна ломтем чарджуйской дыни…», «Это рысьи глаза твои, Азия…» и др.).
В Ташкенте в 1942 г. Ахматова закончила первую редакцию «Поэмы без героя», начатую в ночь с 26 на 27 декабря 1940 г. Основная первая часть самого большого произведения Ахматовой называлась «Тысяча девятьсот тринадцатый год». Одиночество героини («Я зажгла заветные свечи / И вдвоем с ко мне не пришедшим / Сорок первый встречаю год») фантастическим образом сменяется нашествием «новогодних сорванцов» – карнавалом масок, теней кануна 1914 г. Перевернутые даты (14–41) двух мировых катастроф (хотя их соотнесенность обнаружилась постфактум) дают как бы зеркальное отражение, а с зеркалом связан мотив святочного гадания. Для Ахматовой образы зеркала и зазеркалья (потустороннего мира) – один из важнейших и самых частых. Так, в 1921 г., вспоминая после гибели Гумилева в Третьей «Северной элегии» о чем – то таинственном и страшном, жившем в их семейном доме, она писала: «…мы заполночь старались / Не видеть, что творится в Зазеркалье…» В «Поэме» ее не забыли «краснобаи и лжепророки» далеких лет. Мертвые, они приходят к героине, единственной живой среди них (как в «Новогодней балладе» 1923 г.), но мистика объясняется исторически: «Как в прошедшем грядущее зреет, / Так в грядущем прошлое тлеет – / Страшный праздник мертвой листвы».
Среди «сбивчивых слов» слышится «ясный голос: «Я к смертиготов!“» Это слова, которые в 1934 г. Ахматова слышала от Мандельштама, и вместе с тем слова героя трагедии Н. Гумилева «Гондла»: «Я вином благодати / Опьянился и к смерти готов, / Я монета, которой создатель / Покупает спасенье волков» (М.М. Кралин предполагает, что образ монеты мог подсказать название второй части «Поэмы без героя» – «Решка»). Только их троих, Гумилева, Мандельштама и себя, Анна Андреевна считала истинными акмеистами. Тоже заявлявшая в стихах не раз о готовности к смерти, теперь она пишет о неуничтожимости всего, что было (позже после слов «Я к смерти готов» и добавленной ремарки появятся слова: «Смерти нет – это всем известно, / Повторять это стало пресно…»). Ахматова приняла тот культуроцентризм, который в 1916 г. отмечался В.М. Жирмунским как отличительная особенность поэзии Мандельштама. Последующие доработки приведут к пронизанности «Поэмы» множеством явных и скрытых цитат и намеков на те или иные тексты, но уже в «ташкентской» редакции Ахматова писала: «Так и знай – обвинят в плагиате…» А в 1956 г. она афористически скажет в форме классического персидского рубаи:
Не повторяй – душа твоя богата – Того, что было сказано когда – то,
Но, может быть, поэзия сама – Одна великолепная цитата.
Зародыш сюжета первой части «Поэмы» – самоубийство гусарского (впоследствии драгунского) корнета из – за «Коломбины десятых годов», В ней узнается подруга Ахматовой актриса О.А. Глебова – Судейкина, в нем – служивший вольноопределяющимся в гусарском полку в Риге молодой поэт Вс. Князев, покончивший с собой в 1913 г. – вряд ли из – за Судейкиной, но Ахматова считала так. Для нее этот эпизод был полновесным проявлением гибельной эпохи, когда «серебряный месяц ярко / Над серебряным веком стыл» (характерный ахматовский оксюморон). Гусар тоже «к смерти готов». А героиня «Поэмы» не осуждает подругу, всю тяжесть воспоминаний принимает на себя как причастную к происходящему: «Не тебя, а себя казню», «Ты – один из моих двойников!..»
«Вторая часть поэмы – «Решка» – своего рода поэтическая апология Ахматовой», иронизирующей над редактором, который в первой части ничего не понял. Все должно проявиться: она «применила / Симпатические чернила» и пишет «зеркальным письмом». В Ташкенте создается третья часть – «Эпилог», где говорится об оставленном городе, который «побледнел, помертвел, затих». Героиня ощущает себя по – прежнему там, в любимом городе, помимо прочего – «на старом Волковом поле, / Где могу я плакать на воле / В чаще новых твоих крестов» (впоследствии – «Над безмолвием братских могил»); очевидно, именно Волкове кладбище вспомнилось благодаря его «Литераторским мостком», имеется в виду не просто обилие новых смертей, но и новые утраты поэзии, культуры. В конце «ташкентской» редакции героиня слышит, как «возвращалась в родной эфир» «Седьмая» – «знаменитая ленинградка» (симфония Д.Д. Шостаковича, эвакуированного тогда же, когда и Ахматова).
Ахматова продолжала работать над «Поэмой» четверть века. Последние добавления и поправки вносились в 1965 г. Но канонического текста «Поэмы» нет, автор все время что – то менял, а какие – то строфы не включал по цензурным и иным причинам. Произведение увеличилось примерно вдвое, обросло вариантами, эпиграфами, посвящениями, «Прозой о Поэме». Мистериальное начало было усилено как бы театральными ремарками. «Девятьсот тринадцатый год» получил подзаголовок пушкинского «Медного всадника» – «Петербургская повесть», стал отчетливее соотноситься с произведениями Гоголя, Достоевского, поэтов и прозаиков «серебряного века», «Мастером и Маргаритой» Булгакова и т. д. Мотивировка самоубийства драгуна была дополнена любовным треугольником – его соперником становится «Демон сам с улыбкой Тамары». Четче заявлена связь всего происходящего с эпохой:
«А по набережной легендарной / Приближался не календарный – / Настоящий Двадцатый Век». Самоубийца не дождался вероятной скорой гибели: «Сколько гибелей шло к поэту… Он не знал, на каком пороге / Он стоит и какой дороги / Перед ним откроется вид». В «Решке» появилось обозначение точками пропущенных строф, в которых были, например, такие строки: «И проходят десятилетья, / Пытки, ссылки и казни – петь я / В этом ужасе не могу», «И тебе порасскажем мы, / Как в беспамятном жили страхе, / Как растили детей для плахи, / Для застенка и для тюрьмы». В «Эпилоге» был создан и образ собственного двойника, ведомого на допрос и с допроса. Прежний финал «Эпилога», именно как прежний, перешел в сноску, а последними стали строки о России, которая «предо мною шла на восток» (в Сибирь) «ломая руки», но и «отмщения зная срок»; был и более оптимистический вариант, где после этих слов говорилось о движении «себе же самой навстречу» верной долгу молодой России «с Урала, с Алтая» в бой: «Шла Россия спасать Москву».
Многосмысленность образов «Поэмы» порождала разнообразнейшие попытки ее дешифровки, определения прототипов героев. Ахматова один раз в «Прозе о Поэме» призналась: «Демон всегда был Блоком, Верстовой Столб – Поэтом вообще, Поэтом с большой буквы (чем – то вроде Маяковского) и т. д.», – но добавила: «Характеры развивались, менялись, жизнь приводила новые действующие лица. Кто – то уходил». В самой поэме «Ахматова изо всех сил стремится напомнить читателю о двоичности, троичности, множественности, расплывчатости своих образов», и их «идентификация» – «игра, не имеющая конца».
Согласно «Прозе о Поэме», В.М. Жирмунский говорил автору, что это «исполнение мечты символистов», а товарищ Ахматовой по «Цеху поэтов» М.А. Зенкевич отметил в «Поэме» «слово акмеистическое, с твердо очерченными границами». Сама Анна Андреевна в 1962 г. заявляла Л.К. Чуковской в связи с непониманием читателей «Поэмы»: «– А я акмеистка, не символистка. Я за ясность. Тайна поэзии в окрыленности и глубине, а не в том, чтобы читатель не понимал действия». Вместе с тем она ставила свою поэму «между символистами… и футуристами». Вяч. Вс. Иванов относит ее к «фантастическому реализму» в духе Достоевского и Булгакова – в «Северных элегиях» Ахматова пишет о Достоевском как творце той России, в которой она родилась. Достоевский имел в виду под «фантастическим реализмом» изображение удивительных событий с самыми правдоподобными и убедительными подробностями. «Ахматова свое следование стилистике фантастического реализма Достоевского воспринимала не как решение собственно литературной задачи: речь шла о приеме, который применяет история». Вряд ли можно покрыть творческие принципы «Поэмы без героя» каким – либо из существующих определений. Но вывод Вяч. Вс. Иванова о том, что Булгаков в прозе и Ахматова в поэзии шли по одному пути, заслуживает внимания. В их художественном мире единство создается взаимодействием таких элементов, которые раньше считались несочетаемыми.
Вернувшись в 1944 г. в Ленинград, Ахматова переживает новые испытания в связи с личной неустроенностью и обманутыми надеждами; об этом – стихотворения 1944–1946 годов «Лучше б я по самые плечи…», «Без даты» («А человек, который для меня…»), «Вторая годовщина». В послевоенной поэзии Ахматовой, пишет Р.Д. Тименчик, «недосказанность» стала не только ее принципом, но и одной из тем. «Лирика Ахматовой ждет центрального события, которое снова объединило бы отдельные стихотворения, создав второй (после «романа – лирики» ранних книг), если так можно выразиться, «лирический эпос“».
В ноябре 1945 г. таким событием для нее стал визит к ней английского дипломата Исайи Берлина, в отрочестве эмигрировавшего с семьей из Риги. Ахматова с ним проговорила всю ночь и утро, выспрашивая о друзьях и знакомых, живших на Западе, ведя свободный диалог о литературе. «Можно себе представить, как болезненно воспринимала Ахматова, с ее открытостью мировой культуре и вообще миру, эту отрезанность, которая для нее превращалась в тесную клетку, где она была отгорожена не только от друзей за рубежом, но и от самых близких людей на родине».
«И ту дверь, что ты приоткрыл, / Мне захлопнуть не хватит сил», – писала она в цикле «Cinque» («пять» по – итальянски), созданном с ноября 1945 по январь 1946 г. (5 января И. Берлин зашел к Ахматовой попрощаться). Героиня цикла видит себя, словно она идет, «как с солнцем в теле», «чудеса творя», хотя встреча произошла в «горчайший день», поскольку за ней сразу последовала разлука, – ей «не успели / Досказать про чужую любовь». «И какое незримое зарево / Нас до света сводило с ума?» – поражается Ахматова в финале «Cinque».
Посещения Ахматовой иностранцем не остались незамеченными властями. В 1965 г. в Оксфорде она говорила Берлину о реакции Сталина. «…Оказывается, наша монахиня принимает визиты от иностранных шпионов», – заметил (как рассказывали) Сталин и разразился по адресу Ахматовой набором… непристойных ругательств…» «Полагала она также, что Сталин приревновал ее к овациям: в апреле 1946 года Ахматова читала свои стихи в Москве и публика аплодировала стоя». В любом случае это был повод, а не причина последовавшей кары. Причиной было наступление «холодной войны» и соответствующее завинчивание идеологических гаек. Нужно было напугать и целиком подчинить сталинским догмам интеллигенцию, почувствовавшую некоторую духовную свободу во время Отечественной войны и в первый послевоенный год. Первоочередными жертвами оказались М.М. Зощенко и А.А. Ахматова. Они были центральными фигурами в первом из серии послевоенных постановлений ЦК ВКП (б) по вопросам литературы и искусства – «О журналах «Звезда“ и «Ленинград“» от 14 августа 1946 г. – и в докладе секретаря ЦК А.А. Жданова об этом постановлении. В обоих документах содержалась просто площадная брань. Критика немедленно включилась в травлю «пошляков и подонков литературы» Зощенко и Ахматовой. Ахматова обвинялась в безыдейности, индивидуализме и принадлежности к старой салонной поэзии. Даже ее военные стихи стали объектом беззастенчивого передергивания. Стихотворение 1944 г. «Победителям», где с небывалой теплотой говорилось о тех, кто отдавал «Жизнь свою за други своя» (тогда прощался и библеизм): «Незатейливые парнишки – / Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, – / Внуки, братики, сыновья!», – подверглось разоблачению генеральным секретарем правления Союза писателей А.А. Фадеевым. «В одном из своих выступлений он заявил, что в этих стихах – барское, чуть не крепостническое отношение к народу:
Ваньки. Васьки. Алешки, Гришки…
Так барыня кличет дворовых…»
Исключенная из Союза писателей, Ахматова поначалу была лишена средств к существованию. Позже, как в 30–е годы, выручать стали переводы, мешавшие, однако, писать собственные стихи.
В 1949 г. в очередной раз был арестован Л.Н. Гумилев (во время войны перебравшийся с поселения на фронт и солдатом дошедший до Берлина). Опасаясь за его жизнь, Анна Андреевна в 1950 г. пишет и печатает цикл официозных стихов «Слава миру!», где есть и прославляющие Сталина, Эта жертва ради сына, по словам А. Хейт, стала «осмеянием самой эпохи, в которую горстка неудачных стихотворений автора «Реквиема» могла повлиять на судьбу человека». Но вызволен Лев Гумилев был только через три года после смерти Сталина, в мае 1956 г. (при помощи Фадеева). Летом, когда Ахматова была в Москве, ей позвонил находившийся там И. Берлин и попросил о встрече. Ахматова, переломив себя, отказала, не будучи уверенной, что судьба сына решена окончательно. Еще 5 января, в десятую годовщину прощания, она написала «третье и последнее» посвящение к «Поэме без героя», с поэтической гиперболой, порожденной уверенностью в том, что ее встречи с Берлином явились причиной если не «холодной войны», то гонений на советскую интеллигенцию: «Он не станет мне милым мужем, / Но мы с ним такое заслужим, / Что смутится Двадцатый Век». Теперь же трагическая для Ахматовой «невстреча» стала источником многих стихотворений, прежде всего вошедших в циклы «Шиповник цветет. Из сожженной тетради» (к стихам 1946 г. были добавлены написанные в 1956–м и после) и «Полночные стихи. Семь стихотворений» (1963–1965). В «Cinque», «Шиповнике» и других «шедеврах нежной и суеверной любовной лирики середины двадцатого века снова, как в давних стихах Ахматовой, любовь выступает как роковой поединок, как борьба двух достойных соперников, один из которых – «европейский пришелец, гость из Будущего, а второй – русский поэт». Однако в «Шиповнике» «появляется еще одна тема – моральной победы, торжества над судьбой, как оценивает поэтесса эту добровольную «невстречу“».
И. Берлин был моложе Ахматовой на двадцать лет. Если можно говорить о ее любви к нему, то это любовь сугубо поэтическая. В английском дипломате, философе и филологе с российскими корнями для нее воплотились все дорогие ей люди, больше того – вся та жизнь, которой она добровольно лишилась, навсегда оставив мысль об эмиграции и приняв свой крест на родине. В «Другой песенке» (лето 1957 г.), вспоминая о «чуде» давней встречи и горьких ее последствиях («Говорила с кем не надо, / Говорила долго»), Ахматова даже противопоставляет его и себя влюбленным:
Пусть влюбленных страсти душат,
Требуя ответа,
Мы же, милый, только души
У предела света.
Стихотворение 1962 г. «Через много лет. Последнее слово», по всей вероятности, адресовано А. С. Лурье, в нем запечатлелась действительно многолетняя тоска («И ты знаешь, что нас разлученной / В этом мире никто не бывал»), но оно входит в тот самый цикл «Шиповник цветет», который стимулировала «невстреча» с Берлином. В 1962 г. написана и «Последняя роза», где поэт отождествляет себя с боярыней Морозовой, «падчерицей Ирода», Дидоной, Жанной д' Арк и говорит о своей мечте сохранить свежесть ощущения жизни:
Господи! Ты видишь, я устала
Воскресать, и умирать, и жить.
Все возьми, но этой розы алой
Дай мне свежесть снова ощутить.
И в 1963 г., в «Полночных стихах», это жизнеощущение столь же ярко: «Простившись, он щедро остался, / Он насмерть остался со мной» – так завершается стихотворение с много говорящим заглавием «Предвесенняя элегия». Н.А. Струве, безусловно, прав и в том, что адресат «Полночных стихов» – «некое собирательное «ты»«, и в том, что это вообще не любовная лирика в принятом смысле этого слова, хотя характерные признаки стихов о любви здесь, безусловно, присутствуют.
В 1958 и 1961 годах Ахматова выпустила книжки избранных стихов, а в 1965 – во многом итоговую книгу «Бег времени», правда, в задуманном автором виде, со стихами 30–х годов и отрывками из «Реквиема», напечатать ее не дали. «Бег времени» первоначально мыслился как седьмая книга стихов. В 1946 г. после постановления ЦК была пущена под нож только что набранная книга Ахматовой «Нечет». Через шесть лет автору вернули рукопись, и впоследствии, продолжая работу над ней, Ахматова вновь начала формировать седьмую книгу. Число «семь» не случайно и в «Полночных стихах». Оно «означает совершенную, заключенную в себе полноту и носит печать библейской сакральной символики – от семи дней творения до многократного использования этого образа в «Откровении» Иоанна Богослова… Ахматова подводила итог своей судьбе и творчеству через это число: «Седьмая книга» непомерно разрослась по сравнению с предыдущими, потому что Ахматова не хотела допустить образования восьмой; не состоявшийся в полном объеме цикл «Северные элегии» задумывался как седмеричный: «Их будет семь, я так решила“». В конце концов под названием «Бег времени» вышла не новая книга, а сборник из всех семи книг, в том числе двух отдельно не выходивших.
Поздние стихи Ахматовой, собранные ею в несколько циклов, тематически весьма разнообразны. Тут и философская, афористическая «Вереница четверостиший», и «Венок мертвым» (от «учителя» И. Анненского до Н. Пунина), и упомянутые «Северные элегии», начатые еще в 1921 г., и «Античная страничка» («Смерть Софокла», «Александр у Фив», 1958–1961) с мыслью о глубочайшем уважении, которое в древности питали к поэтам, и «Тайны ремесла» 40–50–х годов, открывающиеся знаменитым «Творчеством» (1936), и стихи о Царском Селе, и три стихотворения о Блоке, и фольклоризированный цикл «Песенки», и многое другое. «Приморский сонет» (1958) пронизан умиротворенным чувством удовлетворения прожитой жизнью перед лицом уже близкой смерти. «Родная земля» (1961) – стихотворение и о смерти, и о подлинном, не казенном патриотизме, и о прахе и грязи под ногами, которые вдруг превращаются в «ни в чем не замешанный прах», в критерий этической оценки.
Последним в ряду своих стихотворений, стоящим «после всего», Ахматова по первоначальному плану «Бега времени» хотела видеть стихотворение 1945 г. «Кого когда – то называли люди…» – о Христе и тех, кто его казнил, затем исчезнув. При жизни Ахматовой было напечатано (в 1963 г.) лишь его отдельное заключительное четверостишие, впрочем, вполне самодостаточное и действительно итоговое:
Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор – к смерти все готово.
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней – царственное Слово.
Поздние стихи А. Ахматовой являют собой образец вдумчивого и торжественного, поистине царственного слова, то предельно четкого, то многозначного, переливающегося оттенками смысла. Драматических сценок, как в ранней лирике, теперь нет, психологическое действие сменилось эмоционально – интеллектуальным напряжением. Нет и прежней многоликости лирического субъекта. Героиня Ахматовой в поздних стихах более автобиографична и более автопсихологична, хотя часто и выступает от лица многих, почти всех. Поскольку с 1940 г. создается ряд крупных произведений, «по контрасту короче становятся маленькие лирические произведения: у ранней Ахматовой длина их – 13 строк, у поздней – 10. Монументальности это не вредит, подчеркнутая отрывочность заставляет их казаться как бы осколками монументов». Иногда такая монументальная осколочность подчеркивается обрывами (без рифмы) заключительного стиха, как в посвященном подруге детства стихотворении 1964 г. «Памяти В.С. Срезневской»: «Но звонкий голос твой зовет меня оттуда / И просит не грустить и смерти ждать, как чуда. / Ну что ж! попробую» (у Цветаевой подобные «довески» – от лирических «перехлестов», от невозможности удержаться в каких бы то ни было рамках; у Ахматовой – от весомости и самодостаточности сказанного). Более классичны в поздней лирике Ахматовой метрика и рифма. Из предпочитавшихся классических размеров «почти окончательно исчезает 4–стопный хорей: видимо, он слишком мелок для той величавости, которой требует от себя Ахматова». Эволюция ее стиха вполне отвечает эволюции стиля. «Ранние периоды соответствуют «простому», «вещному» стилю акмеистической Ахматовой, поздние – «темному», «книжному» стилю старой Ахматовой, ощущающей себя наследницей миновавшей эпохи и чуждой литературной среде».
Среди крупнейших поэтов – постсимволистов Ахматова наиболее «классична», так как наиболее ориентирована на другого человека, другую личность. «Есть поэты, которые общаются с культурой, с природой, с Богом – не обязательно через посредство другого. Ахматова же всегда через «ты». «Ты» ей необходимо для выделения гармонии, для осуществления связи с миром. Мандельштам преимущественно, Пастернак исключительно – космоцентричны. У Мандельштама человек присутствует через его дела, культуру. У Пастернака, как отмечала Ахматова, человек начисто отсутствует. В этом отношении Ахматова – полная противоположность Пастернаку, она целиком антропоцентрична…».








