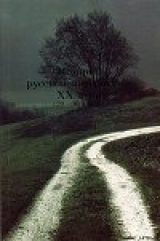
Текст книги "История русской литературы XX века (20–90–е годы). Основные имена."
Автор книги: С. Кормилов
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 40 страниц)
Ощущение абсолютной свободы и раскованности в бесконечном воздушном пространстве Цветаева воссоздает почти физически за счет прихотливой, порожденной буйной фантазией игры со словом: движение звука – как движение воздуха, мягкость звуков – как мягкость воздушных волн, а извивы и перебивы звука повторяют прерывистую пульсацию набегающих порывов ветра:
Легче, легче лодок
На слюде прибрежий.
О, как воздух легок:
Реже – реже – реже…
Баловливых рыбок
Скользь – форель за кончик…
О, как воздух ливок,
– Ливок! Ливче гончей
Сквозь овсы, а скользок!
Волоски – а веек! – Тех, что только ползать
Стали – ливче леек!
Что я – скользче лыка
Свежего, и лука.
Пагодно – музыкой
Бусин и бамбука,
Пагодно – завесой…
Плещь! Все шли и шли бы…
Уже после возвращения семьи Эфронов в Союз состоялась личная встреча двух поэтов, Цветаева читала Ахматовой именно «Поэму Воздуха», Тогда – то «златоустая Анна» и передала одному из друзей свои впечатления от услышенного: «Марина уходит в заумь». Дело не в резкости оценки; в конце концов, грандиозная «Поэма без героя», услышанная в ответ на «Поэму Воздуха», тоже вызвала ироническую реакцию Цветаевой – очевидно, каждая из них находилась прочно в плену своей стилистики. Но вот зоркость ахматовской характеристики нужно отметить. Еще в «Поэме Конца» героиня Цветаевой вымолвила странную на первый взгляд фразу: «Расставание – просто школы / Хлебникова соловьиный стон», но только на первый взгляд. Ее постоянная тяга к метафоре, настойчивая апелляция к будущему как единственному правомочному судье над поэтом, любовь к работе над словом, к своему (можно сказать «самовитому») слову, даже гордое сознание поэтической независимости – все это сближало ее с эстетической тезой футуристов. Вот почему так настойчиво из всех современных поэтов она выделяла Маяковского и Пастернака, посвятив рассмотрению их творчества едва ли не главную свою статью «Эпос и лирика современной России», вот почему в адресной обращенности ее лирики 20–30–х годов преобладают эти имена, наконец, вот почему, например, вся 7–я главка «Поэмы Конца» интонационно и строфически плотно укладывается в русло «Облака в штанах» Маяковского.
На родину Цветаева вернулась в июне 1939 г. Но радостного возвращения не получилось, хотя на чужбине она безмерно тосковала по России. Чего стоит одно только заключительное четверостишие ее стихотворения «Тоска по родине! Давно / Разоблаченная морока!..»:
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все – равно, и все – едино.
Но если по дороге – куст
Встает, особенно – рябина…
Пронзительный самоповтор: еще в 1918 г. она закончила пожелание своему ребенку (цикл «Але») словами «Ведь русская доля – ему… / И век ей: Россия, рябина…».
Однако возвращение закончилось катастрофически: вскоре были арестованы муж и дочь Цветаевой, с большим трудом подготовленный к изданию сборник стихотворений и прозы в конце концов был отвергнут, жизненные силы поэта были подорваны; начавшаяся Отечественная война, связанные с ней мытарства и страшная неустроенность быта ускорили развязку – 31 августа 1941 г. в затерянной в Прикамье Елабуге Марина Ивановна Цветаева покончила с собой.
Не стоит, правда, только социальными ужасами русской жизни рубежа 30–40–х годов объясняется трагизм судьбы поэта. К сожалению, она оказалась права в своем пророчестве, когда незадолго до отъезда на родину из Франции писала своему корреспонденту: «Здесь я не нужна. Там я невозможна». Стихи ее были отвергнуты в Советской России не только по причине политической подозрительности к вчерашним эмигрантам; весь цветаевский поэтический мир, его эгоцентрическое, личностное начало, его изощренная эстетика не «стыковались» с гегемоном новой литературной эпохи – социалистическим реализмом: ни социализм, ни реализм не были для Цветаевой обязательными или желанными в искусстве. Точно так же ее роковой конец, безвременная гибель – не просто сломленная воля, угасший огонь жизни. Смерть в творчестве Цветаевой – огромная тема, она всегда привлекала – страшила, удивляла, пробуждала любопытство и притягивала к себе; ей всегда было тесно в узких рамках земного бытия, она всегда стремилась за их предел.
Цветаева – личность будущего, поэт – надмирный. Время таких поэтов, как Цветаева, Хлебников, Белый, может быть, только теперь приходит.
А.Н. Толстой
Алексей Николаевич Толстой (29.XII.1882/10.1.1883, г. Николаевск, ныне Пугачевск Саратовской обл. – 23.II.1945, санаторий «Барвиха» под Москвой, похоронен в Москве), по словам его сына, в Советском Союзе «при жизни Горького представлял литературу, так сказать, вторым номером, и это ко многому обязывало». Довольно быстро оказавшись чуждым большинству эмигрантов, проявив немалую независимость по отношению к ним и приехав в СССР, он постоянно помнил о «грехе» своего графско – помещичьего происхождения (хотя, за исключением периода 1923–1927 годов, когда А. Толстой не раз жаловался на материальную нужду, он и при советской власти прожил жизнь большим барином) и особенно об «ошибках» эмиграции, что крайне негативно сказалось на его творчестве и исключительно благоприятно – на судьбе.
Для большевистских властей он был как бы воплощением силы коммунистических идей и перевоспитывающей советской действительности. Председатель Совнаркома СССР В.М. Молотов в выступлении на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов, принявшем «Сталинскую» Конституцию (1936), провозгласил: «Кто не знает, что это бывший граф Толстой? А теперь? Один из лучших и один из самых популярных писателей земли советской – товарищ Алексей Николаевич Толстой». Доверие таких товарищей приходилось зарабатывать, нередко ломая действительно немалый природный талант, хотя признаваться в этом писатель избегал, по – видимому, даже самому себе. Он обращался к новому широкому читателю и иронизировал над тем, что когда – то властителями умов были Мережковский, Гиппиус, Философов, – А. Толстой не принимал ни философствования в литературе, ни декадентства: «– Да, да… что эти трое скажут, так и считалось… Ведь читателей всего – то было тысячи три. А теперь мне что, – добавляет с юношеским озорством Алексей Николаевич, – теперь читателей пятьдесят миллионов». В этой позиции вряд ли можно увидеть какую – то неискренность.
А. Толстой неутомимо работал каждый день, даже с утра после своих пышных и невоздержанных барских приемов. В 15–томное «Полное собрание сочинений» (1946–1953) «вошла лишь небольшая часть созданного А. Толстым в течение жизни, многое затерялось в периодической печати, осело в архивах, осталось неопубликованным… Толстой работал даже тогда, когда, казалось, думать об искусстве было нельзя… он сидел за пишущей машинкой на палубе парохода, увозившего его с родины в далекую неизвестность, в эмиграцию; он писал, когда раздавались в общественной жизни в его стране хлысты… рапповской «дубинки»; последние страницы шестой главы третьей книги романа «Петр Первый» дописывались им в небольшие промежутки времени, когда на мгновения еще отступала смертельная болезнь и рука была еще в силах держать перо…»
Наследие А. Толстого столь же противоречиво, сколь многотемно и многожанрово. Он автор двух дореволюционных сборников лирики, более сорока пьес, в том числе по мотивам своих повествовательных произведений (причем пьесы могли оказаться чрезвычайно далекими от первоисточников), писал киносценарии и либретто, рассказы, очерки, повести, романы, трилогии, обрабатывал русский фольклор, создал одну из лучших в мировой литературе детскую повесть «Золотой ключик, или Приключения Буратино», выступал как публицист, автор статей о литературе и фольклоре (от армянского эпоса до многонациональной советской литературы) и т. д. и т. п. Бесспорен его вклад в художественно – историческую литературу, приключенческую и научно – фантастическую беллетристику. «Хождение по мукам», одно из наиболее читаемых произведений в течение ряда десятилетий, безоговорочно относилось к жанру романа – эпопеи – официально самому уважаемому в советском литературоведении. «Зрелый» А. Толстой принципиально не писал повествовательных произведений по плану, «часто, начиная, не видел дальнейшего; много раз говорил… что еще не знает судьбы героя, не знает даже, что приключится на следующей странице, – герои постепенно оживали, складывались, диктовали автору сюжетные линии». И при этом он был одним из самых увлекательных повествователей (что редко в русской литературе). По мнению Н. Никитина, даже неудавшиеся вещи Толстого, типа романа «Черное золото» или пьесы «Заговор императрицы», написаны так, что, читая, трудно оторваться.
Писатель считал себя самым последовательным приверженцем реализма, но на практике это был весьма эластичный реализм, нередко вследствие неприкрытой идеологизации превращавшийся в чистейший нормативизм; вместе с тем художественно – условные модели действительности не могли быть реалистическими или чисто реалистическими даже вне такой прямой связи с нормативной идеологией. Изобразительное и речевое мастерство А. Толстого, наряду с повествовательным, было способно порождать истинно замечательные страницы прозы, и писатель бывал чрезвычайно взыскателен к себе, переделывал свои произведения по многу раз, даже до неузнаваемости (меняя заглавия, целые сюжетные линии, концовки, характеристики и судьбы персонажей, авторские оценки, так что они иной раз становились противоположными), но далеко не всегда эти переделки были к лучшему;
А. Толстой уничтожал или предавал полному забвению многие свои страницы и целые произведения, чем – то не удовлетворявшие его, однако напечатал огромное количество однодневок, сочинений заведомо крайне слабых («У него сильно развита художественная угодливость, и ради каких либо «лозунгов дня» он готов пуститься в самую беспардонную халтуру», – констатировал довольно доброжелательный к бывшему сотоварищу по эмиграции М.Л. Слоним), и, например, драматическую дилогию «Иван Грозный», весьма конъюнктурную, о которой в 1943 г. он беседовал со Сталиным явно не без последствий для ее «доработки», умирающий от рака А. Толстой в январе 1945 г. подарил столь близкому человеку, как его сын Никита (этим именем назван автобиографический персонаж повести о детстве), с надписью: «Это самое лучшее, что я написал». Названные (и другие) противоречия наряду с очевидной художественной одаренностью делают фигуру А.Н. Толстого особенно интересной для литературоведа.
В 1917 г. 34–летний А.Н. Толстой был уже известным писателем, представителем «неореализма» наряду с С. Сергеевым – Ценским, Б. Зайцевым, И. Шмелевым, М. Пришвиным, Е. Замятиным, Вяч. Шишковым и др. – разными, но в чем – то и едиными художниками: «…то была реакция против символизма и попытка создания прозы, далекой от традиций 80–х годов, испытавшей на себе все воздействия нового стиля, но неизменно живописующей быт, земную реальность вне касания «мирам иным». Наиболее интересны и значительны в дореволюционном творчестве А. Толстого произведения «заволжского» цикла, рисующие в основном поместную жизнь его родной Самарской губернии, зачастую в ее анекдотических и чудаческих проявлениях. Писатель любовно и одновременно юмористически представлял то, что хорошо знал, стараясь в основу сюжета положить событие, происшествие или цепочку происшествий – нечто так или иначе не совсем ординарное. Современная критика, а затем и советское литературоведение пытались трактовать эти вещи в сатирическом ключе. К.И. Чуковский акцентировал, напротив, «нежность» автора к своим героям (зачастую разоряющимся помещикам) и отсутствие у него «сословных пристрастий», а А.К. Воронский в 1926 г., хотя и обыграл название места действия в романе «Чудаки» – Гнилопяты, причислил практически всех героев писателя к мечтателям и фантастам, что отчасти противоречило его же определению Толстого как «бытовика». Высшей жизненной ценностью для автора «Заволжья» была любовь, в том числе любовь чистой девушки к беспутному претенденту на ее руку. Вполне сатирическим, да и то без сарказма, было лишь изображение нувориша Растегина с его претензиями на «стильную» жизнь («Приключения Растегина», 1913), но доминировала везде довольно беззлобная насмешка. Впоследствии современной буржуазии досталось от А. Толстого значительно больше, однако всегда над «страшным» преобладало нелепое или претенциозное, «хозяева жизни» неизменно получались проигрывающими.
Уже после 1910–1911 годов в критике установилось специфическое отношение к А. Толстому – привычка «хвалить за талант, порицать за «легкомыслие» И даже в 1933 г. М.Л. Слоним говорил о нем как о мастере анекдота (в исконном смысле слова) без какой – либо идейности и глубины, а впоследствии И.Г. Эренбург противопоставлял его в качестве «писателя – художника» «писателям – мыслителям». Для современного исследователя – знатока это типичный «органический художник» в отличие от писателей – историков, публицистов, политиков, вмешательство «головного» начала в его творчество было неорганично: «…пример художественной недостаточности романов «Восемнадцатый год», «Хмурое утро», «Хлеб (Оборона Царицына)» – очевидное тому подтверждение. Надо только иметь в виду, что речь идет не о неверной ориентации Толстого на тот или иной литературный или документально – исторический «первоисточник», но о самой невозможности для него как органического художника подобной ориентации».
Февральскую революцию он встретил с энтузиазмом, к Октябрьской отнесся отрицательно. «Власть трехдюймовых» – так определил он новую власть (заглавие статьи – очерка в газете «Луч правды» от 27 ноября 1917 г.). Но позиция писателя была во многом аполитичной (хотя события революционных дней, пережитых в Москве, он тщательно фиксировал в дневнике). «В одной из статей конца 1917 г. он утверждал, что предметом внимания художника должен стать теперь не «рабочий», не «крестьянин, мелкий собственник», не «солдат», не «кадет», а «обыватель» – «милый, добрый, русский человек, вне классового сознания и часто теперь безо всякого сознания». Одновременно написан рассказ с характерным заглавием «Милосердия!» о таком «обывателе», присяжном поверенном Василии Петровиче Шевыреве. Москва, ноябрь 1917 г., «холодный, страшный», – а рядовой интеллигент, читающий Вл. Соловьева (таковы были именно рядовые интеллигенты), не любя жену, переживает романчик с современной женщиной, и его соперником оказывается много курящий сын – гимназист, «левый эсер», который, получив пощечину от отца, настигает его с револьвером, после чего оба переживают нервное потрясение. Герои рассказа – слабые, не приспособленные к грозящим невзгодам люди, но им – то и испрашивает автор неизвестно у кого милосердия. В 30–е годы он осуществил правку текста ради выявления «именно критической стороны произведения: в своей последней автобиографии (1943) Толстой вовсе ушел от первоначального замысла, расценив его как «первый опыт критики российской либеральной интеллигенции в свете октябрьского зарева»…время накладывало свою печать, выворачивало гуманизм наизнанку…»
В 1918 г. создан рассказ «Простая душа» (первоначально – «Катя»), где скромная швея Катя, любившая лицеиста (во второй редакции &nbso; – студента), убитого красными, толкает (в первой, более жесткой редакции) знакомого офицера на убийство Петьки – бандита, который «кровь в Октябре проливал». Так «простая душа», пережившая недолгое счастье, приходит к потребности мести. Кровавые события вызывают в ней вопрос: «Господи, к чему же это нам? Ведь свободу дали…» Это, безусловно, и позиция автора. Бессмысленность кровопролития демонстрирует он тогда же и в переделке пьесы немецкого романтика Г. Бюхнера «Смерть Дантона» (1825). В первоисточнике Дантон погибал на гильотине потому, что изменил идеалам народной революции. У А. Толстого он жертва террора, являющегося закономерным следствием любой революции. «Террор – наша сила, наша чистота, наша справедливость, наше милосердие», – говорит его, а не бюхнеровский Робеспьер. Использование слова «милосердие» явно не случайно для автора переделки.
Народ же здесь – изменчивая, неверная стихия, толпа, готовая предать свой кумир.
До революции А. Толстой почти не затрагивал исторические темы. В 1917 г. он интуитивно почувствовал их огромную актуальность. Тогда же он познакомился с памятниками русского судопроизводства – материалами «Слова и дела», опубликованными профессором Н. Новомбергским. «Пыточные» записи отражали живые устно – разговорные формы русского языка XVII – начала XVIII века. Своим исключительным языковым чутьем А. Толстой ухватил подлинный колорит того времени. Это имело огромное значение для его творчества.
Непосредственно публикации Новомбергского были использованы в рассказе – очерке «Первые террористы» (напечатанный в газете «Вечерняя жизнь» в апреле 1918 г., он был предан забвению автором) по материалам дел Преображенского приказа – о злоумышленниках на царя Петра, решивших вынуть его след и сжечь с волшебным приговором. Показательно современное название этого опыта. Террор волновал писателя, очевидно, в любой форме. Больше вымысла и сюжетности в рассказе того же 1918 г. «Наваждение», где «романтическая интрига почти вытесняет политическую (измена Мазепы Петру), причем на первый план выступает не история любви дочери Кочубея к Мазепе, а любовное «наваждение», которое испытал молодой послушник Трефилий, зачарованный волшебной красотой… Матрены». Говорится, однако, и об истязаниях, которые испытали от властей странники, взявшие на себя роль посланников Кочубея. Вспоминающий обо всем этом Трефилий в заключение коротко сообщает; «А Матрену, говорят, казаки в обозе задушили попонами в ту же ночь…» (после казни ее отца Кочубея).
В 1918 г. появился и рассказ «День Петра», главный герой которого стал как бы главным героем всего творчества А. Толстого. Здесь же писатель «выговорился» в показе строительства Петербурга: в будущем романе много ярких и смачных описаний Москвы, любимого писателем русского города, но не «северной столицы» (ее А. Толстой недолюбливал, хотя и прожил в ней и в Детском – бывшем Царском – Селе большую часть сознательной жизни). Трактовка образа Петра, во многом и вершимого им дела, отчасти сюжет рассказа говорят о явном влиянии романа Д.С. Мережковского «Антихрист (Петр и Алексей)». В позднейших произведениях это влияние будет значительно меньше, но все – таки скажется на их сюжетах и особенностях повествования (использование разных точек зрения, формы писем, дневников – подлинных, отредактированных или вымышленных). В «Дне Петра» совершенно одинокий царь – реформатор принимает на себя непосильную ношу. Радея за Россию, он невероятно жесток к ее народу. Пытаемый им на дыбе Варлаам испытывает жалость к своему мучителю, вызывающему помышления об Антихристе. «Страшные казни грозили всякому, кто хоть наедине или во хмелю задумался бы: к добру ли ведет нас царь, и не напрасны ли все эти муки, не приведут ли они к мукам злейшим на многие сотни лет?» Эта фраза в рассказе осталась и впоследствии, несмотря на произведенную «чистку».
В июле 1918 г. А. Толстой с семьей выехал из голодной Москвы в литературное турне на Украину. Ряд деталей путешествия позднее был описан в «Похождениях Невзорова, или Ибикусе» (1924–1925), настоящем плутовском романе XX века, хотя его герой, удачливый, пусть и подверженный внезапным поворотам колеса фортуны авантюрист, не раз все теряющий и снова внезапно приобретающий те или иные блага, и не имеет сходства с автором. Зиму семья прожила в занятой союзническими войсками Одессе и в апреле 1919 г. эвакуировалась в Стамбул. Накануне отъезда Толстой написал легкую комедию «Любовь – книга золотая» из времен Екатерины II. По контрасту с окружающей реальностью, в которой все рушилось, и с мрачными историческими рассказами 1918 г. в пьесе «царил мир и социальная (социально – природная) гармония… населяющие мир пьесы персонажи – старый князь Серпуховской, его жена, молодая княгиня, царица Екатерина, крепостные – все любят друг друга, все пребывают в согласии друг с другом». Только слугам и служанкам приходится выполнять трудные и непонятные роли «сатиров» и «нимф» соответственно указаниям книги «Любовь – книга золотая», которую прислала императрица скучающей в деревенском захолустье молодой княгине. Комедия – о чудаках и чудачествах столь милых А. Толстому. Приезд царицы здесь, естественно, ко благу. Хотя княгиня уходит к царицыну любовнику Завалишину, ничего против не имеют ни сама Екатерина, ни старый («45 лет») князь, которого утешает сопровождающая императрицу дама. Любовь торжествует над всем. Для советской литературы такое легкое, при всей своей условности, изображение эпохи крепостничества не годилось, и в 1936 г…товарищ Алексей Николаевич Толстой» переделал пьесу (окончательный вариант – 1940 г.), изменил идиллическую концовку и наделил образ императрицы отрицательными чертами.
Два эмигрантских года прошли в Париже. В 1921 г. Толстой переехал восточнее – в Берлин, где были теснее связи с Советской Россией. Интенсивно общался с М. Горьким, который из – за границы весьма деятельно сотрудничал с советскими писателями, и примкнул к сменовеховству – движению эмигрантской интеллигенции, усмотревшей во введении нэпа признак разумной эволюции большевиков и признавшей укрепление советской власти свершившимся фактом. Толстой печатался в сменовеховской газете «Накануне», других лояльных к советской власти изданиях. С 1922 г. стал редактором «Литературного приложения» к «Накануне». Там печатались писатели, оставшиеся в России: Е. Замятин, Б. Пильняк, К. Федин, В. Катаев, К. Чуковский и др. Толстому пришлось отвечать перед более последовательными в своей позиции эмигрантами. В апреле 1922 г. он получил письмо от Н.В. Чайковского, в прошлом революционного народника (кружок «чайковцев»), который от имени Исполнительного бюро Комитета помощи писателям – эмигрантам потребовал объяснений в связи с сотрудничеством в «Накануне». В «Открытом письме Н.В. Чайковскому» Толстой заявил о себе как о стороннике русской государственности и великодержавности, человеке, проделавшем «весь скорбный путь хождения по мукам» («В эпоху великой борьбы белых и красных я был на стороне белых») и желающем теперь «помочь последнему фазису русской революции пойти в сторону обогащения русской жизни, в сторону извлечения из революции всего доброго и справедливого и утверждения этого добра, в сторону уничтожения всего злого и несправедливого, принесенного той же революцией, и, наконец, в сторону укрепления нашей великодержавности». «Все, мы все, скопом, соборно виноваты во всем совершившемся. И совесть меня зовет не лезть в подвал, а ехать в Россию и хоть гвоздик свой собственный, но вколотить в истрепанный бурями русский корабль. По примеру Петра». Такой «повышенный» стиль станет характерен для советской публицистики Толстого. Необычайной интуицией он сумел угадать эволюцию большевизма от максимального интернационализма и космополитизма к русской великодержавности, пик которой наступил уже после его смерти, но готовить который будут многое и многие, и он в том числе.
Толстой был исключен из Союза русских писателей в Париже. Весной 1923 г. он приехал в СССР, а к августу переселился окончательно, с семьей.
Эмигрантский период он называл самым тяжелым в своей жизни. Но творчески эти годы были чрезвычайно плодотворны, даже на фоне других плодотворных они выделяются и качеством, и разнообразием написанного. В 1920–1922 годах печаталось одно из лучших русских произведений о детстве – автобиографическая повесть «Детство Никиты», в первом отдельном издании красноречиво названная «Повесть о многих превосходных вещах». Счастливое мироощущение девяти – десятилетнего мальчика, непосредственные радости жизни в семье, в поместье, игры и драки с деревенскими детьми, скачки на коне, отношения с чудаковатым домашним учителем, с родными, первая детская влюбленность, очаровывающая среднерусская природа и другие «превосходные вещи» демонстрировали в повести единственную постоянную позицию писателя – жизнелюба, умеющего получать истинное наслаждение в простом естественном потоке событий и красочно, въяве воссоздавать безо всяких сентиментальных вздохов безвозвратно ушедшее, словно существующее по – прежнему (столь же живое воссоздание старой России в позднейших произведениях И.С. Шмелева не так непосредственно и окрашено в тона неизбывной ностальгии). Жизнь небогатой помещичьей семьи в общем не очень омрачает милая слабость отца, тоже чудака, к всяким ненужным покупкам, и случившееся с ним происшествие, когда он чуть не утонул с конем, завершается практически без последствий, в то время как такой же эпизод в раннем рассказе «Овражки» (1913) приводил к тяжелой, опасной болезни его героя, Давыда Давыдыча. В отличие от большинства произведений А. Толстого здесь почти не играет роли сюжет, последовательная цепочка событий, ведь, в сущности, все или почти все в этом мире превосходно. Знавший толк в литературе о детях и для детей К. Чуковский писал в 1924 г.: «Это Книга Счастия, – кажется, единственная русская книга, в которой автор не проповедует счастье, не сулит его в будущем, а тут же источает из себя».
Рассказ «Граф Калиостро» («Лунная сырость», 1921) – не только приключенческая история из XVIII века, о европейской знаменитости в поместье молодого русского дворянина, но и опыт в фантастике (пока не «научной») – с оживлением прославленным чародеем женского портрета, в который имел несчастье влюбиться Алексей Федяшев. Над таким уходом от действительности писатель посмеивается. Обычная, естественная любовь оказывается сильнее и выше не только мечтательности но и магии. Впрочем, настоящий или мнимый чародей Калиостро – остается не вполне ясным, однако его жена Мария предпочитает ему такого простого, отказавшегося от своей мечты Алексея, а разбушевавшийся маг принужден спасаться бегством, притом неудачно. Он смешон и жалок перед нормальными людьми и их живым взаимным чувством.
В Париже было начато лучшее произведение А. Толстого в собственно романном жанре – «Хождение по мукам» (в советских изданиях «Сестры»). Полностью оно было опубликовано в 1921 г., отдельным изданием – в 1922 г. в Берлине. Советским литературоведам на фоне последующих книг трилогии оно казалось камерным, хотя встречались и суждения о том, что уже здесь А. Толстой вышел далеко за рамки семейно – бытового романа. Того же мнения и современный исследователь, весьма суровый к «Восемнадцатому году» и «Хмурому утру»: «…как ни велики были усилия автора, затраченные на создание своей знаменитой трилогии, узурпировавшей название его классического романа, и как ни велики были, с другой стороны, усилия критики, поставившей создание ее высшей заслугой писателя… нужно признать, что Толстой написал лишь один роман как законченное художественное произведение, а все другие книги романа, превратившегося, вопреки замыслу, в трилогию, есть лишь ненужная – в художественном отношении – растянутость смысла, сюжета, концепции, выраженных в той единственной книге 1922 г.» Время ее действия протяженнее, чем в последующих книгах. Начинается роман с предвоенных событий 1914 г., действие заканчивается в ноябре 1917 г. Это произведение об «обывателях» (по А. Толстому), простых русских людях, не привязанных жестко к одному социальному слою и Тем более к одной социально – политической идеологии, о русских людях вообще, даже не об «интеллигентах»: Толстой «всегда возражал, когда его трилогию воспринимали, руководствуясь самыми лучшими побуждениями, как роман о судьбах русской интеллигенции в революции – подобная классово – социальная определенность чрезвычайно претила ему…»
Название «Сестры» не дисгармонирует с текстом. Это сравнительно нечастый случай в «мужской» литературе, когда в центре сюжета, охватывающего к тому же всю первую мировую войну и обе свершившихся в 1917 г. революции, – две молодые женщины, описанные с истинно человечным, «интимным» сочувствием (прототипами сестер в какой – то мере послужили тогдашняя жена Толстого Н.В. Крандиевская и ее сестра). И они, и их избранники – не выдающиеся, даже не талантливые, не одаренные в чем – то (как Григорий Мелехов у Шолохова), а обыкновенные хорошие люди. Самый цельный из них, Иван Телегин, и вовсе простоват, под стать своему имени и фамилии. До знакомства с будущей женой, которой он в конце романа целует ногу на улице, 29–летний Иван Ильич «влюблялся раз шесть», в 5–й главе автор рассказывает об этом не без добродушной улыбки. Екатерина Дмитриевна лишь на другой день после случившегося «горько заплакала о том, что Алексей Алексеевич Бессонов… в полночь завез ее на лихом извозчике в загородную гостиницу и там, не зная, не любя, не чувствуя ничего, что было у нее близкого и родного, омерзительно и не спеша овладел ею так, будто она была куклой…» (гл. 4). По ее стопам чуть не пошла и младшая сестра, которая позже, в Крыму, уговаривает себя: «Люблю одного Ивана Ильича… Люблю, люблю Ивана Ильича. С ним чисто, свежо, радостно… Выйду за него замуж» (гл. 13), – потому что опять встретила Бессонова. А когда любимый Иван Ильич вернулся из плена, она. смятенная, говорит «глухим голосом»: «– Катя, ты пойми, я даже и не рада, мне только страшно…» (гл. 30).
Психологизм А. Толстого не отличается развернутостью (хотя надо иметь в виду, что в первой редакции романа было значительно больше внутренних монологов героев), но в таких случаях убедителен и иногда довольно тонок. Вот Екатерина Дмитриевна приходит работать в тот же лазарет, что и Даша, и бегло сообщается: «В первое время у нее, так же как у Даши, было отвращение к грязи и страданию. Но она преодолела себя и понемногу втянулась в работу». И в этой, 19–й, главе автор последний раз называет ее в своей речи по имени – отчеству, потом она, вопреки возрасту, – Катя, как бы становится роднее и автору и читателю. Она не любит мужа, хотя изменяет ему почти случайно. По требованию сестры, в облике которой подчеркивается чистая детскость, она признается в этом Николаю Ивановичу и с презрением смотрит на него, когда он выходит с дамским револьвером, «решив» ее убить. Николай Иванович Смоковников снижен далеко не только в этой сцене, например, об измене Кати он сообщил Даше после того, как «придвинул сковородку с яичницей и жадно стал есть» (гл. 3). Но его гибель потрясает Катю, и ей «на минуту стало легче на душе» даже оттого, что «румяный и бородатый барин, – известный общественный деятель и либерал князь Капустин – Унжеский» (какова характеристика, вплоть до фамилии!) «от имени России и революции приносит Кате неутешные сожаления о безвременно погибшем славном борце за идею» (гл. 41). Поздно, в 25–й главе (из 43–х), появляющийся в романе Рощин приходит вместе с тем как нельзя более вовремя. «Меня спасло чудо…» – пишет Катя сестре, сообщая далее, как ей дорог Вадим Петрович, хотя от потрясения она еще явно не оправилась.








