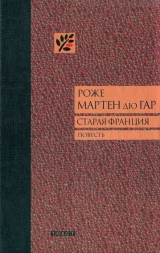
Текст книги "Старая Франция"
Автор книги: Роже Мартен дю Гар
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
XIX. Мари-Жанна Арнальдон. – Жуаньо у мэра
Жуаньо подходит к дому мэра. В открытое окно второго этажа минорная гамма, спотыкаясь о костяшки клавиатуры, вытряхивает на улицу нерешительные ноты.
Жуаньо у решетки звонит. Гамма тотчас же останавливается, и в окошке показывается мадемуазель Арнальдон. Хоть ей едва перевалило за тридцать – это уже старая дева, и притом ярко выраженная. Она улыбается почтальону так, словно даже самая малая непредвиденность доставляет ей удовольствие.
– Здравствуйте, мосье Жуаньо, сейчас спущусь.
Мосье Арнальдон овдовел рано. Мари – Жанна – его вторая дочь, оставшаяся жить при нем.
Обе сестры всегда принадлежали к числу тех, кого в Моперу называют счастливцами. И в самом деле они никогда «не нуждались».
С малых лет им удалось попасть в Вильграндский пансион и получить там хорошее воспитание, которого хватает потом на всю жизнь. Вернувшись в весеннюю пору своей юности в Моперу, дабы дожидаться тут замужества, они вели безмятежное существование под благодушным призором тети Ноэми, старой холостячки.
Годы утекали один за другим, и барышни давно уже перезрели, когда старшая, Тереза, из затаенной боязни так и остаться тут безмужней и бездетной старухой, вроде тети Ноэми, обвенчалась со сверстником своего отца, толстым фермером из Бур-Элуа, вдовцом с незамужней дочерью. И ведет там жизнь, мотаясь с утра до вечера на ферме между старым брюзгой и ревнивой падчерицей, которая не прощает ей вторжения. И всегда-то люди найдут на что жаловаться. Тереза в отчаянии, что муж у нее, по правде говоря, слишком стар, чтобы можно было надеяться иметь от него детей.
Благоразумный пример сестры, вместо того чтобы побудить Мари-Жанну тоже искать счастья в замужестве, замкнул ее, напротив, в эгоистическом стародевичьем прозябании. Она ведет отцовское хозяйство и покорно увядает. По словам соседей, она привередлива и не умеет противиться своим прихотям. Так, промечтав все детство о музыкальном образовании и не имея даже возможности – чтобы не повредить политическому положению отца – испытать свои силы на церковной фисгармонии, она убедила мосье Арнальдона купить ей рояль, проспавший не один людской век под двойным чехлом – из кретона и из пыли – в гостиной мадам Массо: почтенный инструмент, почти безгласный, но с басами, обладающими прекрасным тембром китайского гонга. Старый вильграндский настройщик, как водится слепой и слывущий приличным музыкантом, добился того, что мало-помалу вернул его к жизни; чтобы довершить доброе дело, он дает раз в две недели урок Мари-Жанне. Поездка в город обратилась для старой девы в радость, которую она переживает дважды в месяц и к которой готовится заблаговременно: разыгрывает гаммы и чистит перчатки бензином. Впечатлительность у нее такая, что всякий раз накануне она не спит ночь и встает с синяками под глазами и с более чем обычно прыщавыми щеками. Но что ж – только крупица безумия дает познать истинный вкус жизни… Соседи не ошибаются: Мари – Жанна хоть и серьезна, а развлекаться любит.
Арнальдон занимает в нижнем этаже только одну комнату: столовую. Когда он не рыскает по окрестностям в поисках рукопожатий, он восседает тут за столом, с которого вся еда никогда не бывает убрана и где папки с делами пребывают в соседстве в грязными тарелками, с масленкой, с корзинкой для хлеба. Арнальдон, как ни худ, – первый обжора во всем кантоне, а может быть, и во всем департаменте. Двух часов не проведет натощак. Раз десять на дню он отворяет дверь на лестницу и кричит:
– Мари-Жанна, мне надо перехватить!
Мари-Жанна является с чашкой бульона, куда спущена пара яиц всмятку, либо с тарелкой холодного мяса, либо просто с выдержанным в золе козьим сыром.
Но это всего только легкая закуска. Надо видеть мэра, как он перед началом всякой трапезы, пока дочь накрывает на стол, стоя, уписывает, чтобы утолить – по его выражению – первый голод, целую гору жирной буженины, поджаренной ломтиками, которые кладет на свежевыпеченный хлеб, и дочиста выскребает блюдо деревянной лопаточкой. Все чудо в том, что его здоровью от этого ни малейшего вреда. Даже кровь в голову не бросается при пищеварении. Он встает из-за стола, опорожнив все блюда, выпивает полную чашку кофе, две стопки коньяку, закуривает трубку, уходит в уборную и снова садится за дела – налегке, точно проглотил одно яйцо.
При появлении почтальона мосье Арнальдон кладет газету на стол и поднимает голову:
– Послушайте, Жуаньо… – По части повелительно-сердечного тона мэр не знает себе равных. – Приготовьтесь-ка отправиться со мной. Жандармерия получила письмо с доносом на Пакё: их обвиняют в том, что они лишили свободы старика. Бригадир предуведомляет меня, что произведет сегодня осмотр в Мулен – Блан.
– То-то позабавимся, – говорит почтальон, усаживаясь.
Донос исходит от него. Но это никого не касается.
– А у вас, Жуаньо, что нового?
– Гм… – мычит Жуаньо, приберегая подготовленный им эффект. – Вы скажете, господин мэр, что я зря сбиваюсь на старое… Остерегайтесь полевого сторожа: он заодно с вашим конкурентом.
Мосье Арнальдон пожимает плечами:
– Пока вы не принесете мне доказательства…
Жуаньо берет со стола табачницу, зажимает ее между коленами и не спеша скручивает себе папиросу из тонкого табака «Капораль». Потом вытаскивает из кармана бумажку и произносит спокойно:
– Доказательство?.. Вот оно.
Мосье Арнальдон читает вполголоса:
Мосье Кюфену, полевому сторожу в Моперу
Мосье де Бьель поручил мне подтвердить получение им тех доверительных сведений, которые Вы сообщили ему в Вашем письме от 22 числа сего месяца и которые могут оказаться весьма ему полезными по ходу его избирательной кампании. Он просит меня передать Вам его признательность и уверения в совершенной преданности.
Секретарь Комитета националистов
Фабр
Жуаньо искоса наблюдает за мэром. Он ждет похвал. Но Арнальдон ведь начальник; он кладет листок на стол и говорит строго:
– Следовало перехватить не это письмо, Жуаньо, а то – от двадцать второго.
Жуаньо не смущается:
– Терпение… У меня в том лагере приятель есть. Он уж напал на след.
На этот раз мосье Арнальдон соглашается одобрительно кивнуть головой.
Тогда почтальон наклоняет туловище и, протянув руку, касается краешка стола.
– Это не все, господин мэр: следовало бы обо мне немножко подумать. Денежек мне надо.
– Опять?
– Опять? С июня не получал ни сантима! Понимать надо. Вы видите, я не скуплюсь на труды и, сказать без хвастовства, усердно работаю на вас по вашим выборам. Но на это уходит все мое время. Часа в день не могу урвать, чтобы поработать у себя в саду. Мели приходится все покупать, даже овощи. Жизнь дорогая. Скоро останусь без вина: придется до сбора винограда достать где-нибудь полбочонка. И точно так же…
Почтальон говорит, а мэр смотрит на него и, нахмурив брови, свесив нижнюю губу, высасывает из трубки мелкие затяжки, которые выпускает, как пузыри.
Жуаньо выдвигает последнюю пешку:
– Если б я захотел зарабатывать больше, мне бы стоило только слово сказать, и я получил бы повышение. У меня на то есть право. Но пока я могу, живя здесь, быть полезным партии, я останусь в Моперу. Только я нуждаюсь в помощи. Понимать надо, господин мэр.
Ничего не отвечая, мосье Арнальдон вытаскивает из кармана бумажник, развертывает кредитный билет и кладет его на клеенку.
Требуется несколько секунд для того, чтобы Жуаньо мог протянуть руку и выговорить благодарность. Это глупо: как ни владеет он собой во всевозможных обстоятельствах, каждый раз, когда он видит деньги, кровь приливает у него к горлу, перехватывает дыхание, и некоторое время он бывает точно громом поражен.
XX. Военные вдовы: мадам Сикань, мадам Геде и мадам Туш
– Мадам Сикань, – кричит Жуаньо, – вот вам весточка от вашего церковного ученика!
Огюстен Сикань – в епархиальной семинарии.
Мадам Сикань поджимает губы и берет письмо, метнув негодующий взгляд.
Почтальон спешит уладить дело:
– А почерк у него хорош, у семинариста: тут уж ничего не скажешь!
– Еще бы! – восклицают зараз мадам Геде и мадам Туш.
Всякий Божий день, утром и вечером, мадам Геде и мадам Туш сходятся у мадам Сикань для работы. Это трио военных вдов. Все они примерно одного возраста, и у всех трех по взрослому сыну – питомцу нации. Связывают их еще и другие узы: их черные платья, их набожность, их сплетни, их неприязнь к мужним женам, их ненависть к укрывшимся – то есть к мужчинам, которых пощадила война, – их пенсионерские притязания и горделивое целомудрие, которое медленно повреждает им мозги, после того как уж искалечило им тело.
По девять-десять часов в сутки трудятся они над шитьем мешков из грубого холста, на которых вильграндская мануфактура наживает непомерные прибыли. Работа неблагодарная, от нее – при голодной оплате – кровоточат пальцы и раздражаются бронхи; но зато это работа «на дому», для ее получения потребовалась поддержка мэра, и каждую неделю они дрожат, как бы не потерять ее.
Мадам Туш – тяжеловесная особа со щеками, похожими на ломти сырой говядины. У нее диплом об окончании высшей начальной школы, выражается она изящно, дает гигиенические советы и считает себя сведущей в медицине. Ее сын, пристроенный на службу к вильграндскому аптекарю, снабжает ее отварами и мазями. Как только в деревне кто-нибудь заболеет, мадам Туш летит к его изголовью, в особенности – говорят злые люди – если это мужчина. Она раздевает, она ощупывает, она натирает, она исследует; она прикладывает припарки к животам, ставит банки на поясницы, пиявок в паховую впадину и не уклоняется от зондирования бездеятельных мочевых пузырей. Ее усердие оказывается зачастую долговечнее, чем сам больной: она охотно присутствует при агониях и всегда предлагает дежурить при покойниках. Она одолевает точными наставлениями молодоженов, нескромно берет под наблюдение плодовитые и бездетные супружеские пары и знакомит их, сообразно обстоятельствам, с каталогами, которые выписывает по секрету, – не подозревая, что Жуаньо перелистывает их раньше ее.
Мадам Геде, Леонтина, – из всех трех самая молодая. Ей, по-видимому, никак не забыть, что она была белокура и хороша собой: она все еще оберегает свой цвет лица от загара. Розоватая тень ложится ореолом вокруг ее опущенных глаз. Жизнь ее вертится вокруг сына, заносчивого ломаки хрупкого здоровья, которому она выхлопотала стипендию в вильграндской профессиональной школе. Когда он бывает на каникулах, то ходит по деревне гоголем в праздничном костюме; мать бросает всякую работу, чтобы как можно полнее воспользоваться его пребыванием здесь; она не пускает его ходить в кафе с посторонними и сопровождает даже к парикмахеру. На Рождество мальчик заболел сильным бронхитом, мадам Туш пожелала за ним ухаживать, но Леонтина так и не пустила свою приятельницу к молодому человеку в спальню. Мадам Туш жестоко отомстила, рассказав всем невесть каких мерзостей насчет материнских чувств мадам Геде, а мадам Геде ни от кого не скрывает, что мадам Туш покушалась на добродетель ее сына.
Краеугольный камень всего сообщества – это мадам Сикань. Высоко носит она печальную голову, благородно увенчанную темными косами. Все в округе заметили, что запах пота от нее крепкий. С тех пор как сын ее Огюстен поступил в семинарию, грусть этой святой Моники стала вдвое торжественнее. В складе ее впалых губ есть что-то вызывающее, как говорящее:
– Я ни разу не улыбнулась с момента, когда овдовела.
Ее глаза, очень бледные на смуглом лице, цвета светлой и переменчивой воды, но воды, дремлющей над глубинами. И ее манера молниеносно взглядывать такова, что на селе нет ни одного мужчины, не исключая священника, который бы хоть раз не задал себе вопроса, уж не влюблена ли в него тайно мадам Сикань. Забавно, что сама она – обиняками – всех мужчин обвиняет в греховных вожделениях, и стоит кому-нибудь при встрече с ней полюбезнее снять шляпу, как она уж готова дать понять, что ей пришлось лишний раз столкнуться с похотливыми предложениями.
Хоть дворик мадам Сикань и является чумным очагом реакции, тем не менее Жуаньо, когда представляется ему случай отважиться прийти туда, прячет когти и засиживается там, если может, за болтовней; только в очень редких случаях не выносит он оттуда какой-нибудь хорошо выдержанной гнилостной сплетни.
– В праздники, – шепчет мадам Туш, – она, видимо, выписывает из Вильгранда других девок вроде нее…
– …чтобы получше справить шабаш! – доканчивает мадам Геде.
Разговор, по обычаю, идет о ближнем. Но почтальон не улавливает, однако, сразу, какая ближняя дает пищу беседе.
Мадам Туш оборачивается к нему:
– Мосье Жуаньо мог бы многое нам порассказать про нее, если б захотел.
– Про кого?
– Да про Фламаршу.
Свирепая гримаса растягивает губы мадам Сикань. Не отрывая глаз от благочестивого письма, которое читает, она выговаривает отчетливо:
– Таких женщин следовало бы пороть на церковной паперти, как делали в старину при королях.
– Я бы охотно за это дело взялся, – усмехается Жуаньо.
Три пары глаз расстреливают его коротким залпом.
Зловещая рысь трех или четырех лошадей на улице отвлекает внимание.
– Жандармерия совершает объезд, – замечает почтальон с видом человека, который знает, в чем дело. И, подобрав сумку, торопится распрощаться.
XXI. Жандармы у Пакё
Привязанные перед зданием мэрии жандармские лошади, изнемогая от жары, подремывают в тени каштанов.
По деревне из конца в конец с быстротой короткого замыкания передалась новость:
– Приехали арестовать Пакё.
То, что происходит в стенах Мулен-Блана, с давних пор таинственно. Даже Жуаньо ни разу не удалось войти в ворота фермы: у Пакё имеются две собаки, про которых известно, что они «предупредительны».
Имение принадлежит старику Пакё. На селе все его знали. На войне дядюшка Пакё потерял двух старших сыновей. Потом жену. Остались сын двадцати семи – двадцати восьми лет, которого зовут «тонкинцем», и дочь, немного его помоложе. Их видят часто, но издали, за полевой работой. И часто видят около них мальчугана лет четырех-пяти, который явился на свет зимним вечером без свидетелей и которого «тонкинец» объявил родившимся от неизвестного отца. Что же касается старика, то вот уж много лет, как никто его не видел. По правде говоря, до нынешнего вечера никто об этом и не беспокоился. Но присутствие жандармов разнуздывает воображение. Что старика порешили, в этом никто сейчас не сомневается. Но что же сделали они с трупом? Похоронили на краю какого-нибудь поля или сожгли в старой своей печи?
Шествие внушительное.
Впереди бригадир со своими двумя людьми. Потом мэр и мосье Энбер в сопровождении полевого сторожа и почтальона. На приличном от них расстоянии деревенские жители без различия партий – Устен, Тюль и Паскалон, Бос и Кероль, Мерлавини и Фердинан, тележник Пульод и прочие. Сзади, как на похоронах, идут женщины. Наконец, довольно далеко, замыкая арьергард, с таким видом, будто прогуливается тут случайно, – сестра священника мадемуазель Верн с мадемуазель Массо и Селестиной по бокам.
Как только жандармы свернули с шоссе, чтобы направиться по дороге к ферме, обе собаки Пакё, привязанные на дворе, выскакивают из будок и, оскалив клыки, потрясая цепями, производят адский шум. Сквозь забор видно, как приотворяется и тотчас снова закрывается тяжелая дверь фермы.
Шествие останавливается.
Бригадир без видимого волнения подходит один к воротам и, прерывая всеобщее молчание, кричит:
– Вы тут, Пакё?
Псы брызжут пеной и еще пуще заливаются лаем. Устен вынужден вцепиться в ошейник своего Гарибальди, уже готового броситься на выручку власти.
Проходит некоторое время.
На пороге показывается тщедушный малый с раскосыми глазами и низким желтым лбом. В толпе шепот:
– «Тонкинец»…
Он затворяет за собой дверь, смотрит на бригадира и, не делая ни шага вперед, говорит:
– Чего вам надо?
– Заставьте замолчать ваших собак и отворите ворота.
Голос энергичен, в нем звучит угроза, которая находит отклик во всех сердцах. «Тонкинец» теребит некоторое время усы, потом не спеша повинуется.
Следом за жандармами группа мэра храбро проникает в усадьбу. Остальные любопытные приплющиваются к забору.
– Ваш отец здесь еще проживает?
Малый колеблется, однако не сдается:
– Это никого не касается.
– Простите, меня это касается. Мне надо с ним переговорить.
– Скажите в чем дело. Будет передано.
– Мне надо переговорить именно с ним и лично, – решительно заявляет бригадир, делая шаг по направлению к дому.
«Тонкинец» остается стоять перед закрытой дверью. Он говорит, не глядя на бригадира:
– Напрасно думаете, что можно таким способом к нам войти! Ну нет!
Бригадир опустил руку на кобуру револьвера. Неодобрительный ропот проносится по толпе – семью Пакё не любит, но еще того больше ненавидят жандармерию.
Бригадир вытащил из кобуры бумажку, которую развертывает на глазах у фермера:
– Берегитесь, Пакё, это может плохо для вас кончиться. Вас обвиняют в том, что вы лишили свободы беззащитного старика. Мы посланы, чтобы пролить ясность на это дело. Впустите меня. А не то…
Оба жандарма сделали такое движение, точно готовятся схватить человека и надеть ему наручники. «Тонкинец» вскидывает глаза затравленного зверя, разглядывает одного за другим жандармов, мэра и всех, кто вошел во двор. Свирепо, тряхнув плечами, он говорит, точно отплевываясь:
– Начихать мне! Входите, коли хотите! – Потом, стуча кулаком в дверь, приказывает сурово: – Отопри!
Слышно, как скользят задвижки, и дверь поворачивается на петлях.
Зала фермы, на редкость темная и закоптелая.
Дочь Пакё отошла в глубину комнаты, где стоит кровать, под распятием, украшенным высохшими цветами. Она худа и плохо сложена. Малыш в короткой рубашонке, упрятав голову под материнский передник, выставляет напоказ один только румяный свой зад. Как бы защищая сестру, «тонкинец» встал рядом с нею.
– Ладно, – говорит бригадир, помолчав. – А папаша где же?
– У себя.
– Где это?
– В своей комнате.
– Да где же это?
Сын и дочь разом подняли руки, указывая на низкую дверь в ногах кровати.
– Покажите, как пройти, – говорит бригадир.
Человек оборачивается к сестре, потом идет к двери и отворяет ее. Она ведет в прачечную, сырую и темную; в глубине другая дверь, которую Пакё-сын без постороннего побуждения отпирает ключом.
Бригадир нагибается, чтобы войти в чулан площадью в четыре квадратных метра, откуда затхло пахнет.
На койке сидит старик в совсем новой блузе, словно подпирающей ему туловище. Узловатые кисти рук скрючились на коленях. Своими часто мигающими, отороченными красным глазами, лишенными всякого выражения, смотрит он на входящих.
Чулан пристроен к дому: только у самого входа можно стоять выпрямившись. Потолка нет. В черепичном скате между стропилами оставлено застекленное слуховое оконце. Пол земляной. На табуретке стоит чистая миска, а перед кроватью – судно, без крышки и пустое, но издающее аммиачный запах.
– Здравствуйте, дядя Пакё, – говорит бригадир.
Старик растерянно поднимает голову, глядит на жандарма и ничего не отвечает.
– Что вы тут делаете, в этой кладовушке?.. Почему вы не в зале, вместе с вашими детьми?
– Ему здесь больше нравится, – грубо выкрикивает дочь.
Все, даже старик, устремляют на нее взоры. Она косоглаза, и от этого еще более наглым кажется выражение ее лица.
– Я со стариком говорю, дайте ему самому ответить… Отчего это вы, дедушка, здесь в такую прекрасную погоду?
Тут так воняет… Разве не лучше было бы вам на улице?
Старик смотрит на дочь, потом на сына, потом наконец на бригадира. Но не произносит ни слова.
– Ну, вставайте, – продолжает бригадир. – Мы пришли, чтобы дать вам подышать свежим воздухом. Мне думается, вы сидите тут не ради собственного удовольствия!
– Вот именно! – бросает дочь. – Ради собственного удовольствия!
Бригадир пытается взять дядюшку Пакё под руку.
Однако старик вырывается с неожиданной прыткостью.
– Нет!
Дочь усмехается.
– Не хотите, чтобы вам помогали? Хорошо. Тогда вставайте сами. Пойдем в залу, там мы с вами объяснимся.
– Нет!
– Отчего?
Молчание.
– Вы боитесь ваших детей?
– Никого не боюсь! – бормочет старик.
– Тогда зачем же вы соглашаетесь, чтобы держали вас тут взаперти?
– Он не взаперти! – возражает дочь.
– Простите. Дверные замки открываются только ключом, а ключи от обоих дверей снаружи. Это называется быть взаперти.
– А если ему тут хорошо? – вопит дочь. – Оставьте нас в покое!
– Оставьте нас в покое! – повторяет старик тем же резким тоном.
– Чего там, – говорит бригадир, – это и без очков видно: ваши дети засадили вас сюда, чтобы быть хозяевами и вместо вас пользоваться вашим имуществом!
– Вранье! – сквозь зубы выцеживает дочь.
Старик смотрит на нее и лопочет:
– Вранье…
– Старый человек, – объясняет «тонкинец» со сварливым и хитрым видом. – Сил у него больше нет. Хочет сидеть тут, потому что хочет покоя… А насчет того, чтобы есть досыта, – ест досыта. И насчет того, чтобы иметь все необходимое, – имеет все необходимое! Правду говорю, отец?
– Да.
Дочка ввязывается:
– Эти теплые туфли, что у него обуты, это я их вяжу, потому что ноги у него всегда зябнут… Правду говорю?
– Да.
Сын подходит на шаг ближе:
– Покажи-ка жандармам свое курево!
Старик послушно роется под тюфяком. Вытаскивает оттуда почерневшую трубку и – в картузе из газетной бумаги – табак.
«Тонкинец» торжествует:
– Ни в чем ему не отказываем. Прощаем ему все причуды… Правду говорю, отец?
– Да.
Бригадир в недоумении, он ворчит:
– Все-таки не очень-то это правильно, что ни говорите!
Он нагибается и кладет старику руку на плечо:
– Послушайте, дядя Пакё, в последний раз: скажите мне всю правду. Мы не хотим вам зла. Отчего вы тут? Оттого ли, что вам это по душе? Или же оттого, что вас лишили свободы?
Старик, не говоря ни слова, встряхивает плечом.
Дочка принимается орать:
– Кого это касается? Хозяин он у себя, да или нет?
– Заткнись! – говорит брат.
Дядюшка Пакё бросает на дочь злобный взгляд. Но повторяет за ней, словно эхо:
– Хозяин я у себя, да или нет?
Молчание.
Бригадир выпрямляется, качает головой, глядит вопросительно на своих людей, на мэра, на полевого сторожа, на почтальона и отступает наконец к дверям:
– Мне наплевать в конце концов. Я пришел, чтобы вызволить вас отсюда. Но если вам угодно подыхать в этой навозной яме, это ваше дело! До свиданья!
На дворе десяток любопытных – более смелые столпились на солнце перед отворенной дверью.
Девушка видит их и еще пуще распаляется гневом:
– Как не стыдно напускать на нас столько народу!
Она задирает ногу и замахивается деревянным своим башмаком, точно намереваясь избить бригадира. Но рука брата хватает ее; она роняет башмак с бешеным криком.
За забором начинают потешаться; драма завершается фарсом.
– Ну-ну, – бубнит бригадир, – не толпиться! Расходитесь!
Он оборачивается к мосье Арнальдону и заявляет очень громким голосом:
– Вы видели, как обстоит дело, господин мэр. Мне нечего больше говорить. Я подам рапорт.
В сопровождении двух жандармов он с достоинством выходит из усадьбы и проходит сквозь толпу, будто не слыша за своей спиной враждебных шуток и свистков.
– Поганое ремесло… – шепчет Жуаньо, нанося Кюфену стенобитный удар локтем в бок. – Скажу я тебе, капитан: лучше бы я согласился быть шутом гороховым – полевым сторожем вроде тебя, только не шпиком!








