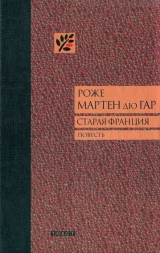
Текст книги "Старая Франция"
Автор книги: Роже Мартен дю Гар
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
X. Тележник Пульод
Дым поднимается между домами, за церковью. Это у Пульода, у тележника.
Пульод обтягивает колеса только раз в три месяца, когда наберется довольно заказов, чтобы стоило этим заняться; и всякий раз это целое зрелище для соседей. Хоть у Жуаньо нет сегодня ни писем, ни газет для Пульодов, он все же поддается искушению свернуть в переулок и постоять минутку в толпе любопытных. На дворе у тележника большая кутерьма. Дядя Пульод, с сыном Никола и с учеником Жозефом в качестве помощников, бушует и отдувается вокруг огромной кучи дров, которая пылает посреди насыпной площадки, как некий древний костер.
Тележник – старый человек атлетического сложения. Ошейник седой бороды, обрамляющий его прокопченное лицо, придаст ему вид морского волка. Никто никогда не видел его улыбки. Жена после пятнадцати лет рабства покинула его: он устроил ей в самом деле слишком уж суровое существование: она умерла от истощения. Он живет с сыном Никола, которому противно его ремесло и который хотел бы пойти учиться по письменной части; но так и не решился ни разу заговорить об этом со стариком. На Пульода во всей округе смотрят косо: говорят, что нет в нем дружелюбия. Это не мешает его тележной мастерской пользоваться известностью даже в Вильгранде.
Со вчерашнего дня приступили к работе. На подстилку из сухой соломы и хвороста Пульод положил десяток железных шин, одну на другую; потом заполнил внутреннее их пространство старыми выкорчеванными пнями, а снаружи воздвиг тройную круговую изгородь из поленьев, так что все железо скрылось под громадной, совершенно круглой кучей примыкающих к нему дров. Нынче утром оставалось только вылить на них полбидона керосина и поджечь.
Дрова трещат; черный дым расплывается длинными султанами, которые кружат по двору, потом развертываются в жарком воздухе и долго парят над крышами.
Когда подходит Жуаньо, прогоревшие поленья местами уж начинают осыпаться, и показываются шины, наваленные на куче красных углей. Это и есть тот момент, которого поджидает Пульод, чтобы приняться за работу. Сумасбродный и самовластный, он все делает сам: мальчики только прислуживают ему и терпят его грубости. Он кричит:
– Подавайте!
Никола и Жозеф бегут за первым колесом, приготовленным для оковки. Они докатывают его до самого костра, кладут на большую железную звезду и закрепляют на ней колком, проходящим через ступицу. Тогда все трое мужчин вооружаются длинными стальными прутьями с крючками на конце и становятся на одинаковом расстоянии вокруг огня.
– Раз, два и три! – командует старик.
Общими усилиями они вытаскивают из самого пекла раскаленную шину, подносят ее к колесу, которое почти одного с ней диаметра, и накладывают ее на него точно, край на край. При соприкосновении с красным железом деревянный обод мгновенно вспыхивает.
– Живо! – кричит Пульод.
Две полных лохани с водой стоят наготове, под рукой. При помощи леек, которые окунают в лохани, Никола и Жозеф спешат залить загоревшееся колесо. Ослепляющий пар поднимается со свистом и заставляет любопытных податься назад. Огонь, погашенный с одной стороны, занимается с другой. Лейки наполняются и опоражниваются, вода течет потоками, мальчики топчутся в грязи, борются с пламенем, которое то замирает, то возрождается на окружности колеса. А Пульод длинной колотушкой бьет по шине, пока она плотно не охватывает обод. И скоро в белом тумане, где погасли в конце концов все огни, металлический обруч, сжимаясь при охлаждении, неразрывно смыкается с деревом. Первое колесо оковано.
– Гоп! – кричит старик.
Мальчики осторожно поднимают колесо, а Пульод, просунув прут во втулку, катит его к перекладине на козлах, расположенной над желобом с водой. Там Пульод подвешивает и выравнивает колесо так, чтобы оно могло подольше самостоятельно вертеться и окончательно остыть. Мало-помалу потрескивание затихает, и колесо останавливается, безмолвно купаясь в воде.
Маленький Жозеф уж ног под собой не чувствует. Глаза лихорадочно блестят от усталости. Синие холщовые штаны промокли до колен, и липнет к спине пропотевшая рубаха.
– Следующее! – кричит тележник.
– Катайте, ребята! – произносит Жуаньо и свистит своих спаниелей.
XI. Мадам Массо и ее дочь
Обиталище и жизнь мадам Массо суровы. С улицы видна только высокая стена – стена Массо, пробитая тюремными воротами. У мадам Массо и у ее дочери есть деньги, но, кажется, только одни они этого не знают и живут себе, словно бедствующие святые угодницы, преследуемые страхом впасть в нищету.
Жуаньо со своими собаками храбро проникает в эту клерикальную твердыню.
Посреди мощеного двора, обнесенного тремя жилыми корпусами, тридцатипятилетняя мужеподобная дева в двурогом колпаке из газетной бумаги чистит на солнце птичью клетку.
– Заказной пакет на имя вашей матери, мадемуазель. Мне нужна ее подпись.
Мадемуазель Массо отставила лейку. Она оглядывает почтальона недружелюбно и недоуменно. Она готова, кажется, в одинаковой мере уступить ему безответно поле сражения или напасть на него и вытолкать вон. Однако кивает, поворачивается вокруг собственной оси и поднимается на крыльцо. Жуаньо следует за ней. Они минуют переднюю с выложенным плитками полом, прохладную, как погреб, и взбираются по ветхой каменной лестнице со стертыми от шагов ступенями.
За решетчатыми задвинутыми ставнями мадам Массо вяжет, запершись в своей комнате, а заодно и в своей глухоте. Она одета, как на каком-нибудь портрете, в просторное изношенное платье. Целый день, да и ночью тоже – потому что она почти не спит, – считает она петли и скрещивает в шерсти длинные скрежещущие спицы. В продолжение двадцати пяти лет все деревенские дети (а во время войны и все местные бородачи на фронте) немилосердно потели в носках, кальсонах, жилетах и шарфах, связанных благочестивыми руками мадам Массо. Это единственный ее расход, так покупает она право говорить: «Мои бедняки».
Глухая не слышала даже, как отворилась дверь. Она вздрагивает, когда дочь ревет ей в ухо:
– Мама, это почтальон, за вашей подписью.
Старое лицо, бледное и хрупкое, как шелковая бумага, оборачивается в страхе сперва к почтальону, потом к дочери.
Мадемуазель Массо поняла. Она спрашивает:
– Это не наложенный платеж, по крайней мере?
– Нет, мадемуазель.
– Платить ничего не надо, – кричит мадемуазель Массо обнадеживающим голосом.
Тогда мадам Массо с неожиданным проворством поднимается, вытаскивает связку ключей, трусит к письменному столику и открывает его. Вынимает оттуда маленький пузырек, который осторожно откупоривает, и обмакивает в него ржавое перо.
– Здесь, – произносит Жуаньо, показывая место для подписи в своем реестре.
Чернила до того выцвели, что он дует на них, не решаясь приложить промокательную бумагу.
Женщины снова обмениваются взглядом. Нет, не надо чаевых антиклерикальному почтальону.
На лишенном тени дворике, где чирикают чижики, спаниели, обнюхав клетку, вылакав воду из лейки и обрыскав впустую по всем углам, растянулись с высунутыми языками на горячих камнях.
Мадемуазель Массо с крыльца проверяет, хорошо ли Жуаньо затворяет за собой ворота.
Когда мадам Массо, которую никто в этом краю не знал, поселилась со своей дочуркой в необитаемом до тех пор доме покойной бабушки ее мужа, про нее были пущены неблагоприятные слухи. Но можно ли было утверждать, не впадая в неправдоподобие, что эта не вылезающая из церкви богомолка когда-то, в дни полной приключений молодости, пела в марсельских притонах? И что легкость ее ноги, как говорили, могла стать причиной поединка, где капитан Массо обрел смерть, – на гарнизонной стоянке в Южном Алжире?
Это было двадцать пять лет тому назад, и об этом никто больше не вспоминает. Уж двадцать пять лет, как мадам Массо живет одна с дочерью, в этой старой хоромине, где пахнет, как и от нее, камфарой, перчаточной кожей и нутром давно не открывавшихся сундуков. Две женщины занимают только две комнаты. Моль, мухи, мыши и пыль завладели коридорами и плиточными полами, вешалками с нагроможденными на них пустыми картонками и белыми комнатами с грубо отделанными панелями, с расшатанными стульями и кроватями под балдахинами. Перед окнами образовались черные кучи, которые при малейшем дуновении шелестят, как опавшие листья: подохшие мухи – со скуки подохшие.
Стоя посреди комнаты, мадам Массо переворачивает на все лады в кукольных своих пальчиках пакетик. Она ждет возвращения своей телохранительницы. Во всем, что требует какого-нибудь самостоятельного почина, она полагается на эту сильную девушку, костистую и полнокровную, которая умеет качать воду, пилить дрова, чистить трубы, натирать паркет, петь обедню, спорить со сборщиком налогов и даже при случае ловко свежевать кролика, вылущивая ему глаза кончиком ножа.
Мадемуазель Массо быстро вскрыла посылку. Но женщинам нужно еще добрых четверть часа, чтобы понять, что с ними произошло и что этот свинцовый тюбик, нежданно-негаданно ввалившийся в их существование, не что иное, как безобидный образчик зубной пасты, закатанный в проспект парфюмера.
Затем жизнь, на мгновение взбаламученная, вступает в прежнее свое течение: мать возвращается к вязке, дочь – к чижикам.
Ей теперь за тридцать. По весне смутная тревога то и дело манит ее к птичьей клетке; эта деятельная девушка может часами неподвижно глядеть на гнезда, где самки сидят на яйцах. Когда вылупятся птенцы, тайная ее радость – упрятать одного из них, еще тепленького, к себе под корсаж и приняться как ни в чем не бывало за работу. Раз она унесла одного с собой даже в церковь.
Каждый день – зимой в три часа, летом в пять – можно наблюдать, как она входит в храм. Она идет прямо к исповедальной будке и берет за занавеской свой фартук и косынку. Мадемуазель Верн к этому времени обычно уже там. Неторопливо, как две работницы, которые любят свое дело и стараются продлить удовольствие, подметают они каменный пол, обтирают скамьи, выравнивают ряды стульев, заправляют лампадку перед святыми дарами. Канун праздника для них уж праздник: в такие дни работа занимает все послеполуденное время. Надо начистить канделябры, сменить покров на престоле, просмотреть облачение, поставить в вазы зелень и цветы. Они устраиваются всегда так, чтобы работать бок о бок, и лопочут безостановочно, как две прачки; все новости дня просеиваются сквозь решето их назидательной строгости; но голос их так тих и однозвучен, будто они творят молитву; всякий раз, проходя перед дарохранительницей, они наскоро преклоняют колено: акт вежливости, заодно и почтительный и панибратский, ибо чувствуют они себя здесь по-семейному.
Мадемуазель Массо нехороша собой, но этого не знает. Грубые сочленения, лошадиная шея, густые брови, опухшие, словно ознобленные руки и, в довершение неприглядности, легкий черный пушок над уголками губ. За последние годы она часто ощущает какие-то огненные приливы к щекам; красные пятна появляются и исчезают на шее, на плечах, на руках; может быть, и на других частях тела. Она думала посоветоваться с врачом, но умерла бы скорее, чем разделась на глазах у мужчины: по многим причинам, из которых наименьшая – это состояние того, что надето у нее под платьем. Когда она меняет белье – в первое и третье воскресенье каждого месяца, – она открывает всегда дверцу зеркального шкафа, чтобы избежать нескромного соблазна посмотреться; она придерживает свою двухнедельную сорочку зубами и дает ей соскользнуть на пол только после того, как наденет на себя чистую.
Она удивилась бы, если бы ее спросили, счастлива ли она. Выражение ее лица – скорее беспокойное; бывают дни, когда странным одушевлением блестят ее глаза; а взгляд, которым она окидывает детей, часто исполнен чрезвычайной нежности.
Однажды летним вечером, возвращаясь от жены дорожного рабочего Фежю, которой она относила детские кофточки, она пошла по тропинке, берегом реки. Три мальчугана, выйдя из воды, ходили по траве на руках, ноги вилкой. Ей пришлось пройти между ними. Один из них, старший, был уже не ребенок…
Мадемуазель Массо была растревожена этим на долгие месяцы: перед сном ей невольно вспоминалась эта картина. Было это верных пять или шесть лет тому назад, и с тех пор она ни разу не ходила больше по тропинке.
XII. Огородники Лутры и «фриц»
Лутры живут на краю болота. У них всегда немного прохладнее, чем у соседей. Дом огородника затейлив, хорошо обихожен: это «фриц» по воскресеньям чинит крышу, перекрашивает ставни и мастерит крошечные, пестро размалеванные мельнички, которые при малейшем ветерке вертятся на всех заборных столбах.
Жуаньо отворяет калитку:
– Здравствуй, паренек!
Под навесом мальчик, усевшись промеж уставленных штабелями корзин, чинит их лозняком.
Он выходит на солнышко и, нагнувшись чтобы погладить спаниелей, зовет свежим голосом:
– Мама!
От загара, придающего родниковую ясность его взгляду, светлые пряди курчавых волос кажутся почти белыми.
– Заходите в залу, мосье Жуаньо, – говорит мадам Лутр, показываясь на пороге. – А мужики как раз хотели с вами потолковать. Сходи за ними, Эрик!
Легким прыжком перескакивает подросток через забор и убегает.
Разбитый на маленькие прямоугольники, вправленные в сверкающую на солнце воду, огород тянется до самого болота: виднеются рядышком два туловища в белых рубахах; мальчик, чтобы добраться до них, скачет напропалую через колпаки над дынями, похожие на выстроившиеся в ряд кровососные банки.
До войны Лутры были бездетной супружеской четой, скотоводами, с трудом растившими коров и сбывавшими в деревне молоко. Жена получила в наследство этот самый дом в развалинах и несколько гектаров лугов, погрязших в иле.
Началась война. В первые же недели Лутр попал в плен. Мадам Лутр пришлось выпутываться. Скот продавался хорошо. Она увеличила число голов. В помощь себе она истребовала пленного немца.
«Фриц» всю молодость провел в Баварии, на службе у огородника. Мастер на все руки, работяга, он сразу разглядел, какую выгоду можно извлечь из этих заболоченных рытвин. Вызывая насмешки соседей, он прокопал канавы, заложил дренажные трубы, осушил почву и, пользуясь склонами, наладил целую систему орошения при помощи лопаточных шлюзиков собственного изобретения. Мадам Лутр работала с ним за мужчину. В два года топкие луга были превращены в плодородные земли, и мадам Лутр, жадная до наживы, нашла способ приступить к небольшой огородной их эксплуатации.
Деревня перестала смеяться: враждебная, завистливая, она наблюдала, как преуспевает их предприятие, и мстила пересудами насчет парочки. Рождение ребенка довершило скандал. Ждали со злорадным раздражением конца войны и возвращения мужа, известного свирепым нравом. По заключении перемирия всеобщее изумление: наглячка не уволила «фрица»!
И как-то однажды прибыл Лутр – без предупреждения. Но пятьдесят два месяца концентрационного лагеря обратили тупоумного грубияна в хилого и ленивого выздоравливающего, который только и мечтал, что наесться досыта да понежиться. Он застал жену располневшей, разбогатевшей, дом перестроенным, стол изобильным, торговлю уже процветающей; а в ивовой люльке, сплетенной «фрицем», благополучно рожденного, готового малыша. Совсем одурев, он смотрел на все это без гнева: под низким своим лбом он взвешивал все «против», а главным образом все «за».
– Не будь тряпкой, – сказала ему жена, – если хочешь себе пользы, работай с нами. «Фриц» тебя научит.
Лутр ничего не ответил, но после нескольких дней отдыха, укрощенный, принялся за учебу.
В сущности, дело ведет жена. Счет в банке остался на ее имя. Когда она говорит о муже и о баварце, она, точно какой-нибудь капрал, называет их: «мои люди».
У них в доме, в каждой из двух спален по большой кровати. Мадам Лутр спит на одной, сын ее – на другой. Но никто так и не знает, который же из двух «людей» делит ложе с ребенком и всегда ли один и тот же.
– Освежитесь чуточку, мосье Жуаньо, – говорит мадам Лутр.
Ее крестьянское лицо спокойно, но жестковато. Она ставит на стол запотевший кувшин и наполняет три стакана пенистым напитком.
– Это «фриц» готовит, – говорит она, – из рябины, настоенной на меду.
Зала не похожа ни на одну из местных зал. Жуаньо никак не решается пускать сюда своих собак. Мебель, паркетный пол – светлые, под воск. Дневной свет просачивается сквозь пеньковые занавески. На окнах цветы в жардиньерках из разноцветной дранки. Несомненно, что и тут опять-таки не обошлось без «фрица».
Мужчины входях в носках – ради паркета. Одеты они одинаково – чистые рубахи и парусиновые штаны. Но французский крестьянин, короткий и толстобокий, рядом с немцем глядит чернорабочим.
– Пейте полегоньку: это предательская штука в такую жару, – говорит женщина повелевающим голосом. И, обведя всех взглядом, удаляется медлительно.
Трое мужчин молча усаживаются за стол.
– Надо, чтобы ты оказал нам услугу, Жуаньо, – говорит Лутр.
Благодаря глазам-буравчикам и носу со вздернутым кончиком, похожему на птичье гузно, он на вид хитрее, чем на самом деле.
– Это насчет «фрица». Хотелось бы его «национализировать».
Баварец, склонив к плечу голову Христа, опускает взор на паркет.
– Что? – произносит Лутр так, как будто Жуаньо выразил удивление. – Ты не перечь: всем было бы лучше.
Он пьет, выдерживает паузу и продолжает:
– Не знаем, какие формальности. Надо, чтобы ты поговорил с мэром и обделал бы нам это поскорее.
Жуаньо чувствует на себе золотисто – карий взгляд «фрица» и взгляд Лутра, голубой и ясный.
– Скажу тебе сразу, Жуаньо, – заговаривает опять Лутр, – время, какое ты потратишь на это дело, будет для тебя не потерянное время, тут вопроса нет. Жена с этим согласна. Услуга услугой. А деньга деньгой.
– Брось толковать об этом, – говорит почтальон, – «фриц» такой человек, что я к нему питаю уважение. Я поговорю с мэром, если хочешь. Только, скажу я тебе: «национализация» по нынешним временам – это должно стоить больших денег.
– Так дорого?
– По моим соображениям – да.
«Фриц» снова потупляется и длинными костлявыми пальцами оглаживает свою ощипанную птичью шею. Лутр, опустив веки, играет некоторое время пустым стаканом. Потом встает:
– В таком случае, видишь ли, надо прежде всего и первее всего узнать цену. Это жена вбила себе в голову. А по мне, не такой уж это спешный расход. Ты справься… Там увидим, стоит ли того.
– Понял, – говорит Жуаньо, забирая свои сумку.
Мадам Лутр стояла за дверьми. Лицо у нее стало еще жестче, чем было. Она кидает на почтальона взгляд:
– Значит, можем на вас рассчитывать, не правда ли, мосье Жуаньо?.. А вот тут хорошенькая сахарная дынька, вашей супруге на завтрак.
XIII. Старые бельгийские беженцы. – Цыганочка. – Морисота
«Бельгийцы» просыпаются всегда до петухов: но чтобы обоим подняться на ноги, требуется несколько часов. Старуха первая встает с кровати. Она скрючена под прямым углом и долго мучается, пока удастся ей наконец выпрямиться. Отдыхая после каждого усилия, она надевает чулки, нижнюю юбку.
«Бельгиец» смотрит на нее с кровати. Ему хотелось бы ей помочь. Но сам он гораздо больше нуждается в ней, чем она в нем. Одевшись наконец, она откидывает одеяло и стягивает с матраца две тяжелых ноги своего мужа. Потом проходит за кровать, упирается пятками в плинтус, а руками в спину старику, уцепившемуся за свисающую с потолка веревку, и пихает его изо всех сил. Они друг друга ободряют:
– Раз!.. Раз!..
Туловище старика приподнимается и снова падает. Много раз. Она сердится, ругает его, называет бессердечным, эгоистом; а иной раз даже плачет с отчаяния. Наконец ему удается добиться размаха, раскачаться и стать на ноги. В стоячем положении, босой, со сведенными коленями, с горбатым носом и подбородком в виде галошной подошвы, он напоминает полишинеля. Но самое трудное сделано. Опираясь на палку, он добирается до стены и приваливается к ней спиной. Тогда она садится перед ним, чтобы надеть ему носки и брюки. И он благодарит ее, поглаживая по шее шершавой рукой.
Держась друг за друга, они выходят мелкими шажками и устраиваются на улице. День начинается. «Бельгийцы» живут у себя на дворе.
Они явились в Моперу в августе 1914 года. Все беженцы, прибывшие вместе с ними, давно разъехались. Они же купили этот домик, несколько оторванный от деревни, и остались тут стариться. Вежливые со всеми, услужливые при случае, они ни с кем не поддерживают отношений, и их не любят: по местным наблюдениям, они все только продают и никогда не покупают. Несмотря на возраст, старуха еще в прошлом году не останавливалась перед тем, чтобы раз в месяц пройти пешком три лье, отделяющие Моперу от Вильгранда, только затем, чтобы продать там на двадцать пять су дороже пару голубей или корзинку слив. Но теперь пришла настоящая старость. «Бельгиец» не встает больше с кровати или с соломенного кресла. А старуха, сидя подле него, поднимается только для самых необходимых дел: немножко супу подогреть, плошку воды достать, горшок принести или бросить горсть отрубей последнему оставшемуся в живых кролику.
Жуаньо застает их сидящими перед кухней.
Двор, когда-то хорошо содержавшийся, теперь весь зарос пыльной крапивой. Иссохшая листва акации разбрасывает вокруг двух стариков скудную тень. Но их остывшая кровь не боится солнца.
– Здравствуйте, сосед!
«Бельгиец» улыбается. Жуаньо называет его соседом с тех пор, как купил участок виноградника на склонах Буа-Лоран, межа в межу с участком старика.
– Вот вам вести с родины, – говорит почтальон, открывая сумку, – требовать не смею, а придется вам все-таки марку мне оставить, для коллекции начальника станции.
Старуха печально трясет головой. Под широкополой шляпой из черной выцветшей соломки – ни дать ни взять – мертвая голова, смешно приукрашенная белыми кудряшками.
– Очень скучно стариться, мосье Жуаньо. Особенно таким, как мы: семьдесят два года, одинокие, вдали от родины… Присядьте на минутку. Не часто нам случается гостя принимать. Ночами, верите ли, иной раз страх на меня находит… Когда один из нас помрет, положим – я, что с ним-то станется, когда никого при нем не будет?.. Уж я вам скажу, мосье Жуаньо, – он теперь больше и по своей надобности сам ходить не может.
Старик, не шевелясь, зажав палку между острыми коленками, не сводит с почтальона светло-водянистого взгляда, в котором читаются стыд и страх.
– Отчего же вы не возьмете прислугу?
Старухин рот кривится.
– Спасибо! Пришлось бы ей жалованье платить! Чтобы то немногое, что получаем еще от сдачи половины сада и виноградника в Буа-Лоран, пошло в чужой карман? Хорошее дело!.. Ах, мой дорогой мосье Жуаньо, мы часто говорим об этом между собой: вот что нужно бы сделать, если бы мы могли еще расхаживать туда и сюда, – найти бы хорошую девушку, надежную и не потаскуху. Сказать бы ей: «Приходите жить с нами; без всякой платы, конечно; а после нашей смерти оставим вам все: дом с садом и виноградник в Буа-Лоран, да наши маленькие сбережения в придачу!..» – Она стискивает сухие свои руки и вздыхает: – Вот что было бы нужно, мосье Жуаньо. Да теперь уж поздно. И найти такую девушку, это сейчас то же самое, что мне вдеть нитку в иголку без очков…
«Господи Боже мой! – думает Жуаньо. – Дом, сад… Виноградник…»
Он выехал из деревни и под неумолимым солнцем работает педалями в направлении к Фурш, к лавке мадам Фламар.
Лежа на краю дороги, девочка сторожит козу, которая пасется вдоль ограды. Это дочь Морисоты, как именуют жену чахоточного Морисо. Она хорошо сложена для своих пятнадцати лет; это заметно и под рваным запоном, который обтягивает ее нарождающуюся грудь.
Жуаньо радуется поводу передохнуть.
– Ну, как у тебя дома дела, девчонка?
Она следила за его приближением, не шевелясь. Ее черные, слипшиеся от пота спутанные волосы, блестящие глаза под длинными ресницами и смуглая кожа придают ей сходство с юной цыганкой.
Она пожимает плечами:
– Нынче опять его рвало кровью.
Почтальон смотрит, как спаниели обнюхивают у девочки икры.
– Это ты, чтобы псов подманивать или комаров угощать, ходилки свои нам этак показываешь?
Она подбирает ноги, натягивает немножко юбку на голые колени и посмеивается:
– А вам-то что за дело до этого, вам-то?
– Эх, язычок проклятый! – игриво говорит Жуаньо. – На тебе, наверное, даже и штанов-то нет… Стоило бы покрепче настегать тебя по заду, маленькая потаскушка!
Она уж на ногах и проворно отскакивает в сторону:
– Как бы не так!
Вокруг нее насыщенный зноем воздух дрожит, как над огнями, зажженными в дневную пору.
Почтальон щурит глаза:
– Попадись ты мне только одна в лесу, милочка моя, – там небось так не пофорсишь, как на большой дороге!
Он смеется, обтирает себе лоб, садится на велосипед и едет дальше со своими мыслями: дом, сад, виноградник… Особенно этот негодяй-виноградник так и лезет в голову – прехорошенький кусок земли, расположенный как нельзя лучше на солнцепеке и как раз бок о бок с его собственным клочком виноградника… Вдруг он резко напрягает поджилки:
– Морисота! Вот оно что!
Он чуть не теряет равновесия, выправляется и лупит дальше насвистывая.
Он не чувствует больше солнца, которое палит ему загривок. За ним собаки бегут рысцой в спиралях пыли, надолго повисающих над дорогой. Он теперь в открытом поле. Ни одной живой души. Только шелковистый шепот колес да собачья одышка нарушают тишину. Справа недавно сжатая нива золотится на солнце; слева ряды свекловицы и ни одного деревца. Тучные коренья, похожие на вылезающие из десен зубы, будто рвутся вон из сухой земли, где им душно. Выводок молодых куропаток поднимается внезапно с шумом и опускается в тени ближайшей ограды, пролетев для сбережения сил над самой землей.
Вместо того чтобы ехать в Фурш, Жуаньо сворачивает на полевую тропку.
Лачуга Морисо затерялась среди пашен. Когда подбегают собаки, женщина лет тридцати, темноволосая и крепкая, занятая чисткой котелка у колодца, выпрямляется и оборачивается.
– А он где? – кричит Жуаньо. – Можно его повидать? – Он понижает голос: – Мне надо сказать тебе два слова, Морисота…
Одна комната, вся закоптелая и пропахшая кислятиной. В алькове, на соломенном матраце умирающий сидит, выпрямив туловище, подпертое старыми набитыми сеном мешками. Ни буфета, ни стульев: одна лавка перед опрокинутым ящиком, заменяющим стол; а в углу другой соломенный матрац – для цыганочки. В открытое окно проникает тяжелый запах сварившейся и переварившейся на солнце навозной жижи. Собаки обходят всю комнату, обнюхивают тело и без постороннего понуждения выбегают в дверь.
– Не лучше? – спрашивает почтальон.
– Лучше! – произносит Морисо голосом, который гудит точно под сводами Он бросает на жену вызывающий взгляд. – Завтра встану!
Женщина и мужчина оглядывают друг друга злобно, словно они наедине.
– Только затем и хочет встать, пачкун, чтобы напиться, – высвистывает Морисота. – Да тут-то ни капли сивухи больше нет. А чтобы в деревню ему сходить, насчет этого я спокойна: десять раз подохнет, пока до кабака доберется.
Морисо икает и стискивает челюсти. Он пригвожден к своему месту и бессилен. Роли переменились. От этой самки, которую всего каких-нибудь полтора месяца назад он осыпал ударами – просто так, ни за что, ради собственного удовольствия, – от нее теперь он сам в полной зависимости. Его душит бешенство – неподвижное бешенство зверя в капкане.
Их в этом краю знают с незапамятных времен: оба они – питомцы общественной благотворительности, воспитанные где-то в окрестностях. Окружной инспектор их поженил. Она – служанка в харчевне, в семнадцать лет беременная; он – чернорабочий и браконьер, внушивший всеобщую к себе неприязнь и страх, часто безработный: мало охотников нанимать найденыша, незаконнорожденного. От нужды он, пока был здоров, соглашался на тяжкую работу и на самую низкую оплату. А утешался, пропивая вечерами получку у Боса. Когда посетитель нагружался, а кошелек его, соответственно, разгружался, кабатчик выкидывал его за дверь. Морисо возвращался к себе в лачугу, спотыкаясь и царапаясь о заборы. Чтобы сорвать гнев – или стыд, – он стаскивал жену с постели и принимался ее колотить. Потом, достаточно намяв ей бока, он заваливал ее на матрац.
Девчонка спросонья щелкала зубами от ненависти и страха. Зачастую и на ее долю выпадали тумаки. А за последние месяцы – и ласки. Мать – лишь бы оставили ее в покое – укладывалась на свое место и не препятствовала.
– Ты ему не дочь, – говорила она, – а не то, я бы его упрятала.
Жуаньо, ведя велосипед за руль, идет серединой тропинки. Он ступает большими шагами и объясняет, в чем дело. Рядом с ним молча семенит Морисота.
– Это слишком хорошо, чтобы могло быть правдой, – лепечет она наконец.
– Не прикидывайся дурой! – ворчит Жуаньо. – И дай мне самому обделать все дело. Только – поняла? – услуга за услугу. Если я устрою тебя к «бельгийцам», ты подпишешь мне бумагу. И когда к тебе перейдут по наследству все сокровища, я получаю виноградник.
Они добрались до большой дороги. Она стоит перед ним, прочно уставив ноги в деревянных башмаках. На ее рубахе подмышками проступили большие мокрые пятна. Почтальон ласкает глазами широкие бедра, крепко пришвартованные груди. Услуга за услугу. Все это сулит многое. Теперь вся суть в том, чтобы сделать дело.
Он кличет собак, нюхает воздух и – хоть небо не омрачено еще ни единой тучкой – говорит:
– Пахнет грозой…
С головой в огне, шатаясь от надежд, идет она обратно по тропинке. Пускай себе умирающий зовет ее, пускай выхаркивает на мешки с сеном свои легкие! Только бы узнать ей способ прикончить его, чтобы не тянулось…








