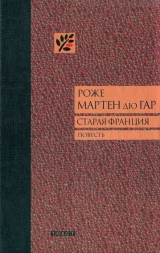
Текст книги "Старая Франция"
Автор книги: Роже Мартен дю Гар
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
V. Бос, хозяин кафе
Кафе составляет наряду с почтой и мэрией третий и главный притягательный полюс площади.
На имя Боса, хозяина кафе, всегда бывает корреспонденция. Хотя бы одни левые газеты, присылаемые ему бесплатно.
Жуаньо отворяет дверь. Его два спаниеля предшествуют ему.
– Назад, Пик! Назад, Мирабола!
Собаки окунулись уже с головой в мусорный ящик.
– Оставьте их, – говорит любезно мадам Бос.
Жуаньо не упрямится. Он сообразил уже давно, какую выгоду может извлечь почтальон, выращивающий породистых собак, из разноски писем, если его хоть сколько-нибудь уважают, немного побаиваются и если он рассеян. Его пара спаниелей знает привычки каждой хозяйки и точное местоположение помоек во всей округе. Объезд почтальона – это для них каждодневно и физическое упражнение и трапеза. Продажа щенят – почти чистый доход.
Даже самые горячие сторонники Боса в муниципальном совете и те признают, что у хозяина кафе морда каторжника: низкий лоб, жабьи глаза, устрашающий подбородок. При всем том он податлив, но мстителен.
За стойкой он таинственно переливает жидкости, нагнувшись над воронкой. Прерывает это занятие, чтобы выставить две рюмки рома: ежедневная десятина. Жуаньо – это сила.
Мадам Бос, которая собралась было мыть каменный пол, топит тряпку в ведре и приближается к кассе. У нее темные волосы, пронзительные глаза, порывистые движения и нос, пылающий, как куриный гребень: точно черная наседка, которая вот-вот клюнет.
– Верно ли, мосье Жуаньо, рассказывают насчет тетки Дэнь?
– А что такое? – уклончиво произносит Жуаньо.
Она виляет:
– Этой старухе, сколько ей может быть лет? Верно, уж семьдесят шесть, семьдесят семь?..
Жуаньо делает стойку: невозмутим, но готов броситься на любую дичь.
– С ее свищом и этой вонью, – уточняет мадам Бос, – понятно, что она тревожится за свое будущее! Не правда ли, Эмиль?
Бос выжидает время, чтоб вставить слово. Он откидывает немного голову и выливает ром себе в пасть.
Молчание.
Мадам Бос понимает, что надо приоткрыть карты.
– Говорят, будто она собирается продавать свою хибарку? И отдать деньги Керолям, чтобы поселиться у них пожизненно? Так ли это, мосье Жуаньо?
– Мне рассказывали какие-то штуки в этом вкусе, – подтверждает почтальон.
Бос бросает хриплым голосом:
– По-моему, это сестра священника состряпала.
– Ну так вот, – говорит мадам Бос с внезапной нежностью, – напрасно она так делает, эта бедная старушка Дэнь. Если в мыслях у нее помереть спокойно и чтобы ходили за ней до самого конца прилично, как принято у порядочных людей, так не к этому же церковному клопу, не к этой же дармоедке Керольше ей переезжать! – Она вытягивает шею, клюет носом и заключает: – Вот что я говорю.
– Возможно, – произносит Жуаньо таким тоном, каким сказал бы: «Понял».
Муж и жена обмениваются быстрым взглядом.
– А впрочем, – вздыхает мадам Бос, возвращаясь к своей работе, – людей не осчастливишь, когда сами они того не захотят… Не правда ли, Эмиль?
Жуаньо допивает ром, надевает сумку, свистит собак, но не убирает локтя со стойки.
Тогда Бос нагибается к нему:
– Послушай, Жуаньо. Ты меня знаешь. Я не могу сказать в точности, за сколько мы продадим ее, «виллу» старухи Дэнь. Но это так же верно, как то, что мы с тобой тут сидим: кто сумеет переубедить старуху, тот получит десять процентов, когда дело будет сделано.
– Ну-у, – с достоинством произносит Жуаньо, – для таких людей, как мы с тобой, не в этом суть, Эмиль. Если я могу оказать тебе тут услугу, я охотно это сделаю. – Он щурит еще больше хитрые свои глаза и добавляет вялым голосом: – А об остальном по-товарищески всегда договоримся.
Мужчины протягивают друг другу руку, точно скрепляя договор.
VI. Булочники Мерлавини. – Бакалейщица мадам Ксавье
Булочная и бакалейная расположены как будто бы друг против друга. Между тем, идя со стороны кафе, приходится поравняться сперва с булочной, а потом уж с бакалейной; поэтому, совершая объезд, Жуаньо – непроизвольно – к Мерлавиням всегда заходит раньше, чем к мадам Ксавье.
Нынче ночью Мерлавинь-младший выпекал хлебы; значит, Мерлавинь-старший их продает, или, вернее, смотрит, как продает их Эрнестина, их служанка, маленькая растрепанная замарашка, которой нет еще и семнадцати лет.
Старшего из близнецов отличают по бородавке на левом веке. А в остальном они тождественны: горбатый нос, белесое лицо, козлиная бородка, и та же серая, запудренная мукой шерсть курчавится в вырезе фуфайки.
Торговля идет плохо. Нет способов бороться с вильграндской военной хлебопекарней, чей грузовик, наполненный еще горячими хлебами, делает остановку утром и вечером на церковной площади. Продавец не обвешивает, предоставляет некоторый кредит и не оглядывает нахально женщин. Это не то что Мерлавини с их постными лицами, с продажей за наличные, с глазами, раздевающими покупательниц, и с осевшими хлебами, которые они вам сплавляют, намочив их и высушив в печи. Только близкие соседи, опасаясь мести, ходят еще в булочную. Жуаньо знает, что все это кончится плохо: он недавно сунул нос в подозрительное письмо, которое нашел у себя в ящике; письмо с угрозами, анонимное, адресованное директору хлебопекарни. Мерлавини, как говорят, способны на все. В деревне всякий их боится, хоть и не объяснить отчего. Ни одна местная девушка не пошла бы к ним служить. Вильграндское бюро найма поставляет им маленьких потаскушек, вроде Эрнестины, которых они держат взаперти полгода, втихомолку обучают угождать своим прихотям и отвозят потом в город, чтобы обменять на свеженькую.
Мадам Ксавье, бакалейщица, уже забилась в глубину каморки за лавкой и пристально смотрит в одну точку, положив руки на фартук. Она не встает с места при виде входящего почтальона. Поднимается, только чтобы принимать клиентов, а когда Жуаньо приносит газету, она знает, что тут уж она – клиентка почтальона.
Мадам Ксавье немножко рехнулась, и это заметно. Даже когда она отдыхает, лицо под копной седоватых косм кажется подвижным и тревожным. Она – сомнамбула: дочь запирает ее на ночь, чтобы не ходила пугать соседей. Многие кумушки, не решаясь утверждать, что мадам Ксавье колдунья, какие бывали в старину, полагают, что глаз у нее, должно быть, дурной; и уж никогда ни одна беременная женщина не переступит порога бакалейной.
Своими повадками мадам Ксавье напоминает кошек, которых, впрочем, ненавидит и преследует. Подобно им, она любит предаваться неподвижной сторожкой дреме; подобно им, она таит в себе как будто некий отрешенный от людей мир. Когда она проходит в дверь, даже в дверь своей спальни, куда наведывается раз двадцать на дню, у нее непроизвольно наступает секунда колебания, и она бросает недоверчивые взгляды по сторонам. В лавке и на кухне она осторожно усаживается в глубине, спиной к стене, на таком месте, откуда видно входящих. А когда она принимается есть, – будь то хотя бы рагу, которое сама же только что сварила, – то обнюхивает тарелку и пробует кусок на зуб, точно боится отравы.
В совместной жизни со столь странной мегерой ничего радостного нет. И прекрасная Эсперанс, ее дочь, задолго до совершеннолетия мечтала уже о замужестве, как узник о воле. Напрасное ожидание: Эсперанс слишком красива. Она бедна, и известно, что она подписывается на модный журнал. Все парни вертятся вокруг нее, но ни один из них на ней не женится.
VII. Мадам Дэнь, рантьерша
Хоть в нем всего-навсего два окна, однако домишко мадам Дэнь был окрещен «виллой», еще когда был только чертежом каменщика на листе клетчатой бумаги и когда мадам Дэнь – сегодня рантье – еще потела перед плитой в доме нотариуса окружного городка. Но по – настоящему почетное название «вилла» вошло в местный обиход несколько позднее: после постройки застекленного навеса, вроде маркизы, над желтой дверью под светлый дуб с железными посеребренными украшениями, как на богатом гробе, – после того особенно, как Жуаньо, большая шельма, пустил по рукам конверт, на котором какой-то шутливый корреспондент бывшей кухарки написал так: «Мадам Дэнь. Вилла "Корзинная ручка"».
Мадам Дэнь лежит на кровати, в ночной кофточке и нижней юбке. Уже десять лет, как она поражена нескромным свищем, о котором поневоле вспомнишь, как только переступишь порог «виллы». Спальня мадам Дэнь грязна, но кокетлива: имеется зеркальный шкаф и триповый квадратный коврик перед креслом, украшенным кружевным подголовником.
– Я вас побеспокою, мадам Дэнь, и по пустякам, уж я вам говорю! Обыкновенный проспект… Но служба остается службой.
(У Жуаньо в сумке всегда есть что-нибудь печатное без употребления, которое позволяет ему проникнуть, когда ему заблагорассудится, к кому угодно.)
– Ах, мосье Жуаньо, пожалейте вы меня: расширение вен до того калечит мне ноги – люди добрые! – что не стало больше сил даже постряпать себе немножко. Купила такую хорошенькую маленькую баранью головку. С винегретом на эстрагоне это так здорово в жару… Так вот черви угостились раньше меня…
Сказать вам: вчера в ужин только и могла, что обмакнуть два сухаря в вино – не выстоять было на ногах… Ах, люди добрые! – можно и достаток иметь и хорошую квартиру, но когда с ногами плохо, мосье Жуаньо!..
– Не скажу, чтобы квартира у вас была плоха, это было бы вранье, мадам Дэнь, – подтверждает почтальон, усаживаясь как можно дальше от кровати, – но все-таки в вашем возрасте и с вашей болезнью я предпочел бы видеть вас где-нибудь окруженной людьми, которые могли бы прийти вам на помощь, чем одинокой на вашей красивой вилле, отрезанной от всего, как вы сейчас!
Старуха бросает на почтальона недоверчивый взгляд. Ее увядшая кожа образует под веками карманы; несколько седых волосков вьется на подбородке, а жидкие пряди под редкой белой нитяной сеткой обнажают местами череп, розовый, как поросячья кожа.
– Зачем вы мне это говорите, мосье Жуаньо? Вы что же, думаете о Керолях?
– О Керолях?
Он так прост на вид, что она почти досадует на себя за свои излияния. Но в общем он – сведущий человек, способный подать совет.
– Ах, мосье Жуаньо, я привязана к своему дому, просто поверить нельзя как, и вот что меня гложет… Не обжиться мне никогда у чужих!
– Стало быть, вот в чем дело, мадам Дэнь?.. К Керолям? Вот видите, что значат сплетни! А мне говорили: к Босам.
Старуха таращит глаза:
– К Босам?
– Да! И по правде сказать, очень я за вас испугался… А к Керолям – в добрый час… В их маленький павильон, наверное? Лучше этого маленького павильона ничего для вас не придумаешь… В глубине сада, там, конечно, немножко сыровато, да… Но расширение вен это не то, что ревматизм; не думаю, чтобы оно слишком разыгрывалось от сырости… И потом что ж, придется вам только хорошенько топить, круглый год…
– К Босам? – повторяет старуха; ее поднятые брови, кажется, так никогда и не опустятся на прежнее место.
– Толкуйте мне о Босах, мадам Дэнь, когда за вами этот маленький павильон у Керолей! Чтобы быть в тишине и спокойствии, лучше ничего не найдете на десять лье в окружности! Можете проторчать там много дней и много недель, не услышавши ни разу ослиного мычанья и не увидевши ни одной живой души. А затем в ваши годы надо немножко смотреть за собой в смысле еды. Кероли – люди серьезные и расчетливые, питаются какими-нибудь пустяками, супом да куском творога. Нет опасности, что настряпают вам всяких там тонких блюд с соусами, чтобы кишки вам разбередить!
– А у Босов?
– Да бросьте вы мне толковать про Босов, мадам Дэнь! Там было бы как раз обратное тому, что вам требуется. Прежде всего жить на площади – это слишком весело для пожилой женщины: вы бы целыми днями просиживали за занавеской и смотрели бы, как снует народ. И потом, в трактире все время толчея, гам, песни, механический рояль! Не нужно развлечений, когда старишься. Но самого-то главного я и не сказал: хуже всего было бы с пищей.
– Отчего же, мосье Жуаньо?
– Оттого что вы знаете толк в хорошей кухне, мадам Дэнь, да и лакомка, как говорят. Очень трудно удержаться, когда рагу хорошее и когда люди закармливают вас так, точно каждый день у них свадебный пир. Чтобы хорошо питаться, Босы ни за чем не постоят. Если бы вы знали, что мадам Бос отдает моим псам: такие кушанья, что другой рад был бы в воскресный день сам ими угоститься! – Жуаньо встал. – Я вам говорю: бросьте думать о Босах, мадам Дэнь. Я бы всю жизнь себе не простил, что вбил вам в голову эту музыку… Ну! Поправляйтесь и до приятного свиданья! Рад буду узнать, что вы уж устроились у наших славных Керолей.
– Постойте, мосье Жуаньо, неволить вас не стану, но возьмите-ка вы синий графинчик там, на этажерке. Минутка времени у вас, наверное, найдется. Выпьем вместе по капельке.
– Только уж разве чтоб вас не оскорбить, мадам Дэнь. И потом, нужно воспользоваться вашим остаточком… У Керолей вы будете ограждены от этих дурных соблазнов. Эти шуты записались в «Лигу», вместе со священником…
– В «Лигу»?
– Да, милостивая государыня, точно так, как я имел честь вам доложить! У мадам Кероль твердые правила: она всякий год делает взнос в «Противоалкогольную лигу»!
Старуха силится сесть на край матраца. Она бормочет:
– Люди добрые! «Противоалкогольная лига»!
VIII. Парикмахер мосье Фердинан. – Скобяники Кероли. – Зарок Селестины
Мосье Фердинан, парикмахер-парфюмер, занят тем, что смотрит, как его отпрыск – юный Франси посыпает свежими опилками пол вокруг единственного в его заведении кресла.
– Здорово, Фердинан! – кричит почтальон. – Вот тебе твои поганые газеты!
Мосье Фердинан, деятельный член реакционного комитета, угощает посетителей только благомыслящими органами печати.
Это маленький пузатый человечек с седыми усами, с самого утра подвергнутыми горячей завивке, скрывает под накладкой лысину, которая могла бы нанести ущерб продаже жидкостей для рощения волос.
Сын, внук и правнук брадобреев, мосье Фердинан неутешен, что произвел на свет рыжего шалопая с жесткими, как солома, волосами, который развязно отвергает профессиональные традиции семьи.
– Печальные у тебя ножницы, – твердит он в отчаянии. Мосье Фердинан утверждает, что прирожденный парикмахер познается прежде всего по лязганью ножниц, которое должно быть радостно, как пасхальный трезвон. Он это доказывает на деле: его ножницы так и порхают, чирикая на кончиках пальцев, и оглушают клиентов весенним щебетом.
Мосье Фердинан любит свое искусство. Он ловко им владеет. Ему безразлично, как брить – с большим ли пальцем или с ложкой. Последний способ более современный, но малонадежный и более дорогой, в Моперу не в очень большом спросе: тем более что мосье Фердинан ради гигиены всегда подставляет под кран свой большой палец, перед тем как ввести его клиенту за щеку.
Так как кафе является признанным центром антиклерикальных левых и так как Бос единственный в селе содержатель кафе, то правые избрали для своих заседаний лавку мосье Фердинана. Практически же, поскольку всякому требуется в субботу побриться, а в воскресенье выпить, правые и левые сталкиваются попеременно то в кафе у Боса, то в парикмахерском зале.
У левых есть, впрочем, и другое основание щадить брадобрея: мадам Фердинан – единственная на всю округу повивальная бабка. Знаменитая своими бицепсами, она отправляет свое ремесло, не различая партий, и перерезает пуповины у левых с такой же ловкостью, как и у правых.
В дни, когда нет базара, скобяная лавка пустует. Жуаньо обставляет дело так, что никогда не встречается с ханжами Керолями. Входя в лавку, он чуть не срывает звонка, но, пока успеют прийти из глубины дома, почта оказывается лежащей на столе, а почтальон уж далеко.
«Дармоеды», – говорит мадам Бос. Им не могут простить, что они не так суетятся, как прочие обитатели села. В часы прохлады Кероль еще похаживает немножко по магазину и по городу, в жаркие же часы отдыхает. А жена его, сидя с утра до вечера на кухне, подрубает полотенца, штопает тряпки и выкраивает из лохмотьев старых простынь панталоны для дочери Люси, нескладной дылды в пенсне, которая питает отвращение к шитью и прячется по углам, чтобы читать данные ей учительницей книги.
Муж и жена уже три месяца, как обдумывают захват в плен тетки Дэнь. У мадам Кероль страсть к белью: неотвязная ее мечта – завладеть бельевым шкафом старой рантьерши. А Кероль, тот в сотый раз производит все те же подсчеты: «Продажа виллы… Содержание старухи… На худой конец допуская, что она еще пять-шесть лет, будет все-таки прибыль…»
Если Жуаньо не заходит почти никогда к Селестине, то его собаки всегда уж проберутся к ней, чтобы полакать молока, приготовленного для кошки.
Но сегодня дверь на запоре. Селестина спозаранку, должно быть, управилась с хозяйством.
Нет… Селестина еще не встала.
Сидит на кровати Селестина и плачет.
Это – целая драма.
В праздник, в Иванов день Селестина отправилась на ярмарочное поле и потеряла там цепочку с образками, которую носит на шее с первого своего причастия. Что собиралась она делать в этой толпе, она-то, которая никогда не выходит из дому? Надо же было, чтобы сам черт толкнул ее в этот день!.. Ничего не сказавши, затеплила она благословенную свечу и произнесла зарок: «Святой Антоний, милостивец, если ты вернешь мне мои образки, я пожертвую в церковь твою статую». На другой день пастушонок принес ее подвески. Тогда она заказала в Вильгранде статуэтку за сорок франков. А вчера вечером узнала новость: мадам Кероль, скобяница, договорилась со священником об установке в церкви изображения святого Антония. Статую провезли через всю деревню – на тачке, в решетчатом ящике. Кероли поставили ее к себе на двор, под навес. Это, как говорят, святой Антоний в натуральную величину и раскрашенный в разные цвета.
Селестина провела ночь в томлении ужаса и в молитвах. На кого пенять? Она никого не предупредила: хотела поразить священника приятной неожиданностью. А между тем нельзя же поставить в церкви двух святых Антониев…
Она рыдает и считает себя обреченной на вечные муки.
Вдруг она поднимает голову, вскакивает с кровати и, не надев даже нижней юбки, поднимается прямо на чердак. Став на носки, заглядывает в слуховое оконце. Взгляд ее поверх домов погружается в проулок. Там низкая ограда; а немного поодаль навес; а между навесом и оградой кладка сухого хвороста. Довольно одной спички, лоскутка бумаги…
Некоторое время она стоит тут, окаменелая, вытянув шею. Глаза ее – уже – мечут пламя…
Навес принадлежит Керолям.
IX. Священник. – Селестина у священника – Священник у Керолей
Дом священника расположен между двором и садом. Если позвонить у подъезда, попадешь неизбежно на мадемуазель Верн. Колокольчику не приходится долго звонить.
Мадемуазель Верн – сестра священника: нескромная, непогрешимая, старая и девственная. Она управляет приходом; и, противоборствуя большинству обитателей деревни, которых ненавидит и которые не скупясь отплачивает ей тем же, она силой властного слова руководит тем кланом реакционного сопротивления, который группируется под сенью всякой церкви.
Даже зимой, заворачивая в переулок, Жуаньо уверен, что застанет священника в саду. Приподнявшись на педалях, он окликает его через ограду:
– Мосье Верн!
Священник вздрагивает всем телом, втыкает лопату в землю и подходит к нему с тем эпилептическим покачиванием, которое за последние годы не покидает его даже на кафедре.
– Это у нас не священник, – говорит Паскалон, могильщик, – это какой-то гиньоль.
Аббат Верн вежливо приподнимает соломенную шляпу и берет почту. Чаще всего эта почта поступает с опозданием на сутки. Жуаньо воздает честь корреспонденции «черного», подвергая ее особому надзору. «Черный» догадывается об этом, приемлет и прощает. Столько же из равнодушия, сколько и из милосердия.
Священник – старик со смуглым лицом, горячим взглядом, худой и болезненно нервный.
Тридцать пять лет тому назад он прибыл в Моперу и взялся за дело с рвением молодого апостола. В первые годы, борясь с религиозной холодностью этого древнего склеротического края, где всякий думает только о себе, о своей торговлишке, о своих сбереженьицах, о своем благополучьице, он все пустил в ход, чтобы насадить в среде овец своих дух христианской взаимопомощи. Напрасный труд. Все, даже исполняющие церковные обряды, уклонялись от участия в его начинаниях. Патронат, рабочий дом, благотворительный комитет, им основанные, так и не приступили к действиям за недобором членов. Невозможно разогреть душу этим трудолюбивым искателям малых барышей. Повседневные – из поколения в поколение – упражнения в житейской бережливости задушили в них великодушные инстинкты. Теперь это племя недоверчивое, завистливое, расчетливое, изъеденное жадностью, как язвой. Всегда ли было так? Этот вопрос священник часто задает себе с тоской. Ведь в течение целых столетий этот малый французский народец приходил преклонять колена церкви, которую теперь забросил. Что влекло его сюда? Любовь? Вера? Духовные потребности, теперь захиревшие? Или страх? Страх перед Богом, страх перед духовенством? Косное уважение к установленному порядку?.. Аббат Верн прекрасно знает, что все эти рычаги разбиты вдребезги. Да и не стал бы он ими пользоваться.
Мало-помалу всеобщее равнодушие одержало верх над его мужеством, над его терпением, над его здоровьем. Тогда он ушел в себя, сочинил для собственного употребления устав трапписта. Его убежище – это огород, который у него, благодаря заботам Провидения, большой, орошенный водой и плодородный. По десять часов в день перекапывает он землю. И так как доход от треб незначителен, то разводит дыни, которые Лутр скупает у него по низкой цене: это дает возможность жить и даже раздавать немного милостыни.
Он без боя сдал дом, церковь, а, наконец, и приход крикливому деспотизму сестры. В храме можно застать его только в часы богослужений. Всякое воскресенье, за литургией, как бы мало ни было молящихся, он добросовестно поднимается на кафедру и, напрягая все свое красноречие, говорит, обращаясь к нескольким женщинам и старым девам, оставшимся верными мадемуазель Верн и Богу.
В доме священника с треском отворяется окно.
– Иди скорей! – кричит мадемуазель Верн.
Священник всплывает над кустами смородины. Он ставит корзину наземь и наскоро застегивает сутану.
У плиты, обрушившись на стул, рыдает Селестина.
– Я дала зарок раньше ее!
Мадемуазель Верн, всегда готовая исследовать сердца и испытывать совести, объясняет и комментирует события уверенной скороговоркой.
– Не расстраивайтесь так, моя бедная, – говорит тогда священник, – я имею полную власть освободить вас от зарока. Вы принесете церкви иной дар: святую Жанну д'Арк, например… И ваш долг будет исполнен.
Но Селестина заламывает руки и плачет еще пуще. Мысль о Жанне д'Арк приводит ее в ужас.
– Никогда святой Антоний этого не поймет. В наказание он во всех делах нашлет мне неудачу!
Аббат владеет собой. Но тик более чем когда-либо искажает его лицо. Будучи не в силах устоять на месте, он описывает круги.
Мадемуазель Верн набрасывается на него:
– Это ты виноват! Зачем ты позволил Керолям жертвовать статую? Ступай к ним! Изволь с ними договориться!
Мадам Кероль шьет на кухне, сидя рядом с дочерью своей Люси. В комнате полно мух и пахнет капустой.
Мадам Кероль предлагает священнику стул.
– Садитесь, пожалуйста.
А сама думает: «Уж не тетка ли Дэнь его подослала?»
На всякий случай выпроваживает Люси в огород нарвать салату.
Священник садится, поднимается и в конечном итоге остается в стоячем положении. Переминаясь с ноги на ногу, фыркая и встряхивая плечами, как вылезшая из воды собака, он рассказывает, что привело его к ним.
– Вы женщина добрая, мадам Кероль. Я взываю к вашему милосердию. Бедная девушка считает себя обреченной на вечную гибель: не спит, того и гляди, заболеет. Простаков надо судить по их намерениям…
Мадам Кероль покраснела и потупилась, прижав руки к груди.
– Конечно, если бы знать, не надо было бы и тратиться… Но что сделано, то сделано. Цоколь уж вмазан, и на дощечке проставлено наше имя, как жертвователей! – Голос ее становится все резче и резче: – Раз уж заплачено, так хочешь, по крайней мере, чтобы прок от этого был, не так, что ли?
– Да ведь она же предлагает издержки взять на себя!
– Все?
– Все.
На сей раз мадам Кероль впадает в сомнения.
– Надо хозяина позвать.
Кероль, дремавший еще в кровати, спускается, застегивая подтяжки. Это грушевидный толстяк; голова – маленькая и острая; подбородок словно растаял в шее; шея растеклась по плечам, а туловище ширится книзу до самого днища штанов. Если бы он сел на пол, его никак было бы не опрокинуть.
Узнав, в чем дело, он обменивается с женой быстрым взглядом.
– Я такой человек, что готов пойти на уступки, если хозяйка согласна. Только дорого это: хотелось все сделать хорошенько. Наша статуя – это статуя в двести франков. Могу показать каталог. Упаковка и мелкие непредвиденные расходы – скажем, все вместе – двести двадцать только наличными. И не беспокойтесь насчет дощечки на цоколе. Это я уж устрою как-нибудь при помощи замазки – gratis pro Deo! [1]1
Бесплатно, для Бога. (Примеч. перев.).
[Закрыть]
Аббат Верн сотрясается от удовольствия. Вот и улажена эта дурацкая история.
Кероль про себя подсчитывает. Статуя, считая и цоколь с гравировкой, обошлась ему ровно в двадцать су. Мадам Кероль купила – довольно, впрочем, неосмотрительно – билет лотереи «Святого Младенчества» и выиграла право приобрести на двести франков товара на фабрике предметов церковной утвари. Доставка была даровая; но пришлось выставить стакан красного вина возчику. В конечном счете утро пропало не даром.
А он еще не знает о самой главной своей прибыли: скажи он «нет», его навес запылал бы ночью.








