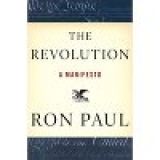
Текст книги "Манифест: Революция"
Автор книги: Рон Пол
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Ричард Вивер, еще один важный деятель в истории консерватизма и, возможно, наиболее известный из-за своей книги “Идеи имеют последствия”, возражал против атомной бомбардировки Японии, и с презрением относился к Теодору Рузвельту, который желал “распирать, угрожать и запугивать наших слабейших соседей”. Вивер опубликовал выдающееся эссе об антиморальности тотальной войны в своей книге “Видение порядка”, доказывая, что “из многих вещей, напоминающих нам, что дух цивилизованности иссякает, ни одна не дает более глубокого предупреждения, чем тотальная война”.
Консервативный социолог Роберт Нисбет напоминал своим слушателям, что война носит революционный, а не консервативный характер. Он также предупреждал, что в условиях войны социалистические предложения часто становятся законами страны.
Взгляды трех названных деятелей – Кирка, Вивера и Нисбета – имеют важную общую точку. Одно из крупнейших и уважаемых исследований американского консерватизма – книга Джорджа Нэша “Консервативное движение в США с 1945 года” называет трех этих мыслителей наиболее значимыми фигурами среди тех, кого называют традиционными консерваторами. Это означает, что три наиболее крупных мыслителя послевоенного периода были в той или иной степени милитаристами. Ни один из них не был пацифистом, но все они верили, что война – это нечто настолько материально и морально катастрофическое , что однозначно должно рассматриваться только как последнее средство. И с тех пор как Рэндольф Борн сказал, что “война это здоровье нации”, они также осознавали и внутренние негативные эффекты войны – такие как налоги, государственный долг, потерю свобод и ослабление Конституции.
Как в эту картину вписывается Израиль, с которым США долгое время поддерживали специальные отношения? Я не вижу, почему дружба не может продолжаться. Я за установление с Израилем той самой честной дружбы, которую Джефферсон и Отцы-Основатели призывали нас установить со всеми народами. Но это также означает отсутствие специальных привилегий, таких как внешняя помощь – это позиция, которую я считаю необходимо занимать в двусторонних отношениях также и со всеми остальными странами. Это означает и то, что я выступаю против помощи правительствам, являющимся настоящими или потенциальными врагами Израиля, которые вместе взятые получают американской помощи много больше, чем получает Израиль. Оказание помощи обеим сторонам очевидно заставляет простых израильтян и американских евреев сделать вывод, что Америка в этой игре лицемерно страхует свои ставки.
Я выступаю против международной помощи по причинам, которые я детализирую в одной из следующих глав. Международная помощь не просто аморальна вследствие того, что подразумевает насильственное перераспределение благосостояния; она еще и приводит к обратным результатам пока продолжается поток бесплатных благ. Внешняя помощь была просто бедствием для стран Африки, приводя к откладыванию серьезных экономических реформ и порождая расточительство и бездеятельность. Более того, когда выделенная помощь тратится на приобретение товаров, произведенных американскими корпорациями, это и вовсе форма поддержания корпоративного благосостояния, которую я категорически отвергаю.
Только те, кто очень поверхностно относится к Израилю может действительно радоваться, что он продолжает получать американскую помощь более чем на 2 млрд. долларов в год. В отсутствие таких грантов Израиль был бы вынужден строить более свободную экономику, тем самым, принося своему народу большее благосостояние и приобретая большую уверенность в своих силах. Внешняя помощь только замедляет полезные реформы, те реформы, которые каждый настоящий благожелатель Израиля хотел бы там увидеть. К примеру, Институт стратегических и политических исследований в Иерусалиме доказывает, что «внешняя помощь – это главное препятствие экономической свободы в Израиле». Ни для кого не является секретом, что военная промышленность Израиля неэффективна и крайне забюрократизирована – и эти недостатки постоянная американская помощь только укрепляет. Зачем проводить трудные реформы, если миллиарды помощи будут получены вне зависимости от того, что делается?
Наше правительство также оказывает Израилю медвежью услугу, ограничивая его суверенитет. Израиль ищет одобрения Америки на военную акцию, которую он считает необходимой, он консультируется с Америкой по поводу собственных границ, и даже ищет поддержки Америки в переговорах о мире со своими соседями – которую не всегда получает. Это должно быть остановлено. Имея арсенал более чем в сто ядерных боеголовок Израиль более чем способен постоять за себя в войне с любым врагом. Израиль должен сам отвечать за свою судьбу.
Перед лицом людских издержек войны – тысячи американских военнослужащих убиты, десятки тысяч ранены – подсчет материальных затрат несколько блекнет. Но мы и не говорим о нескольких миллиардах долларов, затраченных туда или сюда. Цена нашей внешней политики столь высока, что она может привести нас к национальному банкротству.
Когда я говорю «банкротство» я не имею в виду, что федеральное правительство прекратит выписывать чеки и тратить деньги. Федеральное правительство так скоро не выйдет из бизнеса. Я имею в виду то, что эти чеки и деньги не смогут ничего купить, так как доллар как валюта будет уничтожен.
Немногие американцы осознают, как дорого им обходится внешняя политика. Ларри Линдсей, главный экономический советник администрации Буша, удивил Белый Дом, когда предупредил со страниц «Уолл-стрит джорнэл», что Иракская война может обойтись в 100-200 млрд. долларов. Возмутительно, ответили официальные лица. Развитие событий, однако, показало, что Линдсей оказался оптимистом. В начале 2006 года Линда Билмс из Гарварда и Джозеф Стиглиц из Колумбии оценили долгосрочные последствия войны, включая расходы на уход за изувеченными солдатами, в 2 триллиона долларов. К концу года они же говорили, что и цифра в 2 триллиона слишком мала.
И бюджет подрывает не только иракская война – его подрывает наше заокеанское военное присутствие в целом. Мы достигли уровня военных расходов в 1 триллион долларов в год. Один триллион долларов. предполагаемый бюджет одного Пентагона составляет на 2008 год 623 млрд. долларов. «Что примечательно в военном бюджете этого года», – пишет один военный аналитик, – «это то, что бы достигли максимального бюджета со времен Второй Мировой войны, но мы-то в данный момент не участвуем во Второй Мировой войне...»
И так же, как увеличение внутренних правительственных трат редко приводит к росту их эффективности, я сильно сомневаюсь, что значительная часть наших военных расходов действительно ведет к повышению национальной безопасности. Америка была бы куда сильнее и куда безопаснее, если бы наше правительство проводило антиинтервенционистскую внешнюю политику и положило конец межнациональному напряжению. И не только потому, что внешнеполитическим вмешательством мы наживаем себе врагов – это-то как раз очевидно. Гораздо больший вред приносят огромные расходы человеческих ресурсов, техники и средств на чрезмерно раздутое заокеанское присутствие. Эти ресурсы пригодились бы для непосредственной защиты США. Наши войска растянуты слишком тонкой пленкой по всему миру более чем на 700 военных базах, задействованы в национальном строительстве, за которое республиканцы не так давно критиковали Билла Клинтона.
Мы держали войска в Корее более пяти с половиной десятилетий и почти столько же в Европе и Японии. Сколько лет должно пройти, чтобы мы удовлетворились? Американское присутствие в этих местах позиционировалось как временное, до исчезновения военной угрозы, которая была причиной их появления там. Милтон Фридман был прав – нет ничего более постоянного, чем «временная» правительственная программа.
С государственным долгом в 9 триллионов, 50-триллионными обязательствами по правительственным программам и долларом в свободном падении, как долго мы еще сможем позволять себе эти ненужное и непозволительное расточительство?
В то время как наше правительство увеличивает дефицит бюджета для финансирования своих заокеанских интересов, отрывая средства от собственной экономики, другие страны, такие как Китай, заполняют ниши, развивая свои торговые связи. Я никогда не понимал разговоров о нашем военном присутствии как о «стратегическом резерве западной цивилизации». Лучшим индикатором нашей цивилизации всегда был авторитет во внешней торговле. Мы должны считать, что лучшая мера американского величия исходит из свободной и мирной торговли, а не из демонстрации нашей военной мощи.
Сейчас большим шагом вперед станет простое обсуждение внешней политики, которая сейчас проводится, и которой (с небольшими различиями) придерживается истэблишмент обеих наших главных партий. Один писатель очень метко назвал это «дискуссией, которой мы никогда не увидим». Несмотря на то, что многие американцы против продолжения внешней экспансии «большого правительства», антиинтервенционизм никогда не предлагался им как вариант выбора. Так называемые «дебаты» между экспертами, которые они видят по телевизору или читают в газетах, умышленно ограничивают пределы обсуждения минимально значимыми вопросами. Дебаты всегда идут в терминах того, какую интервенционистскую политику правительству нужно проводить. Возможность того, что мы должны избегать истощения своих ресурсов в бесконечном внешнем вмешательстве даже не обсуждается. Ей-богу, какие могут быть дебаты, если все спорящие стороны согласны с тем, что Америке нужны войска в 130 странах?
Это может быть похоже на дебаты, которые раньше дозволялись в газете «Правда», но в свободном обществе мы вправе ожидать более здравого обмена идеями!
Если мы будем обсуждать эти проблемы, некоторые американцы могут решить, что повышенный риск терроризма – это разумная цена, которую они готовы платить за интервенционистскую внешнюю политику правительства. Другие осознают, что интервенционизм разоряет нас и делает нашу жизнь менее безопасной. К чему бы оно не привело, мы должны иметь возможность это обсуждать. И в результате таких дебатов, делает вывод Майкл Шойер, американцы «могут решить, что существующий статус-кво во внешней политике это именно то, что им нужно. Но если даже так, то они должны делать выбор с открытыми глазами и знать, что их ждет длительный период войн, чрезвычайно кровавых и разорительных войн».
Между тем, отсутствие дебатов имеет катастрофические последствия для нашей республики. Джеймс Бамфорд считает, что лидеры Аль-Каеды надеялись втянуть нас в этакий «Вьетнам в пустыне» – ненормально дорогую войну, которая бы истощала наши ресурсы и помогала бы им вербовать местное население на войну с нами. И это у них получилось. Издержки войны измеряются триллионами. Доллар коллапсирует. Все больше становится террористов. В соотвствии с результатами исследования Центра глобальных исследований и международных отношений в Герцлии (Израиль), подавляющая часть тех, кто сейчас сражается с международными силами – это иракские граждане, которые ранее никогда не имели отношения к терроризму, но были радикализированы американским присутствием в Ираке – второй по значимости священной области Ислама.
Если вкратце, то террористы играют с нами как кошка с мышкой. Своей ненужной и неспровоцированной атакой на Ирак мы добились только того, что они хотели.
Американцы имеют право на защиту от внешних атак, и это не пустое заявление. Но эта защита очень мало похожа на развязывание превентивных войн против стран, которые не атаковали и не могли атаковать нас, у которых почти нет морских и воздушных войск, и чей военный бюджет составляет доли процента нашего. Политика свержение и дестабилизации любого режима, который не нравится нашему правительству – это не политика вообще, если конечно нашей целью не является международный хаос и обнищание американского народа.
Пришло время провести коренной пересмотр нашей политики интервенционизма, оккупации и национального строительства. Это в наших национальных интересах и в интересах всего мира. Это послание волнует не только американцев в целом, но и военных США: во втором квартале 2007 года наша кампания позволила собрать больше пожертвований от действующих и отставных военных, чем кампания любого другого республиканского кандидата, а в третьем квартале – больше чем любой из остальных кандидатов от всех партий. В четвертом квартале мы собрали пожертвований от военных больше чем все республиканские кандидаты вместе взятые. Наш призыв популярен, он базируется на американской безопасности, финансовом здоровье и здравом смысле.
ГЛАВА 3. КОНСТИТУЦИЯ
Хотя писанные законы «могут нарушаться в моменты волнения или заблуждений», – писал Томас Джефферсон в 1802 году, «по сию пору они предоставляют нам текст, вокруг которого ответственные люди могут вновь собраться и объединить народ».
Сложно сказать, прошло ли потрясение и дезориентация от 11 сентября. Я, тем не менее, верю, что достаточно американцев уже могут посмотреть трезвым взглядом на то, чем мы позволили нашей стране стать с того ужасного дня, что Конституция вновь может быть документом, вокруг которого люди могут сплотиться и объединиться.
В ранней американской истории Конституция часто упоминалась в политических дебатах. Люди хотели знать, а политики должны были объяснить, как те или иные схемы, которые они обсуждают в Конгрессе, сочетаются с Конституцией. В двадцать первом столетии, напротив, Конституция стала чем-то вроде слона в посудной лавке, которого все стараются не замечать.
Исполнительная власть, к примеру, давно уже вышла далеко за рамки, которые представляли себе творцы Конституции. Один из механизмов, усиливших ее, это исполнительный приказ, которым президент может получить столько власти, сколько Конституция никогда и не намеревалась ему давать. Исполнительный приказ это директива, которую издает исключительно президент, не согласовывая ее с Конгрессом. Этот приказ может нести легитимные функции. С его помощью президенты могут выполнять свои конституционные обязанности, к примеру, отдавая директивы подчиненным. Но они также могут быть соблазном для амбициозных президентов (я не слишком тонко намекаю?), так как они не могут удержаться от попыток использовать их вместо формальных законов, добиться принятия которых они не могут. Тем самым, президент может обойти нормальный, конституционный законодательный процесс.
Исполнительные приказы в девятнадцатом столетии были редкостью; для президента издание даже нескольких дюжин было чем-то «из ряда вон». Теодор Рузвельт, первый президент, пробывший у власти в двадцатом веке полный срок, издал их более тысячи. Его дальний родственник Франклин Рузвельт выпустил их более трех тысяч. Исполнительные указы продолжили служить потенциальным оружием в арсенале президента.
Конгресс иногда подыгрывал президентам в злоупотреблении исполнительными указами, как давая постфактум санкцию президенту на уже совершенное действие, так и игнорируя вместе с ним злоупотребления властью. Последний случай возникал тогда, когда конгрессмены были согласны с решением президента, но не хотели быть к нему официально причастными (например, из-за того, что оно противоречило партийной доктрине или было политически непопулярным). Исполнительными приказами президенты могут посылать наши войска на необъявленные войны, уничтожать промышленность или проводить беспрецедентные изменения социальной политики. И эти действия остаются неизвестными публике, так как происходят за дверями Овального кабинета, вводятся без уведомления и выполняются скрытно. Это пародия на нашу конституционную систему и любой президент, достойный своей должности, должен избегать использования исполнительных приказов, за исключением случаев, когда он может доказать, что его действия конституционны или опираются на статутное право.
Другое злоупотребление, особенно опасное еще и тем, что оно неизвестно большинству американцев, включает использование так называемого президентского заявления при подписании закона. Когда президент подписывает законопроект, тем самым превращая его в закон, он может сопровождать его напутственным заявлением, которое не обязательно оглашается на церемонии подписания, но в обязательном порядке включается в закон. Эта практика не нова, но она почти всегда носила сугубо церемониальный характер: выразить благодарность сторонникам, подчеркнуть значимость законодательства или иных чисто риторических целей.
Администрация Буша напротив, очень часто использовала заявление при подписании как способ для выражения направленности, в которой президент считает нужным интерпретировать некоторые положения закона (а его интерпретация очень часто противоречит изначальным намерениям Конгресса), или даже для выражения четкого пожелания не применять спорные положения вовсе. Не всегда легко определить, где именно президент совершает эти опасные действия, так как они часто проводятся в областях, в которых Белый дом прикрывается туманом секретности – внешней политике или нарушений личной неприкосновенности. В 2005, тем не менее, Комитет по подотчетности правительственного аппарата (Government Accountability Office) представил грубую оценку того, как часто соблюдаются пожелания президента не применять положения закона: в одной трети из девятнадцати исследованных дел, положения “забракованные” президентом не применялись. Профессор права Джонатан Терли выразился жестко: “Такое использование заявления при подписании делает президента единоличным правителем”.
Таким способом администрация Буша поставила под вопрос больше положений законов, чем любая другая администрация президента в американской истории. Если бы Билл Клинтон сделал такое, мы бы обсуждали это до сих пор. Сегодня лишь некоторые республиканцы достаточно мужественны или принципиальны для того, чтобы возражать против такого очевидного злоупотребления властью. (Среди них Брюс Фейн, заместитель министра юстиции в администрации Рейгана, и бывший конгрессмен Боб Фарр.)
Повторюсь, американский президент должен приносить клятву никогда не использовать заявление при подписании закона как альтернативный и нелегитимный источник законодательной власти, а американский народ и Конгресс должны удерживать его от этого.
Я опишу всплеск интереса к Конституции в контексте Билля о правах и войны с террором в другой части книги. В этой части я не могу уделить этому больше внимания. Тем не менее, американцы должны помнить, что Конституция разработана не только для того, чтобы просто запрещать правительству нарушать права, которые позже появились в Билле о правах. Она также предназначалась для ограничения федеральной власти в целом. Перечисление прав Конгресса содержится в статье 1 разделе 8. По нормам обычного права такой список является исчерпывающим и закрытым.
Согласно Десятой поправке, все властные полномочия, не делегированные впрямую штатами федеральному правительству (статья 1, раздел 8) и не запрещенные штатам Конституцией (статья 1, раздел 10), зарезервированы за штатами или за американским народом. Томас Джефферсон утверждал, что этот принцип – главная основа нашей Конституции. Этот принцип гарантировал, что опыт Америки, терпевшей британское господство, никогда не повторится, и что политические решения будут приниматься местными законодателями, а не далеким центральным правительством, которое штатам сложно, если не невозможно контролировать.
Подход Джефферсона к Конституции – для которого, как он твердо верил, достаточно иметь средние способности и не нужно быть мудрецом в черной тоге – был предельно прост. Если предлагаемый федеральный закон не входит в список властных полномочий Конгресса, перечисленных в статье 1, разделе 8, то вне зависимости от того, каким притягательным он кажется, он должен быть отвергнут на основе Конституции. Если закон настолько мудр или притягателен, то не должно быть проблем с соответствующим изменением Конституции. И в соответствии с мнением Джефферсона, мы должны насколько возможно держать в уме исходные намерения тех, кто создавал и ратифицировал Конституцию: «По любому вопросу истолкования мысленно вернитесь во время, когда создавалась Конституция, почувствуйте дух, выраженный в дебатах и, вместо того, чтобы пытаться выжать из текста значения или изыскать противоречие, постарайтесь согласовываться с тем значением, которое текст имел при принятии».
«Наша особенная безопасность состоит во владении письменной Конституцией», – наставлял нас Джефферсон. «Так давайте не будем истолкованиями делать из нее чистый лист.» Иными словами, Джефферсон опасался, что мы позволим правительству интерпретировать Конституцию так широко, что нами будет управлять чистый лист, на котором можно написать все что угодно. Конституционные ограничения, наложенные на федеральную власть должны восприниматься серьезно, если мы хотим сохранить свободное общество. Всегда будет существовать сильный соблазн позволить федеральному правительству делать что-то, что многие люди хотят, но что не дозволено Конституцией. Так как процесс внесения поправок весьма длителен, появится следующий соблазн: просто применить незаконную власть без изменения Конституции. Но тогда какой вообще смысл в ее существовании?
Это правда, что Джефферсон, будучи знаменитым экзегетом конституции, сам не присутствовал на Конституционном Конвенте. Но идеи Джефферсона не были только его идеями: они содержались во множестве мнений, высказанных при ратификации такими значимыми и при этом различными фигурами как Эдмунд Рэндольф, Джордж Николас и Патрик Генри – не говоря уже о Джоне Тэйлоре из Каролины, наверное, наиболее плодовитом политическом памфлетисте 1790х. Джефферсон лишь озвучил эту куда более широкую традиции, когда высказал свои строго конструкционистские взгляды.
«Доверие – всегда предок деспотизма», – говорил Джефферсон в 1798. «Свободное правительство основывается на острой бдительности, а не доверии. … В вопросах власти нам не следует более доверять человеку – во избежание злоупотребления нам следует сковать его цепями Конституции». Около четверти века предупреждение Джефферсона было слышно: «Что является главным принципом нашей Конституции – доверие и свобода выбора или ЖЕСТКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ?».
Я иногда слышу то возражение, что некоторые положения Конституции дают федеральному правительству большие полномочия, чем перечислено в статье 1 разделе 8. В этой связи часто цитируется положение «общее благосостояние», хотя часто выдвигаются и столь же нечестные интерпретации межштатной торговли и пункта о «необходимых и надлежащих» законах. Я уже замечал, что по нормам обычного права списки подобные приведенному в статье 1 разделе 8 являются исчерпывающими и закрытыми – и это положение опровергает идею о том, что квалификационные фразы наподобие «общего благосостояния» могут придать открытый характер списку полномочий. Доводы творцов Конституции также не допускают двойного толкования. Джеймс Мэдисон писал: «Если Конгресс сможет делать то, что могут сделать деньги и будет продвигать общее благосостояние, правительство более не будет ограничено, владея перечисленными правами, но обретая неограниченные полномочия благодаря специальным исключениям». Ближе к концу своей жизни он писал: «Что касается слов «общее благосостояние», я всегда считал их ограниченными детализацией полномочий, связанных с ними. Трактовка их в литературном и неограниченном смысле будет превращением Конституции в сборник доказательств, которые не предполагались ее создателями». И, конечно, как писал Мэдисон в другом месте, если правительству действительно вверялись неограниченная власть во имя «общего благосостояния», какой смысл был перечислять конкретные полномочия в статье 1 разделе 8, если неограниченная власть их все равно включает?
В качестве типичного ответа на этот аргумент, если он вообще возникает, предлагается то, что Александр Гамильтон имел другие взгляды на пункт об «общем благосостоянии». Конечно, имел, но что это доказывает? Гамильтон вообще высказывал взгляды серьезно отличные от других делегатов Конституционного Конвента. Он был также и непоследователен во взглядах, говоря одно до принятия Конституции и другое после. В своем «Докладе к промышленникам» в 1791 он отрицал, что финансовые полномочия Конгресса ограничены списком статьи 1 раздела 8, распространяясь на широкий класс областей, где он хотел бы видеть правительственное финансирование – как раз тех областях, где он отрицал юрисдикцию федерального правительства, когда писал эссе «Федералист» №17 и №34 несколькими годами раньше.
Патрик Генри поднял в точности этот вопрос при обсуждении ратификации Конституции в Вирджинии: не будет ли «общее благосостояние» опасной открытой фразой, которая позволит федеральному правительству делать все что тому заблагорассудится, прикрываясь тем, что все эти меры направлены на «общее благосостояние»? Сторонники Конституции Дале Генри определенный ответ: нет, «общее благосостояние» не может иметь такой расширительной трактовки.
Но неужели наша Конституция не является «живым» документом, эволюционирующим вслед за пресловутыми меняющимися временами? Нет и тысячу раз нет! Если мы чувствуем необходимость изменить Конституцию, мы вольны вносить в нее поправки. В 1817 году Джеймс Мэдисон напомнил Конгрессу, что создатели Конституции «предусмотрели [в Конституции] надежный и практичный режим улучшения ее с помощью накопленного опыта» – ссылаясь, таким образом, на процедуру внесения поправок. Но это не то, чего хотят сторонники так называемой «живой» Конституции. Они выступают за систему, при которой федеральное правительство, и, в частности, федеральные суды, вольны – даже в отсутствие каких-либо поправок – интерпретировать конституцию в ином ключе, чем те, кто ее создавал и кто голосовал за ее ратификацию.
Оставляя в стороне предполагаемую проблему точного определения того, что создатели имели в виду в том или ином положении – если уж сторонники «живой» Конституции считают, что Конституция должна эволюционировать, должны быть готовы сформулировать исходное намерение как отправную точку. Если народ согласился с данным конкретным пониманием Конституции и в течение следующих лет не предпринял никаких официальных действий к его пересмотру, меняющему его исходное понимание (как, например, внесения поправок в соответствии с накопленным знанием), по какому праву может правительство в одностороннем порядке менять условия своего договора с народом, интерпретируя его слова как значащие что-то отличное от того, что изначально говорилось американскому народу?
«Живая» Конституция – это вещь, которую любое правительство получило бы с невероятным удовольствием – представьте себе, что люди начинают жаловаться на нарушение конституционных прав, а суды с подсказки правительства объясняют людям, что они, дескать, просто неправильно поняли: Конституция за прошедшее время просто эволюционировала. Это как в «Скотном дворе» Оруэлла: «животные не должны спать в кровати» становится «животные не должны спать в кровати с простынями», «животные не должны потреблять алкоголь» мигрирует в «животные не должны потреблять алкоголь сверх меры», а «ни одно животное не должно убивать другое животное» меняется на «ни одно животное не должно убивать другое животное без причины».
Именно поэтому по этому вопросу я полностью согласен с историком Кевином Гуцманом, который говорит, что те, кто хотят «живой» Конституции в результате получат мертвую, потому что она не сможет защищать нас от произвола правительства.
За свою политическую жизнь я заработал прозвище «Доктор нет», из-за своих прежних занятий медициной в сочетании с последовательным нежеланием голосовать за предложение, с которым не согласен, даже если при этом я оставался один против всего Конгресса. (Я действительно оказывался единственным на весь Конгресс голосом «против» чаще, чем все остальные конгрессмены, взятые вместе.) На самом деле, я не держусь за это прозвище, не воспримите меня как противника всего и вся, голосующего «против» ради собственного удовольствия. Поданные мной голоса «против», как и все остальные мои голоса в Конгрессе – следствие того, что при голосовании я думаю лишь о том, чтобы сказать «да» свободе и Конституции.
Конституция может многое нам сказать и по поводу внешней политики, если, конечно мы готовы слушать. Более половины столетия две основные партии сделали все, чтобы ее игнорировать, особенно когда речь шла об инициировании военных действий. Обе партии разрешили президенту использовать власть, от которой творцы Конституции надеялись его отлучить. И с тех пор, как обе партии презрели конституционное разделение военных полномочий между президентом и конгрессом, ни один – за редкими исключениями – не призвал восстановить равновесие.
Отцы-основатели не хотели, чтобы американский президент напоминал английского короля, от которого они отделились лишь несколькими годами ранее. Даже Александр Гамильтон, известный своими симпатиями к британской модели, на страницах «Федералистских эссе» указывал на критические различия между королем и президентом в представлении, основанном на Конституции:
«Президент – главнокомандующий армией и флотом США. В этом смысле его власть номинально такова же, как власть короля Великобритании, но на самом деле она гораздо меньше. Она не представляет собой ничего более, чем главное командование и руководство военными и морскими силами, как главного генерала и адмирала Конфедерации, в то время как власть британского короля простирается и на то, чтобы объявлять войну, а также, подъем и упорядочивание флотов и армий – полномочия, которые по Конституции регулируются законодательно».
Какое бы основание вы не выбрали – историческое или конституционное, вердикт очевиден: Конгрессу даны права объявлять войну, а президент, в свою очередь, должен вести войну после объявления. Это правило скрупулезно соблюдалось на протяжении всей американской истории вплоть до 1950 года и Корейской войны. Во всем коротком списке объявленных войн Конгресс, тем не менее, поддерживал конфликт законным образом. Все исключения из этого списка были столь незначительны, что вряд ли заслуживают упоминания.
Корейская война была важным переломным моментом в захвате президентом власти над военной политикой. Президент Гарри Трумэн послал американцев через полмира безо всякого намека на одобрение Конгрессом. Согласно Трумэну одобрение со стороны ООН было вполне достаточным и сделало согласие Конгресса необязательным (Кроме того, что эта идея опасна, она просто-напросто ложна: Статья 43 устава ООН гласит, что одобрение ООН применения силы должно быть одобрено правительством каждой нации «в соответствие с их собственными конституционными процессами». Этот принцип был подтвержден в США в дебатах по поводу Акта об участии в ООН в 1945). Трумэн кроме того заявил, что конституционные полномочия главнокомандующего дают ему право втравливать Америку в войну по собственной инициативе.








