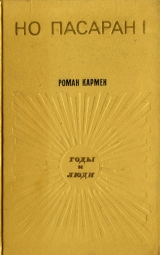
Текст книги "Но пасаран! Годы и люди"
Автор книги: Роман Кармен
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц)
По выжженной земле Подмосковья
8 декабря грянули бои. Начался разгром гитлеровских войск под Москвой. До этого за три недели оборонительных боев всего лишь дважды удалось мне побывать в Лиховом переулке – отвозил снятую пленку. А как хотелось хоть на день задержаться в Москве! Слово «москвич» теперь звучало гордо, как боевой пароль.
К моим основным двум работам – киносъемке и корреспонденциям в «Известия» – добавилась нагрузка не менее ответственная: в Совинформбюро предложили мне стать военным корреспондентом американского агентства печати Юнайтед Пресс. Было это вызвано тем, что иностранных корреспондентов на фронт не допускали, пользовались они только официальной информацией и очень на это сетовали; тогда им предложили договориться с советскими журналистами и писателями – фронтовиками о постоянном сотрудничестве через Совинформбюро. Эту работу стали выполнять Борис Полевой, Илья Эренбург, Евгений Петров и другие наши советские писатели и журналисты, находившиеся на различных участках фронтов.
В дни разгрома фашистских войск под Москвой на весь мир гремели имена генералов Жукова и Рокоссовского. Совинформбюро передало мне из Куйбышева убедительную просьбу корреспондента Юнайтед Пресс Генри Шапиро – взять интервью у Рокоссовского.
Встречался с Рокоссовским я часто. 16-я армия стала родным моим домом. Я подружился там с членом Военного совета Лобачевым, начальником штаба армии Михаилом Сергеевичем Малининым, начальником артиллерии армии Василием Ивановичем Казаковым. Штаб 16-й в этом же составе стал потом штабом Брянского фронта, впоследствии – штабом Донского, затем – 1-го Белорусского фронтов. В моей биографии с этими людьми связаны такие значительные вехи войны, как Москва, Сталинград, Варшава, Одер, Берлин.
Что ж, попытаюсь взять интервью у Рокоссовского.
* * *
Вторые сутки падал снег. Он улегся густым покровом на полях, на проселочных дорогах. Тяжелыми хлопьями покрыл ветви елей и сосен. Видимость при снегопаде была настолько плоха, что, сидя в выкрашенной в белый цвет «эмке», бегущей по Волоколамскому шоссе, можно было не глядеть на небо, откуда в погожие дни сваливались на голову коршуны с черными крестами на крыльях. Фронтовые дороги Подмосковья мы уже объездили, знали каждый перекресток, дерево, мостик.
Восьмого декабря войска 16-й армии выбили немцев из Крюкова и двинулись на Истру.
Непередаваемое чувство – радость победы. Я снимал толпы пленных гитлеровцев, обмотанных шарфами, женскими платками, и занесенные снегом танки, искореженные груды металла, тысячи автомобилей – грузовых и легковых, склады артиллерийские, склады горючего – все это было в панике брошено отступавшим врагом.
Фронтовая дорога изменила свой облик. Еще недавно нам навстречу шли печальные обозы – колхозники покидали свои села, нагрузив на саночки домашний скарб. Теперь по дорогам тягачи волокли подбитые немецкие танки, тащили на буксире тупорылые трофейные грузовики. Артиллерийская канонада гудела за ближним перелеском, как эхо уходящей грозы.
На улице одной из деревень, освобожденной нашими войсками, я снял пожилую женщину-крестьянку, встречающую красноармейцев. Прильнув к стремени командира-конника, она шла боком, спотыкаясь, боясь оторваться, держась за полу его шинели. Отстав от всадника, обняла шагающего солдата, по-матерински расцеловала его, перекрестила, солдат ответил ей сыновним поцелуем. А женщина, попятившись к обочине, продолжала класть земные поклоны, крестила солдат и, всхлипывая, осеняла себя крестом.
Потрясающий кадр снял оператор Беляков. Он в самолете У-2 пролетел над местами отступления немецких войск, снял долгую панораму над дорогой, забитой брошенными машинами, сгоревшими танками, подмосковные поля, как сыпью усеянные трупами немецких солдат.
Сражение за Москву развернулось на огромном протяжении фронта, почти в тысячу километров. Киногруппа Западного фронта вместе с операторами Центральной студии, снимавшими в Москве, насчитывала не более тридцати человек. Нетрудно представить, какая нагрузка падала на каждого, снимавшего в те дни. Кинорепортеры были закреплены за армиями, но вместе с тем каждый был в ответе за широкий участок фронта, оператор должен был, в зависимости от хода событий, принимать самостоятельные решения, действовать маневренно, не ожидая приказа.
Люди работали с предельным напряжением. Особенно воодушевились, узнав о том, что решено создать фильм «Разгром немецких войск под Москвой» – первый военный полнометражный документальный фильм.
В эти дни из фашистских журналов «Вохеншау» исчезла кинохроника боев на Восточном фронте. Ранее, в октябре немецкие газеты объявили, что в войсках, ведущих наступление на советскую столицу, сосредоточена большая группа кинооператоров, имевших специальное задание министерства пропаганды снимать «великое сражение под Москвой». Геббельс мечтал о большом фильме: вступление фашистских войск в Москву, торжественный парад на Красной площади…
Почему же исчезли в немецких «Вохеншау» репортажи с Восточного фронта? А вот, оказывается, почему: берлинские газеты опубликовали заявление руководителя киноотдела министерства пропаганды Гиппеля о том, что «на советско-германском фронте стоят сильные морозы, делающие невозможной работу киносъемочных аппаратов».
Среди наших трофеев в дни разгрома гитлеровских войск под Москвой оказалась и кинокамера – хроникальный съемочный автомат «Аррифлекс». Это было в районе Малоярославца. Бойцы, нашедшие кинокамеру в брошенной гитлеровцами легковой машине, передали ее оказавшемуся здесь оператору Владимиру Ешурину. Камера была заряжена полной кассетой пленки, Ешурин включил мотор, аппарат работал безотказно, несмотря на тридцать пять градусов мороза. Зря Гиппель ссылался на морозы, не в них дело было…
Ешурин снял трофейной камерой колонну немецких пленных, брошенные отступавшими гитлеровцами разбитые машины, танки, орудия, бронетранспортеры. Эти кадры были потом включены в наш фильм о разгроме немцев под Москвой.
А камеры у нас действительно иногда замерзали. Часто приходилось отогревать их под полушубком теплом своего тела. Прошедшие с первых дней через все испытания, «дорвавшиеся» до съемок большой победы, операторы работали, забывая о сне, невзирая на сильные морозы, на крайнюю усталость.
А в Лиховом переулке, куда непрекращающимся потоком шел материал, работал, не зная отдыха, весь коллектив студии – лаборанты, монтажницы, ассистенты, редакторы, огромный отряд документалистов, возглавляемый режиссерами Ильей Копалиным, Леонидом Варламовым и Романом Григорьевым.
* * *
Прошли годы. Над входной дверью студии в Лиховом переулке висит доска: «Центральная ордена Красного Знамени студия документальных фильмов». Мы, хроникеры, гордимся этим боевым орденом.
Операторы шли с войсками по выжженной земле. Фашистские факельщики, отступая, уничтожали все на своем пути. В редкой деревне сохранились сарай, хата. Туда так набивались люди, что не только лечь, но и стоять негде было. Помню, под Истрой в лесу я вытоптал в рыхлом снегу яму, выстелил ее еловыми ветками, зажег рядом костер и, поджав колени под полушубок, засунув руки в рукава, подняв меховой воротник, проспал несколько часов на трескучем морозе.
Освобожденная нашими войсками Истра представляла гнетущее зрелище, классическую картину «зоны пустыни» – черные печные трубы, редкие фигуры людей, тянущих на санках извлеченные из-под руин пожитки.
Штаб 16-й армии во время наступления постоянно в движении. Сейчас он расположился в сосновом лесу, в дачном поселке, где уцелели несколько коттеджей. Стоящий у калитки часовой вызвал ординарца командующего, меня пропустили.
В небольшой комнате два стола, покрытые картами. Ежеминутно звонят полевые телефоны. Начальник штаба Михаил Сергеевич Малинин принимает донесения командиров частей. По комнате из угла в угол ходит человек двухметрового роста в расстегнутом генеральском кителе. На вид ему можно дать лет сорок. На груди четыре ордена Красного Знамени и орден Ленина. Генерал-лейтенант Константин Константинович Рокоссовский.
Вчера он уклончиво ответил на мою просьбу об интервью для Юнайтед Пресс, очевидно, решил что-то «согласовать».
– Мы вот с начальником штаба сейчас в баньке помылись, – сказал он, кивнув в сторону Малинина, – когда немцев погнали, смогли, наконец, позволить себе роскошь – попариться. Давайте сначала по стакану крепкого чая, а потом уж побеседуем. А можно и за чаем. Да вы снимите полушубок. Не возражаете против чайку? А у немцев, рассказывают, в каждой почти штабной машине краденый самовар…
Мы прошли в соседнюю комнату. Койка командующего армией покрыта серым байковым одеялом. На койке лежали планшет, бинокль, на вешалке – подбитое козьим мехом кожаное пальто, каракулевая шапка-ушанка, пояс с пистолетом в деревянной кобуре. Под койкой – потертый рыжий чемодан. На дощатом столе кипящий самовар, хлеб, масло, колбаса.
Мне повезло. Был тот короткий вечерний час, когда командующий армией сравнительно спокоен, – там где-то слаженно и четко действует военная машина, все идет по плану, и в донесениях из дивизий и корпусов нет пока ничего, что могло бы насторожить, встревожить. Час этот может оказаться и не долгим – враг, отступая, огрызается, где-то может собраться с силами, нанести контрудар, но это уже будет отчаянной попыткой остановить наше неуклонно продолжающееся наступление.
Рокоссовский говорит с заметным польским акцентом, не повышая голоса. Удивительно, но этот гренадерского роста мужественный человек – я заметил не только сейчас, мне и раньше так казалось – застенчив, как бы чем-то смущен. Это не выглядит показной скромностью, он словно бы на самом деле стесняется своего высокого положения, своей славы. Щеки его залиты нежным румянцем, взгляд вопрошающий, чуть исподлобья, голубые глаза оттенены длинными ресницами. Улыбаясь, он по-детски выпячивает нижнюю губу.
– Расскажите, как выглядит Москва? – спрашивает он. – Что передают про Пирл-Харбор?
Интервью состоялось в непринужденной беседе за чаем. Рокоссовский отвечал на мои вопросы, я делал беглые заметки в блокноте. Где-то поблизости ухали залпы батареи дальнобойных гаубиц, при каждом выстреле дребезжали стекла, позванивали стаканы. Беседовали мы на исходе пятого дня нашего контрнаступления.
Он рассказал, как немцы потеснили наши войска к подступам Москвы, поделился своими мыслями, почему это могло произойти и почему нам оказалось под силу сломить наступательный порыв врага, а теперь мы преследуем его по пятам, бьем все сильнее и сильнее. Мы заранее условились с Рокоссовским, что перед тем, как отправлять, я покажу ему готовый материал. Поэтому только иногда вставлял: «Это – не для американцев, это я вам говорю…», ему самому, видно, захотелось высказать и то, что накипело в дни поражений и что наполняло его гордостью – наконец-то мы нанесли немцам сокрушающий удар. Первое убедительное поражение гитлеровского вермахта с начала второй мировой войны.
В его размышлениях порой звучала горечь, но преобладала большая гордость военачальника. Он ни разу не сказал «я», только раз, без малейшей рисовки сказал: «Когда генерал-фельдмаршал фон Бок бросил против меня большой силы бронированный кулак…» С большим уважением говорил о Жукове.
Последний мой вопрос: «Означает ли несомненный проигрыш немцами сражения под Москвой начало разгрома армий Гитлера в Советском Союзе?» – был задан нарочито в тональности иностранного журналиста. Рокоссовский, погрузившись на минуту в раздумье, ответил:
– Это первая наша крупная победа. Очевидно, немцы закрепятся где-то на оборонительных рубежах подальше от Москвы, приведут в порядок обессиленные войска, подтянут резервы. Важно, что они почувствовали мощь наших ударов. Силы наши возрастают с каждым месяцем войны.
Раздался телефонный звонок. Рокоссовский извинился: «Начинается ночная страда». Мы простились. Новогодняя ночь
Шли последние дни 1941 года. Года, который принес столько горя, бедствий, испытаний. Гитлеровские войска были отброшены от Москвы на сто пятьдесят, а где и на триста километров. Москве больше не угрожала непосредственная опасность. Это была первая крупная победа над фашистскими захватчиками. Мы еще не представляли себе, каким страшным окажется лето сорок второго года, нам предстояло еще вкусить горечь тяжелых поражений. Но разгром гитлеровских войск под Москвой прозвучал на весь мир как предвестник грядущей победы. Немецкий генерал Вестфаль писал: «Немецкая армия, ранее считавшаяся непобедимой, оказалась под Москвой на грани уничтожения…»
Было очевидно – победа под Москвой решилась не только в декабре 1941 года, воля к победе накапливалась в июле и сентябре, когда наш народ в мучительных испытаниях проявил силу сопротивления, величие духа.
Мир достаточно нагляделся фашистской кинохроники, где на экранах по дорогам Европы шли с закатанными рукавами, с автоматами, висящими на груди, скаля зубы в веселых улыбках, солдаты Гитлера. Они ломали пограничные кордоны гусеницами танков и шагали, шагали, улыбаясь, глядя в киноаппарат, жуя толстые бутерброды.
Наступило 31 декабря 1941 года. Звонок из Кремля на студию – прислать звуковую съемочную группу. Будет новогоднее выступление по радио, обращение к советскому народу. В Кремль направили меня и Халушакова со звуковой камерой. Кто будет выступать – не сказали. Мы договорились, как только мне станет известно, кто выступает, позвоню на студию и первое слово, которое скажу в телефон, должно начинаться с первой буквы фамилии выступающего. Ну, скажем: «Можно прислать машину к Спасской башне», значит, выступает Молотов…
В одиннадцать часов уже все было известно, позвонил на студию и по условному коду дал знать товарищам, что с обращением к советскому народу выступит Калинин.
В половине двенадцатого в небольшую, обитую мягкой материей комнату, где стоял микрофон, быстрыми шагами вошел Михаил Иванович Калинин. Он поздоровался с нами, мы обменялись новогодними приветствиями, пожали друг другу руки. Михаилу Ивановичу предложили сесть у микрофона. Он положил перед собой текст речи и, откинувшись в кресле, молча ожидал сигнала. Мы включили камеру.
Я представлял себе, как слова Калинина несутся в эфире по стране, их слушают миллионы людей в домах за скромно накрытыми столами, в блиндажах, в окопах, в цехах заводов. Михаил Иванович закончил выступление, мы снялись группой на память, снова поздравили друг друга с наступающим Новым годом.
Вышел на Красную площадь через Спасские ворота. Площадь была пустынна. Днем я узнал, что в Центральном Доме работников искусств будет традиционная встреча Нового года. Медленным шагом пересек безлюдную площадь Свердлова, от «Метрополя» по Неглинной улице дошел до Пушечной и, поднявшись вверх по улице, зашел в подъезд Дома работников искусств.
Директор ЦДРИ Борис Михайлович Филиппов встретил меня в торжественно приподнятом настроении.
– Если на Красной площади состоялся военный парад, – сказал он, – то мы должны, как обычно, Новый год встретить в ЦДРИ.
В большом зале стояла елка. Всегда здесь бывали шумные новогодние балы, на этот раз народа было очень мало. Никто заранее столиков не заказывал. Пили за победу, за наших близких, которые далеко в эвакуации, за солдатскую дружбу. В два часа ночи вышли на улицу, зашагали по морозной Москве. Редкие прохожие, обладатели ночных пропусков, поздравляли друг друга с Новым годом. Я пошел на студию. Не хотелось мне в эту ночь оставаться одному в пустой, нетопленной квартире. В те трудные военные дни студия была родным домом.
Путь через Ладогу
Трудно сейчас вспомнить, когда, где зародился план поездки в блокированный Ленинград. Очевидно, в период боев под Старой Руссой, которые были частью сражения за город на дальних его подступах.
В печати мало было сведений о Ленинграде. Но даже за краткими газетными сообщениями можно было представить масштабы бедствия, постигшего город, героизм его жителей, его защитников.
Ленинград был охвачен врагами в кольцо. В начале ноября Гитлер заявил, что будет спокойно выжидать, пока Ленинград, сломленный голодом, покорно упадет в его руки, как спелое яблоко.
Фашисты беспощадно обстреливали город. Тяжелая, осадная артиллерия била беспрерывно, укладывая снаряды в шахматном порядке во всех городских районах. Это страшнее бомбежки. Когда приближаются эскадрильи бомбардировщиков, население, предупрежденное сигналами воздушной тревоги, имеет возможность укрыться в убежищах. Снаряд внезапен, он разрывается на улице, на площадях, на перекрестке, в квартире, в доме. Нет ничего более варварского, чем артиллерийский обстрел осажденного города. В свое время я испытал это в Мадриде, который тоже был осажден фашистами и тоже подвергался зверским артиллерийским обстрелам.
Когда Ладожское озеро замерзло и навигация прекратилась, фашисты торжествовали. «По льду Ладожского озера, – утверждали они, – невозможно снабжать продовольствием миллионное население и войска». Но родилась ледовая дорога через Ладогу, которая стала жизненной артерией, связавшей Ленинград со страной. Конечно, по узкой ледовой дороге, которая к тому же простреливалась прицельным огнем вражеских артиллерийских батарей и подвергалась постоянным бомбежкам, трудно было решить проблему снабжения огромного города. Однако ленинградцы назвали ладожскую трассу «дорогой жизни», ибо нескончаемым конвейером, днем и ночью, продовольствие все-таки шло в осажденный город.
По этой дороге и мне предстояло проехать в Ленинград.
Лишь в первые два-три месяца войны в наших центральных журналах кинохроники появились несколько ленинградских репортажей. Но как только замкнулось кольцо блокады, поступление материала прекратилось. В Комитете кинематографии были озабочены тем, что ленинградские кинохроникеры не давали материалов в центральную военную периодику.
Меня направили в Ленинград не только для съемок. Необходимо было установить живой контакт с хроникерами, работавшими в кольце блокады, – Сережей Фоминым, Володей Страдиным, Ефимом Учителем, свежими силами помочь им, наладить регулярную присылку материала в Москву. Принять участие в работе над фильмом о героической обороне Ленинграда.
По предварительным подсчетам поездка в Ленинград на автомобиле с остановками в пути должна занять не меньше четырех суток. Меня спрашивали: «А почему не воздушным путем?» Самолеты регулярно совершали рейсы, связь с Ленинградом существовала.
– Только на машине. И обязательно на тяжелой, грузовой. В Ленинград нужно привезти продукты для товарищей.
Добравшись до Ленинграда, я понял, как правильно мы поступили, доставив кинематографистам продовольствие.
Комитет кинематографии направил письма в различные наркоматы и управления – мясной, консервной, рыбной промышленности, промышленности пищевых концентратов. Уже не припомню, в скольких кабинетах побывал с этими письмами, добывая необходимые резолюции. Но, должен сказать, слово «Ленинград», как волшебный талисман, открывало кабинеты, сердца людей. Нигде не было отказа. К грузу продовольствия прибавлялись объемистые посылки – их приносили родственники ленинградцев, находившихся в блокаде.
Ехали мы, кроме шофера, вчетвером: Борис Шер, ассистент оператора Бородяев, администратор Азов и я. Решили, что каждый из нас возьмет свой личный, небольшой запас продуктов – килограммов по десять.
* * *
Разные события в жизни человека оказываются иногда очень похожими, хоть их и разделяют многие годы. Собираясь в осажденный Ленинград, я вспоминал наш с Михаилом Ефимовичем Кольцовым рейс из Мадрида на север Испании в Бискайю и Астурию. Там в кольце врагов, отрезанные от страны, прижатые к морю, сражались республиканцы. Лететь к ним можно было только над территорией, занятой Франко. Редкие самолеты везли туда почту, боеприпасы, офицеров, возвращались с ранеными. С одним из этих рейсов мы полетели с Кольцовым.
Сейчас, отправляясь в блокированный Ленинград, я вспоминал этот рейд в Астурию в октябре 1936 года.
В мельчайших деталях обсуждали мы план предстоящего путешествия. Машина – четырехтонный грузовик. Среднюю скорость нашей экспедиции мы определили не больше, чем тридцать километров в час. Время военное, кто знает, где придется ночевать, поэтому первую ночь мы решили провести в пути, как следует отдохнув и выспавшись перед дорогой. И еще была причина, по которой мы хотели выехать именно вечером: в Колонном зале состоялось первое исполнение Седьмой симфонии Шостаковича. Мы решили пойти в Колонный зал и, прослушав симфонию Шостаковича, тронуться в путь.
Впоследствии часто я вспоминал об этом вечере 29 марта 1942 года.
Колонный зал был переполнен. Более половины пришедших прослушать симфонию были военные. Генералы, солдаты, офицеры. Людей пришло больше, чем было мест в зале. Я, как и многие, стоя примостился за колонной.
Имя сравнительно молодого еще Дмитрия Шостаковича уже было известно далеко за пределами Советского Союза. С жизнью Ленинграда были связаны все значительные моменты творчества Шостаковича. Когда война обрушилась на страну и Ленинград оказался в огне, композитор не захотел покинуть родной город. Он записался в пожарную добровольную команду и ежедневно дежурил на крыше здания.
Над Ленинградом плыл вой сирен воздушной тревоги. Под нарастающий рокот войны создал Шостакович свою бессмертную Седьмую симфонию.
Я стоял, прислонясь к колонне, помня, что внизу в переулке ждет запушенный снегом грузовик, на котором я сейчас поеду в Ленинград. В Ленинград, где родилась эта симфония.
Все ближе и ближе барабанная дробь. Перекликаются группы инструментов, словно поднимаются в бой по военной тревоге улицы, районы города. Он все нарастает, этот грозный ураган звуков. Вот он уже достиг небывалых вершин. Это уже кажется пределом звучания оркестра. Но он поднимается все выше, выше. Ленинград сражается со всей силой страсти. Город без света, без хлеба, без воды! Все ближе, ближе барабанная дробь! Чувствую, что сердцу тесно в груди. Я еще молод, никогда еще не знал, что значит боль в сердце, никогда не прислушивался к его биению. А сейчас я его чувствую, сердце словно вторит грозным звучаниям оркестра.
Громче, сильнее страшный ураган звуков! Не хватает дыхания от этого надвигающегося на тебя ужаса. Трудно было мне тогда представить, что настанет день – и симфония эта будет исполнена в столице Германской Демократической Республики. Сам Шостакович назвал свою симфонию «Поэмой о нашей борьбе, поэмой о нашей грядущей победе».
Чувствовалось, что и оркестр Большого театра и радиокомитета, и дирижирующий этим оркестром Самосуд живут теми же эмоциями, теми же чувствами, которыми охвачены все слушатели, переполнившие этот видавший виды Колонный зал…
Взглянул на часы. Пора ехать. График мы установили жесткий. Поманил товарищей, и мы медленно вышли из зала, провожаемые четвертой частью симфонии, по замыслу композитора – торжественного гимна Победы.
* * *
Грузовик стоял в переулке. «Поехали», – сказал я. Шофер развернулся вокруг Дома Союзов, мы миновали Охотный ряд, свернули направо, на опустевшую улицу Горького.
Выехали на Московскую заставу. Химки. Через час мы ехали уже по тем местам, где недавно немцы устанавливали свои осадные орудия, чтобы открыть из них огонь по Москве, по Красной площади.
Тоненькие щелочки маскировочных фар едва освещали пространство в два метра перед радиатором машины. Где-то над низко нависшими облаками светила луна, поэтому дорога хорошо просматривалась.
В Клину сделали короткую остановку, нашли около дороги комендантский пункт, там было что-то вроде чайной, выпили горячего чая.
Утром мы были в Калинине, уложили водителя отдыхать на три часа и – дальше в путь. На остановках не оставляем машину без присмотра – двое отлучаются, а двое не отходят от нее ни на шаг. Слишком ценный груз везем.
Не доезжая до Валдая, где-то по дороге опять комендантский пункт, здесь решили остановиться на ночевку – шофер был сильно утомлен. Наша с Борисом вахта на машине. Взгромоздились в кузов, залезли под брезент. Одеты мы тепло: ватные брюки, валенки, полушубок. Мороз тридцать два градуса. Подняв воротник полушубка, засунув руки в рукава, погрузились в сон. Однако где-то и во сне тревога не покидала. Дважды просыпался вылезал, обходил машину. Потом решил, что лучше спать не под брезентом, а сверху. Через три часа нас с Борисом сменили Азов и Бородяев. Шоферу мы дали отоспаться полных шесть часов, раздевшись, на койке, в хорошо натопленном помещении. Где-то за Валдаем, а может, и в самом Валдае (не помню точно) покинули мы Ленинградское шоссе и свернули в объезд Чудова, по направлению Аскуй – Будувич – Шовенец – Тихвин. Если бы ехали в распутицу осенью или весной – хватили бы лиха на этой дороге. А зимой дорога накатана.
От Тихвина взяли направление на Волхов, через Чемихино – Воскресенское – Кулакове – Юрцево. А от Волхова уже двинулись на запад, по последнему участку нашего пути. К Ладожскому озеру.
Навстречу стали попадаться машины, двигавшиеся из Ленинграда. От одного вида людей, которыми были перегружены автобусы и кузова открытых грузовиков, на нас повеяло ужасом ленинградской блокады. Не люди – призраки двигались нам навстречу, укутанные платками, одеялами.
Встречались и небольшие группы людей, идущие пешком. То ли им не нашлось места в машине, то ли, не дождавшись следующего рейса, они решились двинуться на свой риск. Глядя на этих людей, идущих из последних сил, я ощутил в полной мере трагедию Ленинграда. На память пришли печальные судьбы покорителей полярной пустыни, тех, кто, потеряв собак, нарты, израсходовав последние запасы продовольствия, шли по торосам, зная, что часы их жизни сочтены. Наиболее выносливые, сильные духом доходили до цели. Они оставили свои воспоминания, из которых благодарное человечество узнало страшные подробности трагедии, разыгравшейся в ледовой пустыне…
Ровно в двенадцать часов первого апреля – третий день пути – наша машина подъехала к Ладожскому озеру. Мы с Шером молча переглянулись: до горизонта расстилалось белое пространство, через которое была протянута, расчищенная бульдозерами, автомобильная трасса.
Дорога жизни!
Наиболее интенсивным движение здесь становилось в ночное время, потому что трасса проходила на виду у немецких батарей, расположенных на берегу Ладоги. Дорогу немцы пристреляли и пытаться проскочить на тот берег в дневное время было очень рискованно.
Каждая машина – спасенные жизни защитников Ленинграда. Каждая машина – это оружие, хлеб, горючее для танков, мясные туши, ящики с консервами и снарядами. Трасса на вид была почти пустая. И лишь одиночные точки – машины бежали на больших расстояниях друг от друга. Издалека виднелись на трассе разрывы снарядов.
Днем машины сосредоточивались в ближайших лесах и их выпускали по одиночке. Машины, везущие эвакуированных из кольца блокады, шли только ночью.
Уж раз мы попали на эту трассу, конечно, должны были ее снять столь подробно, сколь позволит нам время. Но снимать – это означает останавливать машину на дороге, делать ее мишенью для немецких пушек. Мы приняли решение: Азов, Бородяев и шофер остаются с машиной на этом берегу Ладоги. Мы с Борисом, взяв необходимый запас пленки, на попутной машине выедем на трассу. Вечером вернемся обратно на восточный берег Ладоги и на нашей машине в ночное время пересечем Ладогу.
Повесив на плечо кассетник пленки, взяв камеру, мы с Борисом стали дожидаться попутной машины. Вскоре она появилась. Подняв руку, остановили ее, объяснили, кто мы, что нам нужно, пристроились на подножках, поехали.
Через определенные интервалы на льду озера линейные посты – домики, сложенные из снежных кубов. Внутри домика печурка, койка, стол, табуретка. Соскочив у одного из таких снежных домиков, мы остались на льду. Ждать пришлось недолго, от берега в нашу сторону направлялись на небольшой дистанции друг от друга машины. Сняли машины, сняли красноармейца, стоявшего на посту с флажком. Я по журналистской привычке записал его фамилию – Микитенко Яков Данилович, 1902 года рождения, колхозник из Полтавщины. «Крыша вашего дома, Яков Данилович, выдержит, если на нее взобраться?» – спросил я. «Должна выдержать, – сказал он, – только на середину не становитесь, стойте на краешке, над стеной». Я снял с этой сравнительно верхней точки машины, направлявшиеся к ленинградскому берегу. На последнюю машину подсели, поехали дальше.
Мы колесили по трассе до наступления темноты, израсходовали всю пленку. Два грузовика, шедшие на дистанции ста метров один от другого, попали под артиллерийский налет, нам и это удалось снять. Сняли немецкого воздушного разведчика, летящего над трассой. Снимали регулировщиков, шоферов, снежные домики. Вернулись к машине очень довольные съемкой, но усталые, замерзшие, голодные и с остервенением набросились на еду (утром забыли захватить что-нибудь поесть, а в этих краях язык не повернется попросить у кого-нибудь кусок хлеба).
А когда стемнело, наша машина по пологому спуску выехала на лед Ладожского озера. В водительской кабине, где мы сидели с Шером, тесно прижавшись друг к другу, было темно. Он толкнул меня локтем в бок, я ему ответил. Да, это был знаменательный момент – мы двинулись по ладожской трассе в город Ленина.
Пройдут десятилетия, не забудется Ладожская трасса. Будут помнить люди, как шли по льду колонны машин с грузами из Москвы, Горького, из Средней Азии, как тянулись по этой ладожской трассе красные обозы партизан. Из оккупированных районов Ленинградской области они везли продовольствие осажденному Ленинграду.








