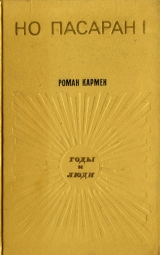
Текст книги "Но пасаран! Годы и люди"
Автор книги: Роман Кармен
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 31 страниц)
В новогоднюю ночь
Ночью меня разбудили. Я поднялся на третий этаж.
Сергей тяжело дышал. Он изредка шептал что-то белеющими губами. Потом взглянул на нас и затих. Кольцов заплакал.
Я долго смотрел на его высокий красивый лоб, на спокойные восковые черты усталого лица. Люс проплакала у его изголовья до утра.
В ясный солнечный день мы с Кольцовым хоронили Сергея. Его товарищи не могли прийти на похороны. Они сражались. Долго не могли найти Люс, она исчезла. Прибежала она, когда уже закрывали крышку красного гроба. В осажденном врагами Мадриде она разыскала две белые хризантемы и положила их у изголовья Сергея.
Черный автомобиль-катафалк лавировал между трамваями. Его обгоняли с бешеной скоростью военные машины. Встречные поднимали кулаки, снимали береты. Солдаты молча, торжественно поднимали над головой винтовки. Черному катафалку салютовали строители баррикад на перекрестках. Женщины в черном, стоявшие в длинных очередях, поднимали кулак, провожая в последний путь капитана Сергея Тархова, посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза.
А в небе кружили истребители, патрулирующие над городом.
На окраине маленькая девочка, подняв руку, остановила катафалк, что-то сказала шоферу и вбежала в дом. Через несколько минут она выбежала с букетом цветов и, поднявшись на цыпочки, положила цветы на гроб. Я обернулся. Девочка, подняв кулачок, смотрела нам вслед.
На кладбище тихо. Около часовни много трупов убитых во время последней воздушной бомбардировки. Женщина в окаменелых объятиях сжимает убитого вместе с ней грудного ребенка. Маленькие дети беспомощно раскинули ручонки на влажной траве среди желтых листьев. Из города доносятся разрывы тяжелых снарядов.
В Испании хоронят, замуровывая гробы в ниши колумбария. Мы сняли гроб с катафалка, поднесли его к нише и, поставив на землю, открыли крышку.
На горизонте появились силуэты «юнкерсов». Эскадрилья республиканских истребителей сделала крутой разворот и пошла навстречу врагу. Гроб установили в нише, закрыли нишу мраморной плитой и замуровали алебастром.
Воздушный бой кончился. Истребители сомкнутым строем, крыло к крылу, возвращались на небольшой высоте на свой аэродром в Алкала де Энарес. Они с могучим ревом пронеслись над нашими головами. Летчики и не подозревали, что в боевом строю салютуют своему товарищу, провожают его в последний путь.
* * *
Неповторимый в своей мужественной красе Мадрид встречал новый, 1937 год.
Наступала новогодняя ночь. На серой пелене облаков над Мадридом были розовые отблески пожаров. Вот уже два месяца, как фашистские полчища подошли к стенам Мадрида. Франко оповестил мир, что войдет в Мадрид 7 ноября. Фашисты не взяли Мадрида ни седьмого ноября, ни восьмого, ни девятого. Они не вошли в Мадрид ни в тридцать шестом году, ни в тридцать седьмом, ни в тридцать восьмом. Это стало известно позже, а в декабре мы считали дни и ночи. Бои шли в Карабанчель-Бахо, в парке Каса дель Кампо, в Университетском городке. В обороне города стояли рабочие Мадрида, бойцы коммунистического 5-го полка, плечом к плечу с ними стояли у стен Мадрида славные интернациональные бригады, сражались советские парни – добровольцы летчики, танкисты.
Мадрид вечером 31 января 1936 года был погружен в тревожную темноту. Машина медленно ехала по улицам, ощупью находя в темноте дорогу. Около баррикад на перекрестках я останавливал автомобиль, чтобы предъявить документы закутанным в одеяла бойцам. Мадрид был особенно насторожен в последние дни декабря. «Пятая колонна» в любой момент могла поднять восстание. За последние ночи патрули уже не раз мчались куда-то, где вспыхивали пулеметные очереди и беглый ружейный огонь.
Продрогшие люди до утра будут нести эту тревожную новогоднюю вахту. Они на каждом углу. Тени отделяются от стен домов, останавливают машину и, направив в окно дуло пистолета, шепотом спрашивают пароль.
В подъезде военного министерства – фронтовые машины, броневичок с орудием. Я прошел по длинным пустым коридорам, через большие залы, озаренные тусклым светом. На длинных бархатных диванах спали вооруженные люди. Здесь тишина, но если подойти к окну, прислушаться – стрельба совсем близко. Линия фронта – в городе. Сапоги у спящих покрыты рыжей окопной грязью, у многих перевязаны голова, руки. Сквозь бинт просочилась и запеклась кровь. Невыспавшиеся девушки отстукивали лаконичные мандаты угрюмым людям, обросшим черными бородами. В коридоре я столкнулся с танкистами. Политрук танкового батальона Иван Зуев и капитан Арманд. Они ненадолго приехали с передовой из Каса дель Кампо, где мы днем уже успели сегодня поздравить друг друга с наступающим Новым годом.
Я прошел в помещение Хунты обороны Мадрида. Первый, кого я там увидел, был Антонио Михе – популярнейший из руководителей Испанской компартии, член хунты. Коренастый, чуть полноватый, он был полон жизни, юмора. Только что вернулся из частей 5-го полка.
На вопрос – как обстановка? Ответил: превосходно! У Франко сегодня новогодняя ночь будет безрадостной. Ребята встречают Новый год с чудесным боевым настроением. Но пасаран!..
Я знал, что обязательно увижу тут Михаила Ефимовича Кольцова. Мы еще вчера уговорились вместе встречать Новый год. Ну, конечно, он здесь! И как всегда жизнерадостный, подтянутый, веселый.
– Поехали в Алкала де Энарес! К летчикам, – воскликнул Кольцов. – Вот и Антони хочет к нам присоединиться.
Тридцать километров от Мадрида по Валенсийской дороге. Маленький тихий городок Алкала де Энарес – родина Сервантеса – стал центром республиканской авиации центрального фронта. Рядом с городком на аэродроме расположены были советские истребители. Валенсийская дорога – единственная, соединяющая охваченный полукольцом врагов Мадрид со страной. Эта дорога, казалось бы, могла быть загруженной беженцами, оставляющими осажденный город. Ничего подобного. Этой ночью мы встретили только обозы с продовольствием, стада скота, которые крестьяне гнали в Мадрид.
Из темноты, насыщенной тревогой, напряжением и холодом, мы шагнули в светлый зал, уставленный праздничными столами, цветами. Гул веселых голосов, шутки, песни. Стрелка часов приближалась к двенадцати. Русые волосы, голубые, серые глаза, кожаные курточки… Сегодня я живо и отчетливо вижу этот стол, этих чудесных людей, полных жизни, радости, – советских летчиков в далекой Испании, в маленьком испанском городке – родине автора бессмертного рыцаря Печального образа. Им понятна была задача, поставленная страной, партиен: сражаться с фашизмом! Сражаться на испанской земле, накапливая боевой опыт для грядущих боев с фашистами за свою Родину. Всем было ясно: это только начало. Впереди предстоят смертельные бои, уверены были – фашизм обречен. И только советским воинам суждено вогнать его в могилу.
Помню мужественные лица Захарова, Смушкевича, Пумпура, Арженухина, Рычагова, Агафонова…
С первым полуночным ударом часов поднялись все сидевшие за новогодним столом. Аж затрещали на швах кожаные курточки, засверкали глаза советских богатырей, которым с рассветом суждено было, затянув лямки парашютов, снова сесть в краснокрылую машину. Снова идти в бой.
– За нашу Советскую Родину! – прозвучал тост, и у многих подернулись влагой глаза, привыкшие глядеть смерти в переносицу…
Много-много раз приходилось мне встречать Новый год далеко от родной земли. Было это и в ледяной арктической пустыне в полярную ночь; и на берегах лазурного Карибского моря; и в блиндаже под тремя накатами при коптящем огоньке «катюши»; и в штормовую ночь в открытом море в свайном городке нефтяников Каспия. И посчастливилось мне всегда в эти новогодние ночи быть рядом с прекрасными смелыми людьми. С уважением вглядывался я в их суровые лица, в каждую глубокую складку на лбу, в каждую седую прядь.
Отель «Флорида»
Несколько строк из моей корреспонденции в «Известия», отправленной в дни, когда фашистские войска предприняли большое наступление на берегах реки Харамы, имевшее целью отрезать Мадрид от Валенсии: «В эти дни на передовых линиях борьбы за Валенсийскую дорогу я несколько раз встречал человека, неуклюже шагавшего по окопам. Он пробирался на самый передний край, присаживался к бойцам интербригады, беседовал с ними. Это – известный американский писатель Эрнест Хемингуэй, он вместе с голландским кинооператором Йорисом Ивенсом снимает фильм о борьбе испанского народа…»
Был тяжелый день. Бои шли в районе Марата де Тахунья, где фашисты наступали большими силами, гоня в атаки массы марокканцев. На самом трудном участке оборону держала 12-я интернациональная бригада. В бой были введены советские танки.
Утром Ивенс на лету познакомил меня с Хемингуэем, а в течение дня я дважды видел их издали – Хемингуэя, Ивенса и оператора Джона Ферно, они шагали с камерой по окопам, взбирались на холмы, отлеживались, прижавшись к земле во время артиллерийских налетов. Цель у них, как и у меня, была одна – снять боевые кадры. Очевидно, описывая один из тех дней, когда мы встретились на Хараме, Хемингуэй писал в своей фронтовой корреспонденции:
«…Это вторая атака за последние четыре дня, которую я наблюдаю так близко. Первая проходила в серых с оливковыми деревьями, изрытых холмах в секторе Марата де Тахунья, куда я направился с Йорисом Ивенсом снимать пехоту и наступающие танки в момент, когда они, точно наземные корабли, взбирались со скрежетом по крутому склону и вступали в бой.
Резкий, холодный ветер гнал поднятую снарядами пыль в нос, в рот и в глаза, и, когда я плюхался на землю при близком разрыве и лежал, слушая, как поют осколки, разлетаясь по каменистому нагорью, рот у меня был полон земли. Ваш корреспондент известен тем, что всегда не прочь выпить, но никогда еще меня так не мучила жажда, как в этой атаке. Хотелось, правда, воды».
Мы встретились пополудни около НП 12-й интербригады. Утомленные многочасовой ходьбой по окопам, лазаньем по каменистым склонам холмов, присели, отдышались. Было ясно – трудовой день окончен, бой стихал. Штаб 12-й даже в боевой обстановке был гостеприимным домом. Матэ Залка, высунувшись из блиндажа, взглянул в нашу сторону и сказал:
– Потерпите немного, по договоренности с фашистами наступает обеденный перерыв, скоро нам принесут чего-нибудь поесть.
Хемингуэй, вздохнув, полез в задний карман своих широченных штанов, извлек объемистую флягу.
– Пока генерал Лукач нас кормит обещаниями, давайте-ка выпьем, ребята. – Отвинтив закрывающий горловину фляги алюминиевый стаканчик, он, держа его на уровне глаз, налил коньяку. Пили по очереди, Хемингуэй выпил последним. Завинчивая флягу, сказал: – Мы выпили за русских танкистов. Они сегодня хорошо проутюжили окопы марокканцев у той оливковой рощи.
Хемингуэй был одет в легкий светлый плащ, вымазанный в окопной глине. Под плащом – свитер и мешковатый пиджак. Грубые, на толстой подошве башмаки. На голове черный баскский берет. Под густыми дугами бровей – очки в круглой железной оправе. Черные, большие, чуть свисающие к углам рта, усы.
Пробежавшему мимо адъютанту Лукача Леше Эйснеру я сунул в руки «лейку», он щелкнул нас – Ивенса, Хемингуэя и меня, сидящих на земле. На снимке Хемингуэй смотрит в аппарат с внимательным прищуром едва заметной улыбки. Снимок сохранился, он очень мне дорог.
Жил Хемингуэй в Мадриде в отеле «Флорида». Раньше там жили и мы с Кольцовым, до того, как переехали в Палас-отель. Несколько вечеров я провел у Хемингуэя.
Обычно комната его была забита людьми, большинство которых были одеты в военную форму интербригад – грубую суконную куртку, такие же шаровары, заправленные в высокие ботинки на толстой подошве, с огромными пистолетами на поясе. У двери стояли всегда прислоненные к стене две-три винтовки. Хозяин встречал входивших приветливым «хэлло», кивал на стол, уставленный бутылками, вскрытыми консервами, апельсинами, лежавшими прямо гроздью вместе с веткой. Звучала речь – английская, испанская, кто-то болтал по-французски, по-немецки. Окна были зашторены, комната утопала в сизом тумане табачного дыма. Помню, в один из вечеров на кровати полулежала одетая в военную форму очень красивая молодая женщина, рассыпав на подушке золотую гриву пышных волос. Ее ботинки были вымазаны глиной, говорила она на немецком языке, пересыпая речь испанскими словами, пила неразбавленный виски. Кто-то сказал мне, что она врач одной из интербригад, немка. Хозяин дома подсаживался к ней, подолгу беседовал.
Когда духота и облака табачного дыма становились невыносимыми, в комнате выключали свет, распахивали окно, тогда становились слышны шумы боя – ружейная трескотня и короткие пулеметные очереди. До передовой отсюда, от улицы Гран-виан было рукой подать, линия фронта проходила в Университетском городке, в парке Каса дель Кампо, на реке Мансанарес, все это было рядом. На расстоянии квартала от «Флориды» на Пласа де Республика, опоясанной каменными баррикадами, Дон Кихот, сидящий верхом на Россинанте, был обложен мешками с песком.
Когда, спустя много лет, вспоминаю эти вечера, встречи на разных участках фронта, охватывает чувство горечи – почему не записал в блокнот слова Хемингуэя, его шутку, гневную реплику, не запомнил, кто был его гостями? Почему не было тогда ощущения, что встречи с этим человеком, с простым собеседником, радушным хозяином номера «Флориды», станут бесценным воспоминанием? И никто не ловил каждое сказанное им слово – балагурили, обменивались репликами, отпускали крепкие слова в адрес фашистов или просто молча сидели рядом с человеком в железных очках, немного возбужденным от выпитого, громко смеявшимся, умеющим слушать не перебивая собеседника, пытливого, вдруг погружавшегося в раздумье.
Он расспрашивал меня о съемках, был увлечен работой по созданию фильма «Испанская земля», тепло говорил об Ивенсе.
Как-то я спросил его, не собирается ли он приехать в Советский Союз, он сказал, что мечтает об этом. И с улыбкой добавил, что ему рассказывали, что в нашей стране есть места, где великолепно ловится форель.
* * *
Встречались редко. Бывало, приедешь куда-то, говорят, что только что здесь был Хемингуэй. Мы, к примеру говоря, ни разу не столкнулись с ним на Гвадалахаре, где был разгромлен итальянский экспедиционный корпус, а рыскали одними и теми же путями. В деревне Бригуэга, откуда выбили итальянских фашистов, я снимал, как бойцы Листера соскабливали со стен лозунги «Вива Муссолини!», а спустя час Людвиг Ренн, которого я встретил на дороге, спросил: «Ты не видал Хемингуэя, он поехал в Бригуэгу». Первого мая командир 14-й интербригады Сверчковский – Вальтер закатил роскошный праздничный ужин, был туда приглашен и Хемингуэй. Я провел вечер у Сверчковского, а Хемингуэй в этот вечер был в штабе 12-й в Моралехе. его не отпустил из-за праздничного стола Матэ Залка. Наутро я вылетел в Бильбао, окруженный фашистами, там я узнал о гибели Матэ Залка. Это тяжелое известие дошло до Хемингуэя шестнадцатого мая в Бимини.
* * *
Прошли годы. Началась вторая мировая война. И среди тех удивительных случайностей, которые происходили с людьми во время войны, произошло то, что до сих пор мне кажется неправдоподобным. Было это в начале сорок третьего года. Проездом с одного фронта на другой мне довелось двое суток провести в Москве. Жил на студии, заехал буквально на несколько минут в свою пустую, холодную квартиру на Полянке – нужно было что-то взять из вещей. Не успел перешагнуть порог, как раздался телефонный звонок, я поднял трубку. Звонили из ВОКСа: «Вам пришло письмо. Судя по конверту и маркам, письмо с Кубы. Как вам его передать?» Недоумевая, что это может быть за письмо, сказал, что заеду за ним.
Я был поражен, увидев подпись Хемингуэя. Письмо шло долго, неведомыми путями, и кто знает, дошло бы оно до меня, если бы не чудесное совпадение – надо же мне было подойти к телефону…
Письмо было в одну страничку. Долго я его носил в нагрудном кармане гимнастерки, перечитывал. Многое было потеряно во время войны, но как же был я огорчен спустя два года, обнаружив, что потерял это дорогое мне письмо от далекого друга. Писал он примерно следующее – я запомнил почти слово в слово:
«Дорогой Кармен! Не представляю, где и когда дойдет до вас это письмо. Я, зная Вас, убежден, что Вы в огне сражений, в боях, которые Ваш народ ведет с фашизмом. А я пишу Вам с далекой Кубы, которая в стороне от сражений. Но не подумайте, что я отсиживаюсь в тиши. Представьте себе, что, будучи здесь, на Кубе, я тоже воюю с фашистами. Сейчас я не в праве рассказывать Вам, в чем выражается эта моя борьба с фашизмом. Придет время, я об этом расскажу, уверен, что мы встретимся. Быть может, встретимся на полях сражений в Европе, когда будет открыт Второй фронт. Сердечный привет! Салуд! Ваш Хемингуэй».
Впоследствии мы узнали о героической борьбе Хемингуэя с нацистскими подводными лодками, которые крейсировали у северных берегов Кубы, нападая на транспорты союзников. Это он и имел в виду в коротких строках своего письма. Свой рыболовный катер «Пилар» Хемингуэи переоборудовал, вооружил его, укомплектовал командой отчаянно смелых, преданных ему друзей. Эту боевую работу они вели на протяжении двух лет. В 1944 году Хемингуэй высадился в Нормандии, он все-таки дорвался до схватки лицом к лицу с ненавистными ему фашистами.
Так и разошлись наши пути. Когда я прилетел на Кубу, оказалось, что Хемингуэй недавно улетел в Испанию. А до этого Анастас Иванович Микоян, навестивший Хемингуэя в его вилле близ Гаваны, рассказывал, как хозяин дома, показывая свою библиотеку, снял с полки книгу «Год в Китае» с авторской надписью. Книгу эту я послал ему перед самой войной.
Осталось навсегда ощущение теплоты испанских встреч, и, вероятно, сила обаяния Хемингуэя в том и заключалась, что, когда он был рядом, когда подливал тебе виски, смеялся или задумывался, слушая тебя, шагал по комнате, не было чувства, что рядом с тобой человек, имя которого будет бесконечно дорого всему человечеству.
Один против двенадцати
Как-то вечером, когда я сидел в комнате у Кольцова, в «Паласе» раздался стук в дверь. Зашли двое парней. Оба в кожаных тужурках на молнии. Мы сразу по их внешнему виду догадались – летчики. Один – высокий, с пшеничной шевелюрой, курносый, из-под густых белых бровей на нас смотрели голубые глаза. Другой – ему по плечо, широкоплечий, чернявый. У голубоглазого через плечо был в деревянной кобуре маузер. У другого под тужурочкой наш русский «ТТ». Оба – улыбчивые, застенчивые.
– Здравствуйте, товарищи. Мы с аэродрома из Алкала, вот решили заглянуть в Мадрид. Нет ли у вас газеток последних?
– Господи, ребята, берите все, что есть. – Кольцов засуетился, собирая со столов и подоконников номера «Правды», «Комсомолки». – А часто вы бываете в Мадриде?
– Вообще-то каждый день наведываемся, правда… обычно на самолете. А бывает вечерами на машине приезжаем.
– Заглядывайте в любое время, запросто, – сказал Кольцов, – всегда в конце дня Кармен или я бываем дома. Застанете – входите, берите газеты.
Просидели летчики у нас больше часа. Время пробежало незаметно за интересной беседой. Они рассказывали о боевой работе. Кольцов делал беглые записи в своем блокноте. Задавал вопросы. У обоих были испанские имена, нам они сообщили свои настоящие, русские: голубоглазый Родригес – Георгий Захаров, чернявый Педро Хименес – Павел Агафонов.
Стали они приезжать вечерами почти через день. Когда не было их, как-то тревожно становилось, уже родными эти двое пареньков стали. Каждый день в небе смертельная карусель, из которой вдруг падал огненный факел – то фашистский самолет, то наш. Сжималось сердце – неужели Жора Захаров или Паша Агафонов? А вечером, когда раздавался стук в дверь и заходил улыбающийся один из них, – камень сваливался с души. И следовал рассказ о том, что происходило сегодня в воздухе, сколько сбили, кого из товарищей потеряли. А потом, нагрузившись газетами, они уезжали. Особенно подружился я с Захаровым. Часто я видел его на аэродроме, наблюдал, как садился он в самолет, как командовал эскадрильей. Это был уже не тот застенчивый Жорка, который, цепляясь за мебель кобурой маузера, ходил по нашей комнате в «Паласе». Уверенный в себе, целеустремленный, собранный, окутанный лямками парашютов, он, кивнув мне, захлопывал над головой колпак, по сигналу ракеты взмывал в воздух и вел в бой своих двенадцать ястребов.
Тревожным было ожидание на аэродроме.
Лицо летчика, возвратившегося из боя, было каким-то потусторонним. Он вылезал из самолета, медленным взглядом подсчитывал пробоины, проводил рукой в кожаной перчатке по фюзеляжу, по крылу, словно поглаживал боевого коня. В его глазах был еще незатухший блеск, рождавшийся там, в небе, где он встречался с врагом. Побеждал кто сильнее, у кого крепче воля, острее взгляд, молниеноснее реакция на маневр противника. Нечеловеческое перенапряжение! И снова катятся колеса машины по траве аэродрома, открывается колпак, летчик идет развалистой походкой, отстегивая на ходу парашют…
Произошел с Георгием Захаровым как-то забавный случай. Легко сказать, забавный – чуть не стоил ему жизни. Было это так. На истребительном аэродроме обычно летчики сидели в самолетах в готовности номер один, сигналом для взлета эскадрильи была ракета. Зеленая означала вылет на Мадрид, по сигналу красной ракеты эскадрилья взлетала и совершала круги над аэродромом, чтобы встретить фашистские бомбардировщики, направляющиеся на наш аэродром.
Случилось, что у Захарова мотор не завелся сразу после ракеты. Ребята взмыли в воздух, а он чуть задержался, оторвался от земли и пошел на Мадрид. Сделав широкий круг над Мадридом в поисках опередившей его эскадрильи, он своих самолетов не обнаружил и, недоумевая, куда же они девались, пошел на второй круг. Наконец увидел двенадцать истребителей, идущих боевым строем впереди него. Догнав и подстроившись к ним, он начал проходить сквозь их строй, чтобы занять свое ведущее место во главе эскадрильи. И тут он похолодел, увидев, что забрался в стаю «хейнкелей» и «фиатов». Их было двенадцать, он тринадцатый, счет правильный, единственная ошибка – самолеты были фашистские.
Раздумывать было некогда. Захаров, с ходу короткой очередью сбив ведущего, вступил в воздушный бой, какого, очевидно, не случалось в истории воздушных сражений – один против двенадцати! Надо заметить, что тогда наши истребители еще были без бронеспинок и пущенная сзади вражеская очередь могла прошить пилота. Захаров увидел, что его с хвоста атакуют три истребителя, в этот момент брызнул стеклянными искрами приборный щиток его машины, обожгло плечо и ухо. Счастье, что он, взглянув назад, слегка отклонился вправо и очередь прошла мимо его головы.
Одна мысль – тянуть на свой аэродром. Выручала прекрасная маневренность машины, Захаров взмывал свечой, совершал сумасшедшие перевороты, скользил на крыло, атаковал врагов и в то же время тянул на восток, к своему аэродрому.
Загорелся второй фашист. Осталось десять – против одного. Остервеневших, чуявших легкую победу, поливавших одинокую, кувыркавшуюся в стремительных виражах машину струями пулеметных очередей. Но самолет был еще послушен, это было чудом – он повиновался Захарову, который в этой сумасшедшей схватке атаковал, увертывался и в то же время тянул, тянул, тянул на восток, держа в своем поле зрения всех врагов, чтобы не подставить себя под смертельный удар.
Вот один из них, набрав высоту, ринулся сзади. Захаров, сделав переворот в крыло, пропустил его вперед и вонзил вслед кинжальную очередь. Тот вспыхнул и, вертясь, пошел к земле. Третий! Уже показались очертания родного аэродрома. Там ребята, они выручат. В это время один из фашистов пристроился к нему в хвост. Захаров свалил машину почти в вертикальное пике, а тот неотрывно шел за ним, занимая смертельную для Захарова позицию. Земля неслась навстречу. Фашист открыл огонь. Захарова обгоняли струи трассирующих пуль. На критической высоте – собственно высоты уже не было – Захаров взял ручку на себя, его истребитель послушно взмыл вверх, а фашист, не рассчитав, врезался в землю.
И в этот момент Захаров увидел своих ребят, которые дружно кинулись на врагов, клевавших командира. Позже, на земле, все выяснилось – ракета-то была красная. Эскадрилья, поднявшись по этой ракете, совершала круги над аэродромом, а Захаров сгоряча устремился в сторону Мадрида…
Из двенадцати фашистов, которых встретил Захаров над Мадридом, вернулись на свой аэродром только трое. Захаров сбил трех, четвертого вогнал в землю, а пятерых сбили его летчики.
В машине Захарова насчитали сто тридцать шесть пробоин. Разбита была приборная доска, разорвана в клочья головная подушка пилотского сиденья, разорван шлем и вырван клок из кожаного пальто на плече. Из четырех орденов Красного Знамени, украшавших грудь Георгия Захарова, один – за этот уникальный воздушный бой.
* * *
Прошло месяцев шесть после нашего знакомства. Встречаясь с Жоржем в Мадриде, я угадывал чертовскую усталость в глазах, в движениях, в том, как он садился, рукой проводил по шевелюре и глазам, словно отгонял тяжелые образы смертельного боя. Он никогда не жаловался на усталость, но однажды у него вырвалось: «Собьют меня скоро, чует сердце. Вроде надломился я, устал…» Сколько же месяцев подряд, подумал я тогда, может человек выдержать такое напряжение.
Как-то приехал Жорж, и я сразу почуял, что он не в настроении.
– Что с тобой? – спросил я.
– Понимаешь, пришла смена, прибыли новые летчики. Всю нашу группу, всех, первыми приехавших в Мадрид, отправляют в деревню (деревней ласково называлась Родина, Москва). Всех, кроме меня и Пашки Агафонова.
– Почему вас оставляют?
– Говорят, нужно натаскивать в бою тех, что приехали, новеньких. Пожалуй, оно и правильно… – он замолчал, сложив руки на коленях, и я понял, что этого богатыря ломит нечеловеческая усталость. Шутка ли, полгода по нескольку воздушных боев почти ежедневно!
– Когда назначен отъезд?
– Завтра вечером из Валенсии уходит пароход. А мы с Пашкой, – добавил он, – еще повоюем с фашистами.
Я проводил Захарова и Агафонова к машине. План действий возник мгновенно. Через двадцать минут, сидя за рулем машины, я мчался в Валенсию.
За эти месяцы я подружился с нашими советскими советниками по авиации – Смушкевичем (его в Испании звали Дуглас), с Борисом Свешниковым, военно-воздушным атташе, который занимался доставкой, отправкой летчиков.
Весь путь до Валенсии, что-то около трехсот километров, частично по горной дороге, я промчал за четыре часа. Около полуночи подкатил к отелю «Метрополь» и тут же ввалился в комнату Свешникова. Он еще не спал, я все ему выложил.
– Ты же убьешь этих ребят, – горячился я. – Золотые, штучные летчики! Если уж человек говорит, что его собьют в первом бою, значит, дошел до психологического барьера!..
Свешников, видно, встревожился:
– Да это же не надолго, следующим пароходом и отправлю их. Захаров, Агафонов асы, орлы, еще не родился немец, который их собьет!
– Поверь, не дотянут они до следующего парохода, – не унимался я. – Сейчас же звони им и отправляй их домой.
– Хорошо, я это сделаю, – сдался Борис. – Пожалуй, ты прав.
Я спустился к дежурному по посольству, передал ему для отправки в Париж привезенную снятую пленку и, не дожидаясь утра, рванул обратно в Мадрид.
Свешников сдержал свое слово. Через несколько дней, приехав в Алкала де Энарес на истребительный аэродром, я увидел новые лица, спросил о Захарове, сказали: «Уехал в деревню».
* * *
Догадался ли Жорж о том, что я помог ему в трудный момент его жизни? Прошли месяцы. Я вернулся в Москву. Справлялся о Захарове, никто из моих друзей «испанцев» не мог мне сказать, где он.
После Испании я почти год провел в Арктике – летал с воздушной экспедицией на поиски Леваневского. Зазимовал на Земле Франца-Иосифа. Только весной 1938 года с летчиком Ильей Мазуруком я вернулся на Большую землю. Снова встретившись с испанскими друзьями, узнал, что Жорж Захаров полетел в Китай добровольцем. Это был период ожесточенной борьбы китайского народа с японскими империалистами. В Китае сражались советские летчики-волонтеры. В их числе был и Георгий Захаров. В сентябре 1938 года я должен был лететь в Китай, меня не покидала мысль, что я встречу там моего друга. Встречу ли? Китай велик. Во время одного из моих дальних рейсов – я направлялся тогда в Северный Китай – остановился на ночлег в городке, возле которого расположен был военный аэродром. Городок был мал, не было в нем приличной гостиницы. В поисках пристанища я набрел на общежитие китайских летчиков, предъявил свой документ военного комитета, в котором содержалась просьба оказывать содействие советскому кинооператору.
Пока дежурный по общежитию внимательно изучал мои документы, во двор въехали три автобуса, из которых высыпала шумная орава молодых парней в кожаных курточках, среди китайцев мелькнули европейские лица. Вдруг что-то огромное ринулось на меня, затрещали в медвежьих объятиях мои ребра, глянули на меня из-под золотых кудрей голубые глаза, и грозившая мне удушением кожаная курточка завопила:
– Салуд, камарадо!
– Жорка!..
Волонтеры. Благородное, овеянное романтикой освободительных войн слово. Советские волонтеры-летчики в Китае охраняли мирных жителей городов и сел от варварских налетов японской авиации.
До поздней ночи затянулась беседа с летчиками, а потом почти до утра мы с Жоржем Захаровым ходили по парку, подсаживались на скамейки. Боевая дружба спаяла летчика-истребителя и кинооператора. Судьба и долг забрасывали нас в далекие углы земного шара, туда, где огонь, где люди боролись за свободу.
Когда из-за синеющей на горизонте горной гряды показался краешек солнечного диска и блики заиграли на металлических боках, в стеклах штурманских рубок воздушных кораблей, весь летный состав уже собрался на аэродроме. Долго еще, сидя в автомобиле, оборачивался я назад, глядя на удаляющиеся ангары, на самолеты, на фигурки людей в кожаных курточках, одна из которых была мне бесконечно дорога.
Год провел я в Китае. Летом 1940 года я получил письмо: «Дорогой Ромка, если взглянешь на бланк, увидишь, что твой мадридский друг стал большим начальством…» Да, бланк был внушительный: «Командующий военно-воздушными силами Сибирского военного округа генерал-майор Г. Н. Захаров». Я нимало не удивился такому быстрому скачку вверх, зная авторитет Захарова среди товарищей, его знание дела, любовь к небу, боевой опыт. Именно такие, рожденные крылатыми, и должны командовать.
В первый же приезд Жоржа в Москву мы горячо обнялись на пороге моей квартиры. Он стал моим частым гостем, как брат приходил в мой дом. Уже сгущались на Западе тучи войны, снова мы потеряли друг друга из виду.








