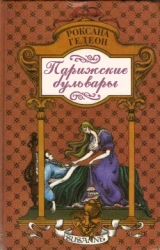
Текст книги "Парижские бульвары"
Автор книги: Роксана Гедеон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Тряхнув головой, я попыталась взять себя в руки. Что за чепуха? Что за мистическое настроение овладело мной? Я села к окну, чтобы просушить волосы.
И тогда я увидела его.
Он стоял в саду, полускрытый ветвями яблоневых деревьев и черемухи, стоял, оставаясь почти невидимым для меня, – пока я не выглянула в окно, – и в то же время мог прекрасно наблюдать за всеми моими действиями.
Я в ужасе смотрела на него, не произнося ни слова. Сама его наружность могла внушить страх. Он был весь в черном, с головы до пят: темный камзол, черный шелковый галстук, шляпа из черного фетра и, несмотря на то что было жарко, – черный длинный плащ. Бессознательно я нарекла незнакомца Черным Человеком. Но что ему нужно?
От отвел руку от лица, взглянул на меня… Я не смогла запомнить ни одной его черты, в глаза бросалось только одно – этот странный черный цвет, господствовавший в его фигуре. Я была слишком возбуждена, чтобы трезво оценить происходящее.
– Вы кто? – прошептала я сдавленным голосом. – Что вам угодно?
Он мрачно приподнял шляпу:
– Я Бальтазар Руссель. Мне было достаточно удостовериться, что вы дома.
Не сказав больше ни слова, он открыл калитку, ведущую в овраг, заросший крыжовником, где часто играли мальчишки. Я ожидала увидеть незнакомца на другой стороне оврага, где начинались владения красильной мастерской. Но сколько я ни всматривалась, больше Черного Человека не увидела. Он исчез, испарился, ушел неизвестно каким путем, не дав мне возможности заметить, в какую сторону.
Потрясенная, я опустилась на стул. Бальтазар Руссель… Что за чушь! Я понятия не имею о человеке с подобным именем! «Мне было достаточно удостовериться, что вы дома». А зачем? И к чему все эти черные одежды?
Я в бешенстве обдумывала все увиденное и то немногое, что услышала, и не находила ответа ни на один свой вопрос. Кто наблюдает за мной? По чьему приказу, черт побери?
– Что с вами, Сюзанна? – раздался нежный голос Валентины.
Я обернулась, попыталась ей улыбнуться. Не нужно, чтобы она тревожилась по пустякам.
– Ничего. Это… это мальчишки слишком расшалились, так я накричала на них.
Валентина сладко потянулась. Ее взгляд, брошенный на меня, выражал благодарность.
– Я так хорошо отдохнула. Который сейчас час?
– Семь вечера. Я сейчас же ухожу за едой.
– Но ведь еще не стемнело!
– Лавка находится в двух шагах от улицы Турнон, и я, может быть, даже не встречу никого по дороге.
Я быстро спрятала волосы под чепец. Уже на пороге мне пришло в голову спросить Валентину о странном незнакомце. Я обернулась, нерешительно взглянула на соседку:
– Послушайте, Валентина, вам не приходилось слышать о человеке по имени Бальтазар Руссель?
Она покачала головой.
– Пожалуй, нет… Зато я знала Жозефа Русселя, он часто приезжал к отцу из Парижа.
– Жозеф Руссель! – ошеломленно произнесла я. – Снова это раздвоение: два Батца, две пары его друзей, два Русселя…
– Почему вы так взволнованы, дорогая моя? Я передернула плечами.
– Это сущая чепуха! Я просто сильно устала… Вот приду из лавки, снова буду спать, чтобы хоть завтра мне не мерещились всякие миражи.
В булочной очень быстро выяснилось, что деньги я, как последняя растяпа, забыла дома. Булочник долго сопел носом, напоминая мне о том, что времена сейчас тяжелые и что он не имеет ни малейших гарантий с моей стороны в том, что я уплачу по счету. Я уговорила его поверить мне. Хлеб сегодня был отвратительный – влажный, тяжелый, темный. А чего же можно ожидать, если весь Париж отправился штурмовать Тюильри и думать о хлебе стало некому.
– А что с королем, вы не слышали? – спросила я осторожно.
– Откуда мне знать! Говорят, Собрание выделит ему Люксембургский дворец, но Коммуна против… Я знаю только то, что в ближайшие дни хлеб подскочит в цене, это уж как пить дать.
Я возвращалась, ничего не замечая, предаваясь раздумьям и одновременно сердясь на себя за тревожные мысли. Я лишь мельком отметила те мелочи, что заслуживали куда большей настороженности. Во дворе прогуливались два человека в трехцветных поясах, то и дело поглядывая на окна. Сам двор словно вымер: исчезла женщина, развешивавшая белье, и старуха, варившая в чане мыло. Куда-то убежали дети. И наконец, бросилось в глаза расплывшееся в злорадной улыбке лицо тетки Манон, прижавшейся приплюснутым носом к оконному стеклу. Я тогда не поняла, чему она радуется. Ее привычка подглядывать за жильцами была мне известна, так что я опустила глаза и попыталась поскорее проскользнуть на лестницу.
И тут чьи-то руки схватили меня сзади, сильная ладонь до боли сдавила горло – на глазах у меня выступили слезы, а крик ужаса замер, так и не сорвавшись. Я изогнулась, стараясь вырваться или укусить эту наглую руку, но объятия, душившие меня, были как стальные. Незнакомец выкручивал мне руки, заводя их за спину, – у меня, казалось, хрустнули все суставы. Я закричала, отчаянно вырываясь, обезумев от страха и боли.
– Молчи, сука!
Он схватил меня за волосы и с силой запрокинул мне голову назад. Я громко застонала, не в силах пошевелиться, а противная волосатая ладонь тем временем всунула мне в рот какую-то грязную тряпку. Громом прозвучал чей-то голос:
– Ты арестована, арестована именем революции!
Я затихла, сразу все уяснив. Сверху доносились звуки возни и стоны: видимо, Валентина тоже не избежала моей участи. Незнакомец рывками связывал мне руки за спиной грубой веревкой. Тряпка во рту мешала дышать, я начала задыхаться, на лбу выступила испарина, губы пересохли. Перед глазами начали медленно проплывать желтые круги – я была близка к обмороку.
Скрипнула дверь. Как сквозь туман, увидела я расплывающееся в дьявольской улыбке лицо тетки Манон.
– Я была бы не я, если бы не выследила тебя, чертова кукла! – услышала я ее голос. – Тебе давно пора было оказаться в тюрьме. Или ты думала, что мою дочь так просто можно выгнать со службы?
Последних слов я не поняла и подняла голову. Лицо тетки Манон было так неприятно, что я невольно опустила глаза.
– Моя дочь, моя Мадлон – она служила у тебя в доме кухаркой! Помнишь? Как выгнала ее два года назад – помнишь? Она полгода потом была без работы.
– Ладно, замолчи! – прикрикнул на нее санкюлот, связывавший меня. – Деньги за донос получишь в секции.
Он толкнул меня в спину:
– Ну, ступай!
Меня и Валентину, оглушенную по голове чем-то тяжелым, бросили на телегу, остановившуюся за углом дома.
Телега долго тарахтела по мостовым, заезжая то в один дом, то в другой и каждый раз к нам присоединялся еще один несчастный – женщина, мужчина, подросток. Я с тревогой вглядывалась в лицо Валентины – она до сих пор не пришла в себя. Руки у меня были связаны, я не могла даже вытереть струйку крови у ее губ.
Миновав Змеиную улицу, телега проехала через Латинский квартал, выехала на набережную у Нового моста и, не переезжая его, повернула налево, к Дому инвалидов. Путешествие закончилось на площади Луи XV.
– В Ла Форс! – негромко скомандовал санкюлот. Телега, перегруженная арестованными, направилась к перекрестку улиц Паве и Королей Сицилии. Я вздохнула.
Тюрьме Ла Форс уже во второй раз предстояло стать местом моего заключения.
2
В стенах замка Ла Форс, потемневших от копоти факелов и влажных от сочащейся сырости, томилось множество узников – от воришек до убийц и государственных преступников. Уже не первое столетие здесь была тюрьма. Замок ветшал, осыпался, глубже врастал в землю, но не терял своего сурового угрюмого облика и самим видом своих стен внушал ужас.
Во времена Регентства при Ла Форс был устроен Сальпетриер – приют для умалишенных. В женском отделении душевнобольных опекали монахини. Кроме того, здесь содержались проститутки, пойманные полицией и по решению суда заключенные в исправительный дом, заклейменные воровки и детоубийцы.
После 10 августа, когда пала королевская власть, здесь все смешалось.
Девочки-сироты из приюта, устроенного при тюрьме, оказались рядом с проститутками, сумасшедшие – с воровками. А когда в тюрьму стали сотнями привозить «бывших», женское отделение Сальпетриера оказалось переполненным аристократками. Женщины спали на полу, подостлав соломы, вырывали друг у друга полуистлевшие тюфяки, с жадностью хватали с подноса тарелки с тухлой похлебкой, стараясь ухватить сразу две порции, и спали с надзирателями за кусок белого хлеба. Проститутки играли в карты и дрались между собой – то врукопашную, то на ножах, которые у них забывали отобрать.
Валентину так сильно ударили по голове, что она очень долго не могла оправиться. Она совсем не ела того, что нам подавали в тюрьме, а когда все же поддавалась на мои уговоры, ее мучила изнурительная рвота. Лечить ее было нечем.
Закрыв глаза, она твердила:
– Не беспокойтесь обо мне. Все равно нас убьют.
– Но надо же, по крайней мере, дождаться суда!
Я не теряла надежды на то, что выйду на свободу. С воли пришло смутное известие о том, что суд над бывшим министром иностранных дел Монмореном состоялся и министр был оправдан. Тот самый министр, что так много сделал для побега короля! Моей надежде было чем питаться.
Я поднесла к губам Валентины кувшин, пытаясь напоить, но она, сделав протестующий знак, сама приподнялась и взялась руками за кувшин.
– Я могу пить и сама, – проговорила она. – Не хочу доставлять вам лишних забот.
Я прилегла рядом с ней на жесткий тюфяк, закинула руки за голову. Положение наше было ужасно. Хуже всего то, что я чувствовала отвращение к себе самой – за свою грязную одежду, пыльные волосы, пахнущие затхлой атмосферой камеры, липкие от грязи руки, пропитавшийся потом лиф. Здесь было жарко и душно так, что я с трудом дышала.
Едва я закрывала глаза, мне чудился Жанно. Особенно его глаза – такие синие, большие, доверчивые. Ощутить бы его тепло, прижать к груди, расцеловать это милое, самое дорогое в мире личико! Я не могла сдержать слез и втихомолку плакала, уткнувшись в подушку.
Жанно часто снился мне. Во сне я ощущала незабываемый запах его иссиня-черных волос, их шелковистость и мягкость, звонкий веселый голос, шаловливо-насмешливый разрез синих глаз. Никого нет лучше моего сынишки. Я вспоминала каждую его родинку, каждую зажившую царапину, вспоминала, как пахла молоком его смуглая кожа. В памяти всплывали все детские шалости, и я тысячу раз жалела, что когда-то бранила Жанно за них. Пусть бы он шалил, но только был со мной рядом. Да и разве он может сделать что-то злое? Он добрый мальчик, отзывчивый, ранимый… А как он любил, когда я пела ему «Песенку о зеленой лужайке» – всегда просил еще и еще.
Тяжелый комок подступил к горлу. Я знала, что должна выдержать эту разлуку, должна все это пережить. Да, должна. Это очень трудно, тем более сейчас, когда меня не покидает, почти мучает мысль о том, что с Жанно не все в порядке. Что-то там неладно. И теперь даже то, что Маргарита находится в Сент-Элуа и присматривает за малышами, весьма мало меня утешало.
Однажды утром, после тяжелой душной ночи, дверь камеры снова распахнулась, и тюремщики втолкнули к нам трех новых женщин. Пораженная, я узнала в них ближайших подруг королевы. В Ла Форс попала герцогиня де Турзель, воспитывавшая королевских детей и ушедшая вместе с ними под защиту Собрания, а также ее дочь Полина.
Но не они поразили меня больше всего. С ними была Мари Луиза де Савой-Кариньян, принцесса де Ламбаль, любимица королевы и в прошлом ее статс-дама. Год назад она уехала в Лондон, а потом вернулась, поспешив на помощь королеве. Эта красивая, гордая, изысканная, знатная женщина, оказавшаяся в стенах Ла Форс, была живым доказательством того, что мир перевернулся и что старые времена уходят все дальше и дальше.
Едва войдя, она наклонилась ко мне и тихо сказала:
– Они забрали из Тампля всех, кто не является членом королевской семьи.
Я рывком поднялась, пораженно взглянула на принцессу:
– Из Тампля? Но ведь речь шла о Люксембургском дворце!
Рассказ принцессы де Ламбаль, то и дело сетовавшей на жестокость судьбы, быстро все прояснил. Смехотворны были надежды на то, что короля и его семью, спасшуюся от расправы 10 августа, поселят в Люксембургском дворце. Повстанческая Коммуна посчитала, что оттуда легко убежать, а Собрание не сочло нужным возразить. Король с семьей был заключен под арест в Тампль – старинный замок тамплиеров.
– Ну, это еще сносно, – сказала я. – В Тампле довольно уютно.
До революции там жили принц Конти и принц крови граф д'Артуа, лет двадцать назад там выступал маленький Моцарт. Это был роскошный дворец, где все сверкало золотом, хрустальные люстры излучали мягкий свет, и иначе как уютным любовным гнездышком Тампль нельзя было назвать.
– Но ведь короля поместили не в замок! – возразила принцесса де Ламбаль. – Его заключили в башню!
Я вздрогнула, вспомнив две круглые остроконечные башни с толстыми стенами и крошечными окнами, выходящими на узкую мрачную улицу. Низкие потолки, сумерки, сырость, обнесенный высокой стеной двор…
Принцесса де Ламбаль тихим голосом пересказывала мне последние новости. Верховодит в Париже Коммуна, Собрание полностью подчиняется ее решениям. В Коммуне засели самые отъявленные негодяи. Повсеместно идет переименование улиц, парков, секций. Пале-Рояль стал теперь Пале-Эгалите.[2]2
То есть Пале-Рояль стал Дворцом Равенства.
[Закрыть] Повсюду разрушают статуи королей, простоявшие более двух веков. Решили уничтожить старинные ворота Сен-Дени и Сен-Мартен – правда, неизвестно, уничтожили ли. Все бывшие министры ушли в отставку, Дантон занял кресло министра юстиции и развернул кипучую деятельность. В Париже продолжаются аресты, а австрийцы тем временем вторглись на французскую территорию, крепость Лонгви вот-вот сдастся неприятелю.
Кроме того, в Париже был учрежден Временный Чрезвычайный Трибунал.
– Трибунал, – повторила я. – Вот как. Значит, нас теперь будут судить в Трибунале.
– Некоторых уже судят.
Принцесса де Ламбаль, оглянувшись по сторонам, протянула мне кольцо. Увидев мое удивление, она прошептала:
– Его передает вам королева… А вот еще, взгляните. Это ладанка. Там внутри прядь ее волос.
Я взглянула. Темнота мешала толком что-то разглядеть. Я с трудом разобрала надпись на ладанке, в которой хранилась поседевшая прядь волос Марии Антуанетты: «Они поседели от горя».
Я спрятала подарок как можно дальше, словно предчувствовала, что это последний знак признательности королевы. Сколько раз я получала от нее подарки – и все это было утрачено. Но этот последний подарок останется со мной – даже если мне не суждено выйти из этой тюрьмы.
И мне уже в который раз вспомнился январский вечер 1789 года в отеле де ла Тремуйль на площади Карусель. Богато убранный салон, гости, свечи в золотых канделябрах, блеск бриллиантов в ушах дам и сияние драгоценностей на одеждах мужчин, треск дров в роскошном камине, шутки, смех, запах кофе и – как неприятная дисгармония – скрипучий голос старого писателя Жака Казота. Эти его леденящие душу предсказания… Нынче они сбывались одно за другим.
Что суждено принцессе де Ламбаль? Я с невольным страхом взглянула на Мари Луизу. А я сама? Я останусь жива? Может быть, и останусь. Смерти Казот мне не предсказывал. Если я возьму себя в руки и успокоюсь, то, возможно, выберусь из всего этого кошмара.
Действительно, ведь Трибунал создан не только для того, чтобы рубить головы.
Шли дни. Они ознаменовались только тем, что нас стали выпускать на улицу, к фонтану, чтобы мы могли умыться и выстирать белье, – надо признать, мы были в таком состоянии, что даже такая малость нас несказанно обрадовала.
3
На рассвете 15 августа пронзительно задребезжали засовы, и обитая железом дверь камеры распахнулась. Утренний полумрак еще не рассеялся, и надзиратель присвечивал себе фонарем. Женщины сонно садились на своих убогих ложах, воровки и проститутки встречали надзирателя бранью и непристойными телодвижениями, сумасшедшие начинали тихо выть. Я разбудила Валентину. Взгляды наши прикипели к надзирателю: уж не пришел ли он сообщить нам о предстоящем суде?
– Гражданка ла Тремуйль, бывшая принцесса, выходите! Услышав это, я принялась быстро одеваться, достала из укромного уголка туфли – их приходилось прятать, чтобы не украли.
– Быстро, быстро, что вы там копаетесь! Валентина поспешно поцеловала меня:
– Да хранит вас пресвятая дева, Сюзанна.
Я полагала, что меня вызывают для допроса, и очень сожалела, что до сих пор не обдумала своих ответов. Сейчас мысли у меня мешались, я ни о чем не могла думать сосредоточенно.
Надзиратель, хмурый и молчаливый, шел позади меня, звеня ключами. Коридор был длинный и темный, сквозь стены, несмотря на жару, сочилась сырость. Женщины в камерах уже просыпались, и оттуда доносились первые утренние брань, смех и возня.
– Стой, – раздался сзади голос надзирателя.
Я остановилась, в недоумении оглянулась. Синюшное лицо моего конвоира выделялось в полумраке мертвенно-бледным пятном.
– Сейчас мы выйдем во двор, – тихо произнес он, – там нет лишних ушей. Я тебе скажу кое-что.
– Но куда меня ведут?
– Увидишь.
Пораженная, я послушно вышла на залитый солнцем двор. Здесь я часто стирала белье у фонтана. Тюремный двор был перегорожен Толстыми прутьями высокой железной решетки, так хорошо мне знакомой, – она отделяла женскую половину Ла Форс от мужской. Подойдя к решетке и улучив удобный момент, можно было обменяться словами с заключенными мужчинами и узнать новости.
– Слушай, – быстро, почти скороговоркой произнес надзиратель, – сейчас тебя переведут в другую камеру. Твое спасение – в каменном колодце, помни об этом!
Больше он ничего не сказал, втолкнув меня за решетку и передав другому конвоиру. Я абсолютно ничего не поняла. Спасение – от чего? Ведь меня еще даже не судили!
Другая мысль пронзила меня – Валентина де Сейян де Сен-Мерри! Она ведь осталась там, в женской камере, без меня!
Сильным движением вырвавшись из рук нового надзирателя, я бросилась назад к решетке, судорожно вцепилась в холодные прутья руками:
– Я не пойду одна! Я буду кричать, если вы не отпустите со мной и мою подругу!
Оба надзирателя, несомненно кем-то подкупленные, в ужасе бросились ко мне. Тяжелая потная рука зажала мне рот. Сопротивляясь, я едва удерживалась от желания вцепиться в эту руку зубами.
– Вы просто хотите отделить меня от всех, чтобы расправиться! Я переполошу всю стражу, я никуда не пойду без Валентины!
– Она рехнулась! – хрипло воскликнул один из них. – Ее надо запихнуть куда-нибудь, иначе она и нас подставит под удар.
Надзиратель, тот самый, что привел меня из женского отделения, внимательно заглянул мне в лицо:
– Нет, она не сумасшедшая. Как зовут твою приятельницу, гражданка?
– Валентина, – проговорила я. – Валентина де Сейян.
– Ты что, Жерве, решил выполнять капризы этой дикой кошки?
– Но она так вопит, – произнес Жерве. – Послушай, гражданка, я приведу тебе твою Валентину сегодня вечером, только перестань кричать.
– Почему вечером? – проговорила я, отдышавшись. – Почему не сейчас? Она очень слаба, ей нужен уход.
– Какого черта! – возмутился надзиратель из мужского отделения. – Я уже вижу, что сюда идет сержант. Я не намерен из-за какой-то девки терять свое место – оно слишком хорошо оплачивается.
Мне пришлось подчиниться. Как-никак, а обещание соединиться с Валентиной я получила. В случае обмана я в любую минуту смогу поднять крик – ведь размещать женщин в мужском отделении запрещалось тюремными правилами. В тот миг я не задумывалась, почему для меня сделано исключение.
Повеяло сквозняком, и передо мной распахнулась дверь новой камеры. Надзиратель – его звали Мишо – грубо втолкнул меня внутрь.
– Проходи, нечего стоять!
Загрохотал замок. Удивленная, я увидела, как поднимаются – те, кто еще мог подняться, – и приветствуют меня поклонами заключенные.
Похоже, в этой камере находились только аристократы.
4
– Приветствуем вас, мадам. Мы рады видеть вас. Почти машинально, отвечая на столь галантное приветствие, я сделала реверанс, забыв, как не подходит он к моему застиранному платью.
– Надеюсь, вы рады не тому, что я в тюрьме, господа? Человек, который приветствовал меня, смутился.
– О, разумеется…
Прищурившись, я оглядела его наряд. Запыленные банты на туфлях, полуразвязанные ленты камзола, съехавший набок галстук… Человек казался таким милым и таким смешным.
– Как ваше имя, сударь?
– Граф де Лорж, к вашим услугам.
– А я…
– О, не беспокойтесь! Уверен, здесь узнали вас.
Это было приятно. Я улыбнулась. Мои глаза уже привыкли к полумраку, и я могла оглядеть камеру. Она была раза в два больше той, где я находилась раньше; здесь был стол и даже камин, куда – как я сразу заметила – удобно прятать вещи. Например, если зарыть их в золу. За столом, на который падал свет из узкого окна, сидели люди: два пожилых священника и еще Какой-то благообразный старик, читавший книгу.
Меня поразило другое. На полу – на тюфяках и соломе – лежали истекающие кровью люди. Многие из них были без сознания, другие тихо стонали.
– Это раненые? – в ужасе спросила я. Граф с грустью кивнул.
Я схватила со стола два кувшина, протянула их графу:
– Немедленно попросите, чтобы вас выпустили во двор. Наберите воды и сразу же возвращайтесь. Разве вы не видите, что они хотят пить? Кого-то еще можно спасти… Отправляйтесь, я даю вам пять минут.
Я резко обернулась к остальным:
– Есть тут кто-нибудь, кто способен ходить?
– Я, мадам.
– И я, пожалуй, еще не умираю.
Я оглядела этих двух молодых людей – они если и были ранены, то легко.
– Отправляйтесь вслед за графом. Вы будете носить воду – столько, сколько ее потребуется.
Никого не стесняясь, я изорвала свою нижнюю юбку на бинты. Сердце у меня сжималось от боли – я еще никогда не видела столько умирающих людей. Им не оказали даже простейшей помощи. Прямо из Тюильри притащили в тюрьму и бросили.
Я склонилась над одним из раненых – ему было не больше шестнадцати, почти еще мальчик. Познания в медицине у меня были невелики, но я прекрасно видела, как грязны бинты, перевязывавшие его рану, как они почти въелись в тело. К счастью, юноша был в сознании и даже мог говорить. Видимо, кровотечение было небольшим.
– Боже, но ведь надо было сделать перевязку, – проговорила я чуть не плача. – Потерпите, ради Бога, я постараюсь не сделать вам больно.
Удар сабли задел плечо и грудь, но заражения и гноя не было. Я перевязала юношу, стонавшего от боли, поднесла к его губам кувшин – он выпил его почти весь. Мне охотно помогали граф и седой священник, оставивший свои книги.
– Меня зовут Эли де Бонавентюр, – прошептал юноша. – Послушайте, мадам… Если я умру, обещайте дать весточку моей сестре в Лимож…
– Молчите, Эли, – остановила я его, – вы не умрете и сами приедете к сестре. Вы так молоды. Наберитесь мужества! Ваша рана неопасна.
– У меня есть йод, – объявил аббат Эриво, тот самый, что помогал мне. – Правда, совсем маленькая бутылочка.
– Святой Боже, да что же вы молчали? Драгоценное лекарство пришлось разбавить водой, чтобы хватило на всех. Но дальнейший осмотр приводил меня в уныние. Только один человек, которого называли шевалье, был в сознании. Остальные лежали без памяти и были безнадежны. Я поражалась своей выдержке, ведь еще никогда мне не приходилось видеть таких ужасных колотых ран в груди, раздробленных и размозженных рук, почерневших от гангрены конечностей. Раненые погибали от заражения крови, пылая в горячечном бреду, сгорая от высокой температуры. Срок, когда опытный врач мог бы произвести ампутацию, истек, и теперь уже не было никакого выхода.
Я с трудом сдерживала слезы. Среди раненых был очень красивый молодой человек – он, как мне сказали, шестой день метался между жизнью и смертью. Его убивала пуля француза, парижского санкюлота, человека одной с ним нации. Многие умирали от потери крови – просто погружались в сон, и все. Спасти их было не в наших силах.
Чуть позже, расспросив одного роялистского журналиста, сидевшего в этой же камере, я узнала, что во время обороны Тюильри погиб и генерал д'Альзак – молодой мужественный Тьерри, с которым я когда-то так беззаботно наблюдала фейерверк над поместьем Бель-Этуаль.
Бинты, сделанные из моей юбки, закончились, и тогда я попросила жертвовать своими платками, рубашками, даже манишками. Я склонилась над последним раненым, лежавшим под окном, осторожно протерла ему лицо мокрой губкой. Солнечный свет осветил его голову, русые волосы, пересохшие губы…
– Да это же маркиз де Лескюр! – воскликнула я в ужасе, позабыв о том, что должна говорить тихо.
Да, это был тот самый молодой офицер, с которым меня очень многое связывало. Это он спас мне жизнь, прогнав меня, вытолкав из комнаты еще до того, как толпа ворвалась во дворец.
Он был тяжело ранен в плечо и грудь, но плечевая рана явно затягивалась вместе с пулей, а вторая, кровавая, едва ли не начавшая чернеть, причиняла страдания. Так или иначе, но положение маркиза было тяжелым.
Я растерянно подумала, что должна спасти его. Хотя бы его. Но как?
Не выдержав, я со всхлипами уткнулась в плечо аббата Эриво. Добрый старик ласково гладил мои дрожащие плечи.
– Все эти ужасы не для вас, дитя мое, – твердил он. Припав к его плечу, я тихо плакала и никак не могла успокоиться. Аббат грустно вздыхал:
– Будет жаль, дитя мое, если вы потеряете присутствие духа. Помните о том, что на все воля Божья. Без воли Господа и волос не упадет с головы человека. Знаете ли вы о таком?
5
Нужен был спирт.
Об этом сказала Валентина, присоединившаяся к нам в семь часов вечера. Едва она пришла, я потянула ее к маркизу де Лескюру. Дожидаясь ее, я задерживала в груди дыхание, ежеминутно опасаясь, что маркиз умрет. Он ведь так и не пришел в сознание. Голова его металась по соломе, россыпь светлых волос еще больше подчеркивала бледность лица. Воспаленные губы обметало, он жадно ловил ртом воздух и едва слышно стонал. Повязки набухали от крови, и их приходилось менять. С его губ срывались отдельные слова, лишенные всякой связи. Он бредил. Говорил о какой-то Ньевес, называл ее «дорогой», говорил о неких шпионах и негодяях де ла Руари и Шеветеле, грозился убить их, требовал у них ответа…
Глазами, полными слез, я взглянула на графа де Лоржа.
– Вы знаете имена, которые он называет?
– Впервые слышу.
– Он говорит об этих людях так, словно они преследуют его…
Валентина долго держала руку молодого офицера в своей, внимательно выслушивая пульс. Потом раздвинула ему веки, осмотрела зрачки… Исследуя рану, она все больше бледнела, и я подумала, что она, пожалуй, и сама может упасть в обморок.
– Валентина, вы нездоровы?
– Нет… Я выдержу… Просто эта рана так запущена – видите, края почти почернели.
– Что же теперь делать?
– Необходимо извлечь пулю, иначе он умрет. Она тяжело вздохнула.
– У нас ничего нет – ни чистых бинтов, ни специального ножа, ни спирта. Самое главное – спирта. Без него любая операция будет гибельной. Ну был бы хотя бы одеколон.
– Значит, – прошептала я, – значит, маркиза еще можно спасти?
– Да… Если промедлить не более двух часов. Потом начнется заражение.
Я лихорадочно размышляла, не замечая, что ногтями вцепилась в руку Валентины. Первое время у меня в голове не возникало ни единой стоящей мысли. Бинты, инструменты, спирт – ведь все это отсутствует… Что я могу сделать?
Ничего.
– Дочь моя, на все воля Божья, – снова повторил аббат Эриво. – Положитесь на Господа. Если ему будет угодно, этот молодой человек не умрет.
«Ах, перестаньте! – хотелось крикнуть мне. – Что за ерунда! Бог милостив, но все же лучше, если при тебе, кроме веры, оказывается пистолет, набитый пулями, или – как в нынешнем случае – бутылка спирта!»
Валентина осторожно достала из-за корсажа крошечную ампулу, всыпала в воду белый мелкий порошок и, старательно размешав, стала поить им раненых. Когда кувшин коснулся губ маркиза де Лескюра, я испуганно схватила Валентину за юбку:
– Что это вы ему даете?
Всякая ампула теперь заставляла меня подумать о яде, спрятанном у меня между корсажем и верхним краем лифа.
– Это морфий, – устало ответила мадемуазель де Сен-Мерри. – Они уснут и не будут страдать. Так и умрут во сне.
Аббат тем временем опустился на колени перед одним из умирающих и стал горячо молиться.
– Его душа уже у Бога, – чуть позже раздался сдавленный голос священника.
Я закрыла лицо руками. Два часа… Минуты бежали так стремительно, что мысли у меня путались. Что делать, куда идти, кого просить? Если бы я была на свободе! Это ужасно, ужасно, когда на твоих глазах умирает человек, спасший тебе жизнь, а ты абсолютно ничего не можешь сделать!
Из коридора донесся грохот открываемой двери – видимо, там действовал надзиратель Мишо. «Ходит возле нас, – со злобой подумала я, – тупой, здоровый, толстый, и нет ему никакого дела до того, что рядом умирают от ран люди – люди, которых еще можно спасти…»
И вдруг… Я даже застыла на мгновение и затаила дыхание. Я… Кажется, я ухватилась за ниточку, я нашла выход.
– Я достану спирт, – произнесла я уверенно. – Не позже чем через час.
На меня смотрели с сочувствием, словно я была сумасшедшая. Аббат Эриво мягко погладил меня по плечу.
– Бог с вами, дитя мое. Не терзайте себя напрасно.
– Да нет же, это вовсе не напрасно!
Я вскочила на ноги, в одну секунду приняв решение. Пока будут во Франции тюрьмы, будут в них и надзиратели. А надзиратели, как правило, мужчины. Если воровкам удавалось достать у них кусок белого хлеба, то почему бы не достать бутылку спирта таким же образом?
«Я продам себя ради спирта».
Эта мысль не вызвала у меня никаких чувств. Я даже не была унижена. Правда, где-то глубоко под ложечкой зашевелилась тошнота. Мне снова придется пройти через эту мерзость, испытать самые противные, самые омерзительные ощущения.
Маркиз де Лескюр лежал без памяти. Он умирал от ран и ничего не знал о моем намерении. Я вспомнила, как он вложил мне в руку легкий испанский пистолет и показал, как им пользоваться. Как он спас меня от осколка, пригнув к подоконнику. Как с перекошенным от гнева лицом выталкивал меня из комнаты, как рассказал о черной лестнице в дежурной, – если бы не это, я бы погибла…
Я быстро подошла к двери и принялась стучать что было силы.
6
Мишо был плотный коренастый субъект, со спутанной короткой бородой и тупым лицом. Я почему-то разглядела это только сейчас, когда он втолкнул меня в глухую комнату в конце коридора. Он повернулся ко мне спиной, запирая дверь, и я поразилась этой спине – широкой, как шкаф.
– Гм, а ведь я аристократок, если честно признаться, еще никогда не пробовал. Даже не мечтал.
Я закусила губу, молча наблюдая за ним. Это просто кошмар какой-то. Ну почему этот мерзавец оказался до такой степени отвратительным? Я опасалась, что не сумею сдержаться и меня стошнит. А уж тогда пропала моя бутылка.








