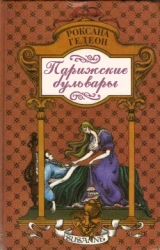
Текст книги "Парижские бульвары"
Автор книги: Роксана Гедеон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Дьявольщина, Дантон! Она наткнулась на Манда!
Я узнала Дантона, но у меня хватило ума не подать и виду, что я видела его когда-либо раньше. Вокруг него стояло еще несколько человек, откровенно издевающихся над моим испугом. Тот человек, что тащил меня и называл шлюхой, был с лисьим узким лицом, прилизанными волосами и глазами неопределенного цвета. «Фрерон… Фрерон…» – вертелось у меня в памяти имя этого негодяя.
– Эта бабенка, похоже, кралась к своему любовнику, а наткнулась на мертвеца!
– Глядите, у нее за поясом пистолет, и вид у нее, как у настоящей патриотки.
– Вторая Красная Роза и уж во всяком случае третья Теруань де Мерикюр, – громко заметил нервный молодой человек, в котором я без труда узнала Камилла Демулена.
Ужас миновал, я осознала, что нахожусь в логове врагов, но страх меня не охватывал. Я знала, куда шла. Лица людей, окружавших меня, были до удивления знакомы, словно я встречала их еще в Версале, и в то же время мало кто из них – скорее никто, кроме Дантона, – не имел представления, кто же такая я. Это давало мне маленькое, но верное преимущество.
– А она весьма недурна, – заметил кто-то.
– Спросите лучше, как она оказалась на лестнице!
Я открыла рот, чтобы сказать какую-нибудь ложь, но Дантон, все время всматривающийся в мое лицо, внезапно обнял меня за плечи и больно сжал их своей могучей рукой, словно приказывая молчать. Я не проронила ни слова.
– Граждане, – громовым голосом сообщил он, – я сам поговорю с этой женщиной. Несомненно, это достойная патриотка. Ну-ка, ребята, расступитесь! Да не забывайте, что Коммуна все еще заседает, а Франция ждет нашей победы.
Он расхохотался так презрительно, словно издевался над этими высокопатриотическими словами. Его друзья слушались его как Бога: болтовня и расспросы мигом прекратились и мятежники принялись расходиться по своим постам.
Дантон довольно нелюбезно втолкнул меня в свой кабинет. Это была уже не та комната, где он заседал раньше; нынешнее помещение было раза в два красивее и просторнее. Хотя тут царил беспорядок и неразбериха, трудно было не заметить грубой роскоши обстановки, где все, казалось, призвано было с первого взгляда поражать посетителей: огромные золотые канделябры, слишком яркая желтая бархатная скатерть, крикливая расцветка дорогих шпалер, обивка цвета павлиньих перьев на стульях орехового дерева… К этим стульям совершенно не подходил тяжелый дубовый стол.
– Что вы хотите? – негромко сказал он. – Когда вы, наконец, перестанете меня преследовать? Я думал, вы уже полгода за границей, а вы, оказывается, решили поискушать меня еще раз.
Он то и дело поглядывал на часы и курил трубку, обдавая меня целыми тучами дыма. Глаза у него были усталые, но лицо дышало энергией и даже удовлетворением.
– Ради Бога, – воскликнула я, ломая руки, – помогите Марии Антуанетте! Это… это только в ваших силах… я знаю.
Его не испугал даже мой громкий тон.
– Какого черта! При чем тут я? Что за бестолковая вера в мою пресловутую доброту… Нет ее у меня, нет, понимаете, бывшая вы принцесса и нынешний упрямый вы мул? Ведь я убил только что вашего маркиза де Манда, убил зверски, и убил бы еще десятки раз, если бы нужно было…
– Вы убили? – прошептала я.
– Я приказал проломить ему череп. А сейчас он, вероятно, уже плавает в Сене. Завтра его выловят… Ну что? Довольны вы моей добротой?
Я молчала, опустив голову. Такой прием не сулил ничего хорошего, но я не могла вот так, сразу, отказаться от всякой надежды… Дантон должен помочь, иначе… иначе, черт возьми, я со злости пристрелю его прямо в этом кабинете! Тогда я была уверена, что могу сделать это. Мне благоприятствовало и то, что подобного решительного поступка от меня никто не ожидал.
– Сударь, но ведь Мария Антуанетта – не Манда, – задыхаясь, начала я. – Вы должны понять… Вы же знаете, что такое зверство толпы. Дайте возможность королеве куда-нибудь уйти из Тюильри. Я не говорю убежать… От побега она и сама отказывается. Дайте ей возможность укрыться в достойном месте, чтобы пережить это ужасное время, а там делайте с ней что хотите. Вплоть до тюрьмы…
– Послушайте, – вдруг прервал он меня, вытряхивая пепел из трубки на пол. – Что вы так о ней беспокоитесь? Какого черта вы сюда явились – ради этой австрийской шлюхи? Вам десять раз могли отрезать голову… Или вы дура, или святая. Но ведь я вижу, что ваши мозги устроены совсем не по-дурацки, а вид у вас таков, что мужчины не позволят вам стать святой.
Этих неожиданных, нелепых и крайне непонятных слов я не могла вынести. Волнения сегодняшнего дня, ужасы и страхи, слезы, уже столько раз душившие меня, переполнили меру моего терпения. Закрыв лицо руками, чувствуя унизительное бессилие и безотчетный, ни с чем не сравнимый страх, страдая от одиночества и беззащитности, я разразилась громкими рыданиями. Слезы текли у меня по щекам, я плакала, глотая соленые капли, и уже не пыталась никого и ни о чем просить. Обессиленная, я села в кресло, уткнулась лицом в ладони… Весь мир казался мне расплывшимся, туманным и бесформенным, как страшный призрак.
Дантон грубо откинул назад мою голову, почти насильно разжал стаканом мои губы и влил мне в рот порядочную порцию холодной воды. Я поперхнулась, отчаянно закашлялась, зажав рот платком, и, как во сне, слушала голос Дантона, звучавший сверху.
– Прекратите этот рев. Черт побери, я этого терпеть не могу. Не становитесь жалкой, это не к лицу ни одной женщине, а тем более красавице. Что ж до австрийской шлюхи, то я еще до вашего чудесного появления решил ее спасти. Как ни говори, королевой она была плохой, зато шлюхой – отменной…
Забывая утереть слезы, я быстро стала искать в складках юбки деньги Марии Антуанетты. Мне даже не показалось необходимым возразить на то низкое обвинение в адрес Марии Антуанетты… В конце концов, кому-кому, но не Дантону доказывать ошибочность его утверждений.
Он пристально следил за моими движениями, словно опасаясь какого-то подвоха с моей стороны или, как тигр, готовясь мгновенно перехватить мои руки, если я вдруг выхвачу нож или пистолет.
– Не бойтесь, – сказала я, протягивая ему сверток. – Вот, возьмите. Здесь пятьдесят тысяч экю.
– Гм, деньги? – прорычал он, привычно взвешивая сверток в руке. – Тысяча чертей, я полагал, что тружусь всухую. Клянусь сатаной, дорогая, вы сделали правильно, предложив мне деньги!
Дантон задумался на мгновение, затем презрительно усмехнулся и добавил:
– Это, конечно, подкуп, но что поделаешь, если эти тысчонки такая незаменимая вещь в этом мире.
Дверь распахнулась так стремительно, что мы не успели даже вздрогнуть. Дантон опрометчиво и с какой-то шальной смелостью все так же сжимал в руке деньги, словно смеялся над тем, что его могут обвинить в продажности.
– Дантон, Дантон! – завопил санкюлот, потрясая пикой. – Мы поймали шпиона! Он только что пытался подкупить нашего Вестермана, чтобы тот отвел наши отряды от дворца.
Подобные слова, обращенные к Дантону, который сам только что был подкуплен, казались по меньшей мере странными, но санкюлот, разумеется, этого не понимал.
– Подкупить? – разгневанно рявкнул Дантон. – Какого черта вы сразу не свернули шею той свинье, что совала патриотам деньги?
– Гражданин, мы думали, сперва стоит его допросить. При этом «бывшем» было целых три тысячи ливров…
– Гм, три тысячи?
Дантон гневно сплюнул на пол.
– Черт возьми, с какой стати я буду возиться со шпионами! Бросьте его в Сену, и на этом точка… А для начала захлопни дверь с другой стороны – я по уши занят работой.
Дверь послушно захлопнулась. Я была удивлена тем, как повинуются ему эти мятежные люди. Над ними Дантон имел почти такую же власть, как барон де Батц в стане аристократов. Только Дантон был проще, грубее, вульгарнее, от него не веяло мистикой.
– Что ж, – произнес он задумчиво, – может быть, я и продажная девка, возможно, я продаюсь, но зато я спасаю всех и вся.
– Так поспешите спасти королеву и Людовика.
– Спасти? – он повернулся ко мне. – Святой Боже, но ведь это просто пустяк. Идите за мной, сейчас вы увидите, что я сделаю.
Стремительно, размашисто и широко он шагал по коридору, отыскивая нужную дверь. Я едва поспевала за ним, абсолютно не подозревая, что он задумал. Вероятно, кому-то из своих верных людей он отдаст поручение… Но кому? И каким образом оно будет исполнено?
Я мельком взглянула в комнату через плечо Дантона и успела заметить человека, что-то старательно пишущего, едва ли не высунув от натуги язык. Мне показалось, что я знаю этого человека – некоего Редерера, прокурора-синдика…
– А, ты здесь! – довольно презрительно воскликнул Дантон, переступая порог. – Приготовься, есть очень важное дело…
Редерер вскочил, направляясь к знаменитому трибуну, но тот жестом остановил его, небрежно присел на стол.
– Что такое, – дрожащим голосом произнес прокурор, – ведь оборона Тюильри уже обезглавлена…
– Послушай меня, болван! Да, все предусмотрено, мы победим. Но хотят сегодня убить короля, а я считаю, что сейчас это было бы вредно… Конечно, те, кто за герцога Орлеанского, были бы довольны исчезновением Людовика. Но это слишком осложнило бы дело…
– Но здесь ничего от меня не зависит, Жорж… Разве я могу что-то сделать? Надо было приказать Тулану, Вестерману, чтобы они не трогали Людовика.
– Ты что, хочешь давать мне советы, Редерер? Молчи и слушай. Я за то, чтобы короля не убивали. Поручаю тебе это дело. Уговори Людовика покинуть дворец и попытаться получить убежище в самом Собрании. Собери всех своих муниципальных чиновников… В Собрании мы спокойно проведем отречение Людовика и отправим его на покой.
Редерер с каждым словом бледнел все больше и больше, губы у него заметно дрожали.
– Ты хочешь, чтобы я отправился в Тюильри?
– Ты поразительно догадлив, друг мой! – подтвердил Дантон с насмешливой улыбкой.
– Очень сожалею, Дантон, но я… я не в силах это сделать.
– Это почему же? – громко спросил этот великий политик, перегибаясь через стол и красноречиво сжимая кулаки. – С каких это пор ты стал увиливать от моих поручений?
– Дантон, твои поручения становятся слишком опасны, – с усилием выдохнул Редерер.
Одним прыжком гигант перемахнул через стол – это казалось удивительным для его грузного большого тела – и, схватив прокурора за манишку, встряхнул так, словно собирался вытрясти душу.
– Ради Бога, Жорж! – завопил прокурор-синдик. – Ведь это не доказательство…
Мне показалось, что Дантон сжал своими могучими руками горло Редерера и начал его душить. Прокурор явно задыхался и выкрикивал что-то хриплое и крайне непонятное, а Дантон тем временем, угрожающе вытянув подбородок и глядя Редереру прямо в лицо, внушал ему яростно и в то же время убийственно спокойно:
– Так, кажется, наш прокурор решил загребать жар чужими руками? Будь осторожен, мой дорогой: мы все начали эту пьесу, и теперь каждый должен сыграть в этой трагедии свою роль. Тот, кто хотел бы остаться простым зрителем, рискует за это поплатиться своей головой. Не упорствуй и не отлынивай, иначе тебе это припомнят. Я не буду терять тебя из виду и сделаю так, что о тебе будут судить не по твоей болтовне, а по твоим делам. Ты запоминаешь то, что я тебе говорю?
Редерер с видимым усилием кивнул, и Дантон разжал свои руки. Прокурор еще долго не мог ничего произнести. Дантон с презрением отошел от него, брезгливо отряхнул руки.
– Надеюсь, дорогой мой друг, ты понял, что от тебя требуется… Отправляйся в Тюильри сию же минуту. Да не забудь прихватить нескольких муниципальных чиновников. Надо же, – добавил он чуть позже, – с каким дерьмом мне приходится иметь дело…
Сокрушенно тряхнув черной нечесаной гривой, он вышел в коридор, окинул меня мрачным взглядом:
– Вам бы я советовал бежать отсюда без оглядки и даже в Тюильри не возвращаться.
– Но…
– Разумеется, вы меня не послушаете. Так что если вас сегодня не растерзают на части, я буду несказанно удивлен вашей живучестью.
Я уже не слушала его. Всего, чего я хотела, я достигла. Надо было как можно скорее возвращаться под защиту стен Тиюльри, пока в городе не началась пальба. Там, во дворце, было так много вооруженных людей, что невольно верилось, что ты находишься в безопасности.
У самого порога Коммуны горели костры, все так же окруженные воинственными забияками. Над ними колыхалось огромное трехцветное знамя революции. Фальшивя, мятежники выкрикивали слова «Марсельезы», уже ставшей чем-то вроде гимна:
Что означает сговор гнусный
Предателей и королей?
Где замышляется искусно
Позор для родины моей?
Французы! Что за оскорбленье!
Ужели дрогнет ваш отпор?
Пусть рабства дикого позор
Младые смоют поколенья!
К оружью, граждане! Смыкайтеся в ряды вы!
Пусть кровью вражеской напьются ваши нивы!
Странный высокий человек в черном остановил меня за локоть. Я вздрогнула от страха, не сразу узнав его, и потом изумленно раскрыла глаза: передо мной стоял барон де Батц.
– Я благодарю вас, – тихо и властно сказал он. – Вот ваш пропуск. Если вы останетесь живы, вы легко покинете Париж.
И он вложил мне в руку две плотных бумаги, исчезнув так же внезапно, как и появился.
Я машинально спрятала бумаги, быстро уходя прочь от Коммуны. Меня почти пугала вездесущность этого человека. Он поистине был везде – в квартале Сент-Антуан, в Тюильри, и Манеже, и даже в Коммуне, в этом логове революционеров.
Дрожи, тиран! И ты, предатель,
Переползавший рубежи,
Ты, подлых замыслов создатель,
Перед расплатою дрожи!
Любой из нас героем будет,
А если первые падут…
Я пошла быстрее, и песня больше не преследовала меня. Когда я проникла через тайную калитку в сад Тюильри, я уже знала, что батальоны мятежных марсельцев и парижан стоят на площади Карусель, у самых подступов к дворцу.
4
Часы показывали полвосьмого утра, и меня окружала такая пронзительно-тревожная тишина, что хотелось взвизгнуть, лишь бы нарушить ее.
В Тюильри уже не было ни короля, ни его семьи. Вместе с августейшими особами под защиту Собрания ушли гувернантка герцогиня де Турзель с дочерью, принцесса де Ламбаль, несколько верных камеристок и камердинер Лапорт… Нет нужды объяснять, что королева долго не соглашалась на такой шаг. Редерер потратил очень много слов, чтобы объяснить ей гибельность ситуации. «Сударь, – с гневным высокомерием твердила она в ответ, – в конце концов, я больше не хочу унижаться; пришло время положить конец этой неопределенности, пришло время выяснить, кому будет принадлежать власть, королю или повстанцам, конституции или революционерам». Король ничего не отвечал, целиком отдавшись в руки судьбы. Его нерешительность особенно всех угнетала. Наконец, когда площадь Карусель была запружена марсельцами, когда пушки революционеров были установлены на Новом мосту и террасе Фейянов, когда гвардейцы секций Филль Сен-Тома и Пти-Пер окончательно изменили королю, а мятежники подступили к подъемному мосту, Редереру пришлось заявить следующее: «Ваше величество, вам нельзя медлить ни минуты, единственное спасение для вас – укрыться в Национальном собрании». Людовик пытался возражать: «Но ведь на площади Карусель не так уж многолюдно…» «Ваше величество, – отвечал прокурор, – из города идут огромные толпы, у них много пушек». Эти слова Редерера подтвердил чиновник, городской торговец кружевами.
Мария Антуанетта не терпела, когда ей давали советы люди, виновные в ее нынешнем положении. «Замолчите, сударь, – ледяным тоном отвечала она, – у нас же есть люди и оружие». Редерер с притворным сочувствием покачал головой: «Мадам, подходит весь Париж, любое сопротивление невозможно».
И вот они ушли, а я осталась. Осталась потому, что была уверена: в Собрании арестуют и королевскую семью, и всех, кто ее окружал.
За каких-то полтора часа произошло столько событий, что я и вспомнить всего не могла. Командир канониров Лангланд теперь уже твердо заявил, что не станет стрелять по мятежникам. Вспыхнула безобразная ссора, роялисты чуть не затеяли дуэли с канонирами… Правда, стычку удалось прекратить. Потом стало известно, что гвардейцы склоняются к переговорам с мятежниками… Истерично плакали женщины, аристократы, потеряв маркиза де Манда, действовали несогласованно: каждый сам решал, где ему стоять и какой участок защищать…
Я брела по галерее, вспоминая все это. К женщинам мне не хотелось идти. Я наугад распахнула одну из дверей, устало огляделась. Становилось жарко. Чем выше поднималось солнце, тем труднее было дышать. Август выдался засушливым и душным, в комнате было лишь немного прохладнее, чем на улице.
Окно было широко распахнуто, одна из рам была почти выломана. У стены стояли три ружья, лежали коробки с патронами. Я подумала, что, видимо, это помещение лишь недавно покинул один из защитников дворца и, скорее всего, ненадолго. Сейчас он вернется и наверняка прогонит меня к женщинам…
Мне не хотелось думать об этом. Зеркальный шкаф в комнате был распахнут и куча шелков и бархата смотрела прямо на меня. Чьи это платья? Никто бы сейчас не мог этого сказать. Я с любопытством переворошила кучу нарядов… Они принадлежали женщине с тонким вкусом, но какой именно?
И тут я вздрогнула от отвращения за свою одежду, за этот трехцветный пояс, за революционную кокарду, крепко пришитую к платью суконными нитками… Как раньше рабы носили на себе отличительные знаки своего рабства – ошейники и кольца, как и эти тряпки свидетельствовали о моем унижении, липком, противном страхе, который давно уже стал постоянным спутником моей жизни. Я сейчас же переоденусь. Это желание было не просто женским капризом, которыми я вообще не страдала. Я просто хотела избавиться от своего рабства – не только внутренне, но и внешне, хотела сбросить с себя остатки своего позора. Пусть ненадолго, но я хотела хоть чуть-чуть гордиться собой, иметь на это право…
Я быстро стянула с себя все эти лохмотья, протерла губкой лицо, шею и плечи. Белоснежная льняная нижняя юбка была как раз по мне и так душиста, что я невольно прижалась лицом к ее подолу. Было так приятно чувствовать на себе что-то чистое и изящное… Взгляд легко выхватил из вороха одежды необходимые вещи: голубая атласная юбка туго стянула талию, к ней добавились расшитая бисером серебристая вставка и бархатный корсаж яблочно-зеленого цвета, изящно обтянувший грудь. Я осторожно расправила на плечах блестящие венецианские кружева, подняла подол юбки до пояса, чтобы натянуть чулки – поистине великолепные, перламутрового цвета, они были сотканы из тончайшей шерсти ангорских коз и китайского шелка…
Дверь распахнулась. Я так и застыла с поднятой юбкой, с обнаженными до бедер ногами – застыла потому, что узнала во входившем офицере маркиза де Лескюра.
– Это вы? – почти раздраженно произнес он.
Не отвечая, я поспешно спряталась за дверь шкафа и быстро натянула чулки.
– Ради Бога, мне просто некуда было пойти…
– Сейчас не время для нарядов, неужели вы не понимаете? Как вы могли прийти сюда? Сейчас начнется пальба, санкюлоты уже совсем близко, только что отдан приказ швейцарцам сосредоточиться во дворце…
Мне не нравились эти упреки, и я равнодушно молчала, поднимая на затылок распустившиеся волосы. Среди одежды был флакон розмариновых духов, и я надушила ими локоны. Черт побери, если мне действительно суждено сегодня умереть, то я умру красивой. Санкюлотам будет жаль перерезать горло такой привлекательной женщине – если только они вообще способны воспринимать красоту. Впрочем, в глубине души я никак не могла поверить, что могу умереть…
– Хотите, я буду помогать вам, маркиз?
– Вы? В этих-то кружевах?
– Да, в этих кружевах. Не думаю, что в них я стала хуже или неловче. К тому же я ни за что не уйду отсюда к женщинам.
– Почему?
– Их истерики и меня настраивают на истерический лад. Он смотрел на меня так, словно пренебрегал моей помощью, относился к моим возможностям с известной долей презрения. Я нахмурилась.
– Что, разве вам не нужен помощник, чтобы перезаряжать ружья?
Он долго молчал, перетаскивая с кровати тюфяки и подушки и закладывая ими амбразуру окна. Грохот барабанов, доносившийся с площади Карусель, как будто стал тише.
– Будет жаль, если вас убьют, – довольно равнодушно сказал он. – Я уже готов к смерти, а вы?
– Не пугайте меня. Мне много раз в жизни казалось, что я умру от страха, но я до сих пор жива…
– Вы, по-моему, бредите, – раздраженно прервал он меня. – Сейчас речь идет не о страхе, а о пулях – о шальных пулях, черт побери!
– Выбирайте выражения, маркиз, – спокойно сказала я.
– Извините.
Я выглянула в окно – гренадеры в медвежьих шапках, гвардейцы в синих, белых и красных мундирах заняли позиции у главного крыльца, на широкой лестнице и в вестибюле дворца. Едва взглянув на них, я поняла, что бой начнется с минуты на минуту. Пушки, выставленные вперед, были по самые жерла набиты картечью. И везде – на террасах, балконах и у окон – виднелись напряженные фигуры дворян, сжимающих ружья…
У меня сжалось сердце. Мятежников было так много, что они, как саранча, заняли всю площадь. Их толпы волнами вливались во двор Принцев и дворцовые сады, овладевали двором швейцарской гвардии… Эти позиции защитники Тюильри сдали сами, из тактических соображений. Дворец был окружен со всех сторон. Мне вспомнились слова Редерера: «Сюда идет весь Париж, любое сопротивление невозможно».
– Вы что, действительно думаете остаться? – спросил маркиз.
– Да, сударь. Я останусь. И покажите мне, пожалуйста, как заряжаются ружья. Я буду подавать вам их после каждого выстрела.
Он, не возражая уже, дважды показал мне, как следует щелкать затвором, сыпать на полку порох и забивать пыж. После нескольких упражнений я овладела этим искусством – жутким, но нынче необходимым. Правда, ружья были так тяжелы, что я с трудом их удерживала.
– Необходима привычка, – заметил он. – Но это, по-моему, чудовищно для женщины.
Я пожала плечами.
– Мне много пришлось делать такого, что в Версале сочли бы чудовищным. Но я должна защищать себя.
Он покачал головой.
– Мадам, меня сочтут убийцей. Я должен прогнать вас. Я посмотрела на него усмехаясь.
– Не думайте уже о том, маркиз, что о вас подумают другие и кем вас сочтут… Перед смертью это просто глупо.
Он протянул мне бутылку, наполненную темной жидкостью.
– Выпейте. Это коньяк.
– Как раз то, что мне нужно…
Я мужественно, даже не поперхнувшись и не поморщившись, а лишь храбро зажмурившись, сделала пять или шесть глотков – коньяк обжигал, как пламя.
– Вы исповедались уже, маркиз?
– Нет, – хмуро ответил он, занимая место у окна. – Я еще не записал себя в покойники.
– А я была у священника три дня назад…
Я села на один из тюфяков, чувствуя, как с тиканьем часов утекают последние минуты покоя. Теперь все время будет делиться надвое: до того страшного момента, когда прозвучат первые выстрелы, и после. У меня было несколько секунд, чтобы подумать о себе, своих детях и своем будущем – таком зыбком и неопределенном.
За детей я была почти спокойна. Пока они с Маргаритой, им ничто не грозит. Маргарита была мне второй матерью, и теперь я искренно жалела, что иногда обижала ее. В случае самого страшного она позаботится о моих детях.
Жанно… Вот что причиняло мне истинную боль! Милый синеглазый малыш, веселый шалун, добрый и простой мальчик… Самое драгоценное мое сокровище, мой ангел, единственная моя радость. Стоило мне коснуться воспоминаний о нем, как я теряла спокойствие, становилась ревнивой матерью – тигрицей, у которой забирают детеныша, и мне стоило больших усилий гасить в себе эти инстинкты.
Его отец был человеком, впервые подарившим мне радость любви. Эта любовь, восхитительная и сияющая, как солнце, восходила надо мной, шестнадцатилетней, так ярко, что казалось, что передо мной простирается целый великолепный счастливый мир, всецело принадлежащий мне. Я не помнила уже слез, которые пролились позже, они забылись, стерлись в памяти. Зато осталось сверкающее ощущение счастья, полнейшей беззаботности, юности и красоты.
Я вспомнила, как брела одна-одинешенька по ночным тропикам, с ужасом чувствуя приближение родов – они казались тем страшнее, что были первыми. Я помнила безумную боль, свои сжатые зубы, искусанные губы, расплывающиеся лица женщин, склонявшихся надо мной… Помнила и невероятно громкий крик ребенка – так я впервые услышала голос Жанно. В памяти запечатлелись счастливые мелочи: первое прикосновение нежных губ малыша к моему соску, его деспотическое голодное посасывание, радость, охватившая меня, когда мне показалось, что Жанно улыбается…
Его отняли у меня, но ни на миг не нарушили ту тонкую нить, что связывала меня с ребенком. Я все время чувствовала его, была уверена, что он где-то рядом, надо только его найти… Я была убеждена, что он жив. А потом, как награда за все, – безумная, заполонившая все существо радость, испытанная тогда, когда я, приоткрыв дверь в комнату, увидела крошечную кисейную колыбель, озаренную утренним светом.
Мне вдруг показалось, что с того времени прошло уже сто лет. Пожалуй, за годы, истекшие после того, как я вновь обрела Жанно, мне пришлось вынести больше, чем любому человеку за десятилетия его жизни. Перестрелки на улицах, Бастилия, эмиграция, смерть Эмманюэля – события явно двигались в сторону худшего. Легким проблеском в этой цепи злоключений была любовь Франсуа. Но она фактически закончилась, когда погиб наш маленький сын. После этого у нашего брака не было будущего, хотя я и пыталась его наладить… «Нечего клеить разбитый кувшин», – говорил какой-то мудрый человек.
А теперь… теперь я чувствовала себя очень несчастной. Но вовсе не потому, что находилась в осажденном замке – островке среди будущего моря врагов. Скорее, пути, приведшие меня сюда, были результатом моего несчастья. Я слишком долго для женщины боролась за жизнь, за свою гордость, за право чувствовать себя человеком, за право не бояться. Из этого почти ничего не вышло. Я чувствовала себя несломленной, гордой, но за это пришлось заплатить слишком горькую цену. И я заплатила – своим одиночеством, тоской, полнейшей неуверенностью в будущем.
Сейчас, слушая доносящийся со двора глухой ропот толпы, я, кажется, уже ни к кому не испытывала ненависти. Даже боль утраты Луи Франсуа уже не наполняла меня гневом. Моя душа была спокойна, как тихие холодные озера в Бретани. И в то же время я твердо сжимала рукоятку пистолета в складках своей юбки. В этой комнате я нашла себе и другое оружие – красивый легкий испанский пистолет с пряжкой, украшенной серебряной филигранью, с рукояткой, отделанной перламутром и эмалью. Оно было красиво, это орудие смерти… Теперь, когда маркиз де Лескюр в точности объяснил мне, как владеть им, я была твердо уверена, что пущу его в ход, если что-то будет угрожать моей жизни или свободе. Словом, если кто-то помешает мне выйти из Тюильри, я, не задумываясь, взведу курок.
Глухой шум крепчал, становился все грознее. Я подняла голову, взглянула на маркиза, который залег среди тюфяков с ружьем наготове.
– Идут, канальи, – сообщил он не оборачиваясь.
На его лице не было заметно ни следа нервозности. Лишь только брови гневно сошлись на переносице, да в голосе звучал металл, столь неприятный мне в мужчинах…
Я заняла свое место рядом с маркизом.
– Как вы полагаете, дворец сдастся?
– Разумеется, – сквозь зубы процедил он. – Но не так легко, как думает этот сброд.
Напряженным взглядом я всматривалась во все, что происходило во дворе. Пока это больше походило на переговоры, чем на приготовление к бою.
От санкюлотов рябило в глазах. Масса волновалась, хрипела, гудела, что-то выкрикивала… Гренадеры в медвежьих шапках стояли у пушек, держа наготове зажженные фитили. Красные мундиры швейцарцев мешались с зелеными мундирами гренадеров. Несколько санкюлотов двигались к защитникам дворца, подняв в знак примирения руки. Я похолодела. Неужели они хотят перетащить канониров на свою сторону?
Как кнутом хлестнули меня отдельные выкрики:
– Кого вы защищаете?
– Да здравствует нация! К черту толстого Луи!
– Свобода или смерть!
– Наплюйте на присягу, братья! Переходите к нам, будем вместе резать аристократов!
Вся дрожа, я вцепилась в руку маркиза, пожирая глазами происходящее внизу. Швейцарцы не двигались, видимо, не понимая французской речи. Тогда к ним приблизилось два вооруженных человека. Один, кажется, принялся переводить смысл возгласов по-немецки. Другой, рослый и достаточно привлекательный, молча стоял, решительно сжимая в руке пику.
Я увидела, как заколебались ряды защитников… В довершение всего из верхних окон дворца вдруг упало несколько патронов и пустых пороховниц.
– Ведь это предательство, сударь! – вскричала я в ужасе.
Он быстро щелкнул затвором. И прежде чем я успела что-то сообразить, раздался выстрел. Выстрел из нашего окна… То есть стрелял именно маркиз. Пуля попала в самую гущу мятежников.
И в ту же минуту свинцовый дождь смертоносного огня обрушился на санкюлотов. Стреляли отовсюду и все – аристократы из окон и с балконов, швейцарцы из вестибюля и с лестницы. Белый дым обволакивал двор Тюильри. Я, оглушенная ружейной пальбой, никак не могла прийти в себя.
– Что вы стоите? Быстрее! – крикнул мне маркиз.
Я схватила ружье, в спешке перезарядила его… Дальше все пошло как во сне. Я машинально выполняла свои обязанности, уставившись глазами во двор. Из-за дыма ничего нельзя было разобрать. Я слышала душераздирающие стоны, хрипение, крики… Но чьи? К моему удивлению, ответной пальбы со стороны неприятеля почти не было.
– Огонь! – раздалась решительная команда.
Раздался оглушительный залп. Выстрелили все пушки разом. Дымом заволокло весь дворец до самой крыши, часть площади Карусель. В горле у меня запершило. Я закрыла глаза, чтобы сдержать выступившие от дыма слезы.
– Назад, назад! – послышался громовой рев.
– Отступаем, отступаем! Их там двадцать тысяч! Выстрелы щелкали то тут, то там, но это было ничто по сравнению с пушечным залпом. Дым понемногу развеивался. Я видела, как толпы санкюлотов в трусливой панике убегают от Тюильри. На брусчатке дворца остались лежать горы трупов и истекающих кровью раненых. Они стонали и хватали убегающих за ноги, умоляя не бросать их. Раненых никто не слушал.
Ряды санкюлотов от пушечной шрапнели и картечи сильно поредели. Словно коса прошла по клеверному полю…
– Это ужасно, ужасно, – прошептала я.
– Нет, – отвечал маркиз, – все в порядке. Еще один решительный залп, и от этих трусов останется только кровавое месиво. Ну-ка, дайте мне ружье! Я подстрелю еще одного негодяя, притворяющегося мертвым.
Вздрагивая от ужаса, я подала ему ружье. Мне было нехорошо. Кровавой бойни я не ожидала. И поэтому на минуту совсем забыла о том, что вскоре у Тюильри будет стоять весь Париж и никакие пушки аристократам не помогут.








