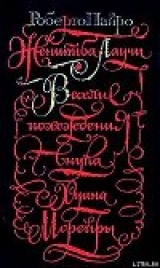
Текст книги "Веселые похождения внука Хуана Морейры"
Автор книги: Роберто Пайро
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
Когда я вошел, яркий свет керосиновых ламп, шум разговоров, щелкание шаров на большом бильярдном столе, общество отца и его друзей сразу вернули мне спокойствие. Теперь, вспоминая цвет неба и все обстоятельства этого памятного вечера, я думаю, что меня тогда потрясла, кроме усталости и перемены жизни, беспредельная печаль наступавших сумерек.
VIII
В доме Сапаты нас давно ждал ужин, совершенно раблезианский, как всякое праздничное угощение в провинции.
Вокруг стола, покрытого длинной белоснежной скатертью, но уставленного грубой фаянсовой посудой и стаканами толстого стекла, кроме дона Клаудио, мисии Гертрудис, моего отца и меня, восседали несколько почетных гостей: дон Нестор Ороско, ректор Национального коллежа, дон Кинтилиано Пас, депутат конгресса, доктор Хуан Аргуэльо, провинциальный адвокат и сенатор, дон Максимо Калодро, интендант города, и доктор Вивальдо Орланди, итальянский врач, любитель выгодных мест, совмещавший обязанности директора госпиталя, полицейского и муниципального врача, преподавателя Национального коллежа и уж не помню, какие еще, к великому гневу и возмущению его аргентинских коллег.
В первую минуту все мое внимание поглотил, и вполне заслуженно, доктор Орланди, высокий, стройный, сухощавый человек лет пятидесяти пяти – шестидесяти; меня поразили его живые черные глаза, сморщенное оливковое лицо, орлиный, красноватый на кончике, нос, длинная шевелюра, усики и бородка в стиле Наполеона III, столь естественного черного цвета, что он даже казался неестественным. Орланди был немногословен, говорил с резким пьемонтским акцентом, всегда наставительным, поучающим тоном. Впоследствии меня заверили, что он был искуснейшим хирургом, лучшим в провинции, и при желании мог бы как врач завоевать даже столицу республики. Но это восхитило меня гораздо меньше, чем его огромная блестящая шляпа, которую он носил набекрень, надвинув на одну бровь, когда гулял по улицам, а сейчас заботливо пристроил на палисандровой консоли. Запомнился мне также дон Нестор, тучный, седой, низкорослый старик, с лицом, словно полная луна, весельчак и любезный собеседник с широким красным ртом; он не без изящества вел беседу певучим речитативом, как бы целуя слова своими влажными, мясистыми, чувственными губами. Ему нравилось вспоминать «доброе старое время», и, рассказывая о днях своей молодости, он то и дело с особой плутовской усмешкой призывал в свидетели мисию Гертрудис. Не раз он давал понять за столом, что был «сущим дьяволом», и это очень забавляло меня, особенно когда он объявил:
– А дьявола искушать не следует… Ведь и сейчас, и сейчас… Согласитесь, все больше знают меня, как старика, а не как дьявола… Не правда ли, мисия Гертрудис?
– Я то почем знаю, дон Нестор? – уклонился солдафон с досадой, которая вызвала улыбку у всех, кроме супруга.
Когда мой отец, отдав должное десерту – рис с молоком, посыпанный корицей, варенье из тыквы и айвы, кордовские пирожные и конфеты, – заговорил наконец обо мне, я вздрогнул на конце стола, куда меня засадили с обычным приказом «не вмешиваться», другими словами, не открывать рта, словно хотели, чтобы я «выучился на статую». А вздрогнул я, потому что татита сказал:
– Перед вами паренек, который собирается стать мужчиной. Он будет учиться «на доктора» и рассчитывает, как рассчитываю и я, на помощь друзей. Пока что он совсем желторотый, но есть у него характер, и при случае он не ударит лицом в грязь. Поступает он в Национальный коллеж, и вы, дон Нестор, можете поддержать его.
– С величайшим удовольствием, – откликнулся дон Нестор. – И даже подстегнуть, если потребуется, – добавил он, поглядывая на меня с насмешливой, но ласковой улыбкой. – А хорошо ли ты подготовился к вступительным экзаменам?
– Чего-чего? – не поняв вопроса, пробормотал я с присущей мне сельской невоспитанностью, словно самый неотесанный из моих юных земляков.
– Я спрашиваю, закончил ли ты школу в Лос-Сунчосе?
Кое-как сообразив, в чем дело, я ответил не без гордости:
– Я был наставником.
– Ах! – развеселясь, воскликнул дон Нестор. – Так, значит, ты наставник! Отлично! Отлично! Быть наставником – это тебе не жук начихал, однако…
Татита пришел мне на помощь, лукаво объяснив:
– Что правда, то правда… в науке он не силен… но надо принять во внимание… Принять во внимание, какие невежды наши сельские учителя… А некий дон Лукас из Лос-Сунчоса – просто мул, не годный даже дрова возить… Полно, дон Нестор, не будьте злодеем, не смущайте мальчишку… Известно, вол набирает силу в пути… А вы тоже, доктор, – обратился он к Орландо, – двиньте-ка его вперед хорошенько!
Сказано это было с таким жизнерадостным добродушием, что все расхохотались; все, разумеется, кроме доньи Гертрудис, которая неспособна была на любезность даже из желания угодить татите.
– Он на вид очень не глуп, – заключил доктор, разглядывая меня пытливыми глазками. – А юным креолам учение дается легко.
– Вот это правда, – согласился дон Нестор. – Наши мальчишки живей огня. А этот наверняка проснется в коллеже. Если от приходящих к нам из деревни требовать, чтобы на вступительных экзаменах они показали себя новыми Пико де ла Мирандола, в коллеже останутся одни горожане. Вот почему экзамен порой является чистой формальностью, просто для вида… Мы можем делать такие уступки, полагаясь на наш превосходный план обучения и высокие познания наших учителей, дружок: Национальный коллеж – это тебе не начальная школа Лос-Сунчоса. Здесь можно стать мужчиной!
Итак, опять прозвучало «стать мужчиной»! Этому выражению суждено было преследовать меня всю жизнь, но я и сейчас толком не знаю, что оно означает.
– Он, видно, мальчуган беззаботный, – продолжал дон Нестор, снова сияя своей влажногубой улыбкой, которая было на мгновение померкла. – Сейчас ему все, как на подносе, поднесут. Но уж потом, держи ухо востро с экзаменами в конце курса! Тогда… тогда придется кое-что знать, дружок. Надо трудиться!
Все эти разговоры об экзаменах, коллеже, учителях, плане обучения сначала показались мне, из-за полного моего невежества, просто бессмысленной ерундой; но вслед за тем они напугали меня как нечто таинственное, каббалистическое, как ужасный, скрытый от чужих глаз ритуал, к которому я получил доступ лишь благодаря могуществу моего отца, одним своим словом уничтожившего все препятствия на моем пути. Хорошо бы так оно было всегда!.. И пресыщенный тяжелой едой, одурманенный крепким местным вином, окончательно сраженный дорожной усталостью, я начал склоняться головой к столу, «клевать носом», как говорил татита, видя уже в полусне описанные в романах испытания перед приемом в тайное общество, которым подвергают не то другого человека, не то меня самого.
– У тебя уже глаза слипаются, приятель! – крикнул отец, заметив, что я опустил лоб на залитую вином и соусами скатерть. – Мисия Гертрудис, а где комната малыша?
– Я отведу его, – сказала старуха и поднялась, освободив меня наконец от этого пиршества, которое потом, должно быть, достигло грандиозных размеров, поскольку долго еще я слышал сквозь сон громкие крики и оглушительный хохот.
Дальше время потекло немного однообразно, хотя и приятно; я неотлучно сопровождал татиту повсюду и, пользуясь полной свободой, то и дело ускользал, чтобы покурить или пошататься вокруг. Так пробежали дни до таинственного и смутно пугающего экзамена.
Я вошел в обширный сводчатый зал, несмотря на невысокие потолки выглядевший торжественно, вероятно, благодаря сходству с катакомбами, и смешался с толпой других мальчиков, более робких, чем я. В глубине комнаты можно было разглядеть экзаменационный стол, покрытый зеленым сукном, серебряный колокольчик, а на побеленной стене большое распятие черного дерева и грозный ящик с билетами. За столом сидели сияющий улыбкой дон Нестор, справа от него доктор Орланди с бородкой и усами чернее битума, слева – бледный и тощий, словно связка сухих лоз, человечек, оказавшийся, как я узнал потом, доктором Прилидиано Мендесом, преподавателем латыни, влюбленным в этот язык, который, хотя давно уже был мертв, оставался для него Паладионом знания и человеческой цивилизации: тот, кто не знал латыни, «был лишен даже здравого смысла», но кто знал ее, тот мог, по его мнению, оставаться полным невеждой во всем остальном и быть тем не менее светочем учености.
Я ничего не понял в головоломном экзамене, которому подвергали других мальчиков; и вопросы и ответы казались мне утомительным бормотанием бессмысленных фраз, как бы гулом незнакомого богослужения. Но странное беспокойство сжимало мне грудь, всегдашняя моя самоуверенность куда-то испарилась, и, когда настала моя очередь, я, несмотря на убеждение в полной своей неуязвимости, затрепетал, направляясь к стулу, который стоял посреди пустого пространства перед зеленым сукном и показался мне скамьей подсудимых, если не приговоренных к смерти…
О чем меня спросили прежде всего? Что я ответил? Восстановить это невозможно! Помню только, как дон Прилидиано, наклонившись к дону Нестору, прошептал, но не настолько тихо, чтобы мой обостренный страхом слух не уловил смысла:
– Да он же не знает ни слова!
– Э! Затем он и приехал, чтобы научиться. Его отец Гомес Эррера, – ответил дон Нестор.
– А! Тогда…
Доктор Орланди прервал их беседу, спросив меня:
– Какой самый большой континент мира?
Вспышка вдохновения осенила меня, и, вспомнив все, что я слышал о величии нашей родины, я заявил решительно и твердо:
– Республика Аргентина!
Все трое разразились хохотом, Орланди – ощетинив смоляные усики, дон Нестор – растянув от уха до уха свой толстогубый влажный рот, дон Прилидиано – издавая сухое деревянное хихиканье. Я растерялся, кровь бросилась мне в лицо. Дон Нестор пришел мне на помощь, произнеся между приступами смеха:
– Это не совсем точно… хотя всегда хорошо быть патриотом… Вас не учили географии в школе Лос-Сунчоса?… Ну, уж ладно!..
Я было поднялся с места, считая, что моей моральной смертью пытка закончена; но латинист остановил меня и задал последний добивший меня вопрос:
– Какова функция глагола?
Привстав, держась рукой за спинку стула, я вытаращил на него испуганные глаза и пробормотал:
– Я… я ее никогда не видел!
Яростный вопль дона Прилидиано был заглушён гомерическим хохотом остальных экзаменаторов, и между взрывами смеха я услыхал, как дон Нестор повторяет:
– Хорошо, садись! Хорошо, садись!
Совершенно уничтоженный, я снова уселся на стул, уверенный, что эта пытка кончится только с моей смертью, на этот раз физической. Однако ректору удалось сдержаться, и, добродушно посмеиваясь, он сказал более ясно:
– Нет-нет. Иди на место. Иди на место.
В ушах у меня звенело. Все же, когда я проходил мимо скамей, мне послышалось: «Ну и осел!» Я готов был бежать без оглядки до самого Лос-Сунчоса, но силы изменили мне. Почти потеряв сознание, я упал на свое место. Как смеялись надо мной преподаватели и ученики! Надо мной, над кем никто не смел смеяться в моем поселке, надо мной, Маурисио Гомесом Эррерой!..
IX
Итак, по логике вещей – хотя, пожалуй, сейчас это не кажется логичным, – я поступил в первый класс Национального коллежа, и с этой оказанной мне милости начался первый и, пожалуй, по сей день единственный крестный путь в моей жизни.
Как только стало известно, что я «прошел», татита вернулся в Лос-Сунчос, оставив меня во власти четы Сапата, чьи попечения были, увы, совсем не похожи на обращение моих родителей, а неизменная холодная суровость являлась полной противоположностью любовному или угодливому снисхождению, к которому привык я с детства. Вначале я попытался бунтовать против жестокой тирании, особенно против действий мисии Гертрудис; но все мои усилия разбивались о непреклонность ее характера, которую она не часто старалась прикрывать напускной слащавостью.
– Это для твоего же блага! – говорила она, запрещая мне самые невинные развлечения. – Что сказал бы твой отец, если бы мы позволили тебе делать все, что ты хочешь, и тратить время, как вздумается?
– Татита, – возражал я запальчиво, – никогда не запирал меня, словно узника, и не преследовал так, как вы.
– Повторяю, это для твоего же блага! А кроме того, мы все делаем по наказу самого дона Фернандо. Припомни: когда дон Нестор предупредил его, что, если ты будешь мало заниматься, тебя оставят на второй год, твой отец велел мне: «Держите его в узде, мисия Гертрудис. Зажмите его в кулак!» Ни больше, ни меньше! И… хватит спорить!
Она удалялась, и я умолкал, дрожа от злости и бессилия. Куда девалась моя несгибаемая воля? Ах, лишенный родной почвы, в изгнании, в чужом и враждебном мире, без надежной поддержки со стороны мамиты, слуг и всех, кто угождал мне, стремясь угодить татите, я чувствовал себя угнетенным, неспособным на решительные действия и бунт, особенно после того, как первые попытки мятежа лишь усугубили суровость моих тюремщиков. А супруги Сапата были настоящими тюремщиками: они следили за мной днем и ночью, не разрешали выходить одному; подзуживаемый женой дон Клаудио каждый день провожал меня в коллеж, лишая столь сладостной для новичка вольной прогулки. По воскресеньям и праздникам я обязан был ходить с ними к мессе, на проповедь, на поучения, а в промежутках меня еще заставляли, как дурачка, гулять в их обществе по улицам, а то и делать визиты, которые наводили на меня смертельную тоску и окончательно убивали последние остатки жизнерадостности. Бдительность доньи Гертрудис не ослабевала ни на минуту. Она поместила меня в смежной комнате, чтобы никогда не терять из вида и всегда держать под рукой; мои отношения со служанками она ограничила самыми необходимыми услугами с их стороны, запрещая мне болтать или играть с ними; каждый вечер она обыскивала мою комнату и мои карманы, чтобы отнять сигары или тайком добытую интересную книжку; среди ночи она вставала и обходила дозором дом, проверяя, спит ли прислуга, все ли в порядке, одержимая манией охраны нравственности, которая, если верить злым языкам, не была для нее культом в годы девичества и даже на пороге старости. «Она из тех, кто поворачивает святых лицом к стенке, – рассказывали мне несколькими годами позже ее ровесники, – дон Нестор Ороско был не первым и не последним ее другом», – и добавляли имена и подробности, сейчас уже не имеющие значения, посмеиваясь над доном Клаудио или порицая его снисходительность, по их словам, не бескорыстную. В мое время мисия Гертрудис, вступив уже в холодную пору, лишенную цветов и солнца, вероятно, старалась искупить былые грехи монастырской суровостью нравов. Бог должен бы простить ее скорее за то, что она дарила радость своим ближним, чем в благодарность за бесконечные молитвы, которые заставляла она нас читать ежевечерне, преклонив колени на неровном кирпичном полу в темной столовой.
Все-таки моя изобретательность иногда помогала мне ускользнуть от слежки и спокойно покурить или почитать романы, которые я всовывал в переплет учебника. Эта система постоянного подавления приносила свои плоды, которые поверхностному взгляду мисии Гертрудис и дона Клаудио могли казаться благими и надежными, но в действительности таковыми не были: порывистый, веселый, искренний Маурисио времен Лос-Сунчоса превратился в скрытного, печального, испорченного мальчишку, нелюдимого и озлобленного, как преследуемый пес. Тайком я несколько раз писал матери, жалуясь на ужасное тиранство и умоляя помочь мне; убитая горем, она отвечала, что не может противиться воле отца, который решил «сделать меня мужчиной», и посылала мне сласти и немного денег, очень немного, потому что татита запретил ей это по совету и требованию моих хозяев. Иногда она добавляла несколько строк о Тересе Ривас, которая всегда с интересом расспрашивала ее обо мне… Эти письма, отнюдь не утешая меня, только усугубляли мою подавленность и уныние и лишали последней надежды.
Окончательно добило меня мое положение в коллеже. Соученики относились ко мне с величайшей антипатией, и, надо сказать, виной был я сам, а не поступление в коллеж по знакомству или смехотворная глупость моего экзамена, хотя, бывало, они, потешаясь, вспоминали знаменитое: «Я ее никогда не видел». Дело в том, что, прибегнув по неопытности к неудачной политике, вызвавшей обратные результаты, я решил внушить товарищам ту же почтительность и уважение, какими пользовался в Лос-Сунчосе, где «был наставником». Эти притязания, а может, некоторая зависть к моей статной фигуре и недовольство снисходительностью иных преподавателей, разожгли неприязнь мальчишек, и «деревенщина-наставник», как они прозвали меня, стал жертвой своих товарищей, которым к тому же никогда не мерещилась за его спиной всемогущая грозная тень папаши. Неприязнь их выражалась в нападениях всем скопом, подбрасывании на одеяле, дикарских плясках вокруг меня, не без толчков, пинков и плевков, и в прочих школьных забавах, на которые я из рыцарской щепетильности никогда не жаловался старшим; со временем эта ненависть слегка смягчилась, особенно после нескольких битв с самыми отчаянными драчунами, из которых я, к счастью, почти всегда выходил победителем. Но глупая вражда все же не угасала, потому что, приободрившись после моих побед, я повел себя слишком заносчиво, а вынужденное уединение во все часы, кроме школьных занятий и переменок в мрачных галереях и большом патио коллежа, не позволяло мне завести дружбу с кем бы то ни было, даже с Педро Васкесом, уже учеником второго класса. Как мог я иметь близкого товарища, если дон Клаудио отгонял от меня всех моих соучеников, которые, может, и хотели бы подружиться со мной?
Учение меня не слишком интересовало. Вместо того чтобы заучивать на память заданные уроки, все эти «musa, musae», «bonus, bona, bonum» или бесчисленные департаменты, провинции и глупейшие сказки из «Краткой священной истории», я предпочитал часами глядеть в пространство, мысленно рисуя милые сердцу картины Лос-Сунчоса или припоминая приключения из романов. Я был самым отстающим в классе, но ничуть не стеснялся своей тупости ни перед соучениками, ни перед преподавателями, в которых чутьем угадывал если не большую, то, во всяком случае, более вредоносную тупость. За редким исключением они были полными невеждами, спрашивали уроки, держа учебник в руках, docticum libro,[10]10
Обучая по книге (лат.).
[Закрыть] и редко могли ответить на вопрос сомневающегося ученика. В общем, эти люди сделались учителями в то время, когда кафедра стала прибежищем сторонников правительства, не имевших ни профессии, ни способностей, чтобы заработать себе на хлеб.
Итак, моя жизнь не была жизнью. Я умирал от тоски в доме Сапаты, где принимали от силы двух-трех человек, кроме священника Ферейры да монаха францисканца Педро Аросы, и не устраивали никаких празднеств после званого обеда в честь татиты; я страдал и бесился в коллеже, где все мое учение состояло в том, что я слушал, как другие отвечают уроки; с каждым днем становилось все труднее добывать романы, потому что не хватало денег, а мисия Гертрудис только и знала что твердить:
– Здесь у тебя есть все необходимое, а деньги – погибель юношей, особенно в таком городе, как наш, – очевидно считая сонную столицу провинции настоящим Вавилоном или по меньшей мере Парижем.
Что же мне делать? Вернуться в Лос-Сунчос! Эта мысль превратилась в наваждение. Но как добиться своего без денег, без помощи? Доведенный до крайности, я прекратил бесполезные жалобы, обращенные к матери, написал татите и, изобразив самыми черными красками свои страдания, умолял забрать меня домой или, по крайней мере, потребовать, чтобы со мной лучше обращались. Однако отец, уверенный, что я преувеличиваю, воодушевленный советами дона Ихинио, обманутый письмами дона Клаудио, в ответном письме уговаривал меня потерпеть, ибо жизнь наша не только розы и сам он мальчиком перенес невзгоды потяжелее, пока не «стал мужчиной». Я и сейчас не пойму, чего добивались донья Гертрудис и ее супруг, обращаясь со мной подобным образом, и могу объяснить это лишь тем, что они просто давали волю своему нраву в отношениях с людьми зависимыми – со служанками и со мной, – причем особенно приятно им было угнетать меня под видом строгости принципов и обманывать татиту. Однако я не сдался и снова повел наступление на самое слабое место, сочиняя одно за другим письма к мамите, полные таких горьких сетований вперемежку с орфографическими ошибками, что добрая сеньора, решив наконец ослушаться полностью, и, вероятно, впервые, своего мужа, послала мне несколько боливийских песо, о которых я просил ее якобы затем, чтобы хоть немного скрасить свои черные дни и купить книги и другие необходимые вещи.
Оказавшись обладателем такого капитала, я стал обдумывать план бегства, не столь уж легкий, как могло показаться на первый взгляд: это стоило мне нескольких дней размышления, но план получился отличный.
Дилижанс на Лос-Сунчос отправлялся спозаранку по понедельникам, средам и пятницам из расположенного в центре постоялого двора при гостинице «Золотой шар». Проехав через город, он останавливался на окраине у пульперии под названием «Угол белого столба», где было отделение почтовой конторы для посылок и пассажиров, а потом уже мчался вперед по большой дороге. У этой пульперии, несомненно, и следовало мне сесть, а не то при проезде через город любой из зевак, обычно глазеющих на дилижанс, обязательно заметил бы меня.
Недавно приобретенные навыки притворства послужили мне как нельзя лучше, словно именно для этого бегства они и были мне привиты; впоследствии я не паз, и весьма успешно, пользовался ими, доказывая, что плоды хорошего воспитания никогда даром не пропадают. Итак, пойдем дальше: к величайшему изумлению и удовольствию мисии Гертрудис, которой до тех лор каждое утро приходилось будить меня по три-четыре раза, я начал по собственному почину вставать на рассвете и прогуливаться с книжкой в руке, как будто учил уроки, сначала в саду, а затем и по тротуару перед домом, почти всегда оставаясь в поле зрения моего бдительного стража, но не без хитрости исчезая иногда на минуту-другую, чтобы окончательно усыпить все подозрения. Еще одной уловкой были бесконечные разговоры о живописной местности неподалеку от города, но в противоположном направлении от «Белого столба», куда мы как-то ездили с Сапатами на прогулку: река, которая близ города выглядела просто струйкой воды, бегущей по широкому ложу из круглых камней, там образовала благодаря естественной плотине большой бочаг – прекрасное место для купанья и рыбной ловли. «Мохарраль» с его речкой, купанием и рыбой не сходил у меня с уст, и можно было поклясться, что о другом рае я и не мечтал.
– Вот сейчас ты мне нравишься! Ты стал очень прилежен! – не без расчета говорила мисия Гертрудис, видя, как я чуть ли не на заре выхожу из комнаты с книгой в руках. – Если так будет и дальше, как-нибудь повезем тебя в «Мохарраль».
– О, только поскорее!.. Мне так хочется!
И вот однажды, во вторник вечером, я спрятал чемоданчик с частью моих вещей в глубине сада, выходившего на пустынную улицу, в укромном месте, откуда я мог незаметно вытащить его. Я сразу же улегся в постель, но уснуть было невозможно: меня била лихорадка, я чувствовал себя уже на свободе, во мне снова возрождался решительный, предприимчивый мальчишка из Лос-Сунчоса, лишь по виду укрощенный железной уздой Сапаты, и я даже принялся измышлять способ отомстить мисии Гертрудис. Но пока что ни одна кара, достойная ее мерзости, не приходила мне на ум, и я решил в выборе отмщения положиться на судьбу, дав, однако, клятву никогда не отказываться от этой священной цели. Стоило мне задремать, как я видел во сне, будто мой план раскрыт, и в ужасе просыпался; поняв, что все равно спать не смогу, я решил подняться среди ночи. Очевидно, я произвел какой-то шум, потому что мисия Гертрудис вдруг закричала:
– Кто там?
Полуодетый, я снова улегся в постель и услышал, как старуха, в свою очередь, поспешно встала, зажгла свет, заглянула в мою комнату, а потом вышла в патио для дополнительного обхода.
– Теперь дело за мной! – сказал я, не раздумывая, вдохновленный всегда доброжелательным ко мне удобным случаем.
Бросившись в спальню мисии Гертрудис – у дона Клаудио была отдельная комната, – я подбежал к комоду, где обычно лежали великолепные каштановые косы, которые она прикалывала, лишь закончив все утренние дела, схватил и унес их. Что я с ними буду делать? В тот момент мне это было неизвестно да и неважно.
Вскоре рассвело, но мисия Гертрудис больше не ложилась после своего обхода, и я вышел, как всегда, с книгой в руках. Старуха разжигала огонь на кухне. Я бегом бросился в сад, швырнул в полную грязной жижи свиную кормушку прекрасные косы – хавроньи наверняка сожрут или по меньшей мере раздерут их на клочки как изысканное лакомство, – вытащил из тайника чемодан и по безлюдным улицам, окутанным утренним туманом, пустился прямиком к «Белому столбу» поджидать дилижанс, который вот-вот должен был появиться. И в самом деле, не прошло и двух минут, как он остановился у дверей, загрохотав всеми своими железными и деревянными частями. Возница Исавель Контрерас и почтальоны зашли хлебнуть по второму «утреннему стаканчику» каньи чистой, каньи с лимонадом или можжевеловки (первый был уже выпит в «Золотом шаре») и захватить посылки, письма и пассажиров, если таковые найдутся. Один нашелся: я.
Контрерас как выдающийся член славного общества Лос-Сунчоса отлично знал меня и почитал татиту, которому служил особым посланцем и верным осведомителем; он проявил величайшее радушие, не задал ни одного нескромного вопроса относительно моего появления, оказал мне высшую честь, пригласив разделить с ним сиденье на козлах, и сам поставил мой чемодан на империал. Когда я заикнулся о плате за проезд, он отказался от денег.
– Дон Фернандо потом заплатит.
Если бы я знал! На сколько недель раньше сбежал бы я из ненавистной темницы!
Дорогой, несколько воодушевленный возлияниями на почтовых станциях, я с присущей детскому тщеславию несдержанностью, какую не могла обуздать даже инквизиторская слежка мисии Гертрудис, подробно рассказал Контрерасу о своих страданиях и, наконец, о бегстве, «когда терпению пришел конец». Мой добрый земляк сначала струхнул при мысли о своей ответственности, и я уже готов был раскаяться в излишней доверчивости, как вдруг он передумал, разразился хохотом и, щелкая длинным бичом, воскликнул:
– Сыну ягуара и положено быть пятнистым! Такая уж порода!
Еще веселее хохотал он над проделкой с фальшивыми волосами, говоря, что так этой «старой суке» и надо, а потом, как человек многоопытный, посоветовал не показываться на глаза татите, раньше чем я поговорю с матерью, ведь матери всегда «лучшее прикрытие» для сыновей, а «с доном Фернандо, если рассвирепеет, надо держать ухо востро». И чтобы проделать все это получше, он остановил карету в безлюдном переулке недалеко от дома, оставил чемоданчик у себя, с тем что пришлет его позднее, и, добродушно стиснув мне руку своей жесткой, как наждачная бумага, лапой, сказал:
– А теперь, приятель, слазь и бегом к маме, только она и пожалеет тебя за все твои беды… Скажи, что и здесь не хуже, чем где еще, можно «стать мужчиной».
Стать мужчиной!.. Дилижанс покатил дальше, а я оторопело застыл на месте, сам не зная, радоваться мне или бояться. Где-то далеко остались город, коллеж, Донья Гертрудис, дон Клаудио, латынь, – словно ад, словно дурной сон. Я был в Лос-Сунчосе, в «моем» поселке, на родной земле и, хотя опасался неминуемой грозы, все же чувствовал в себе больше отваги, больше сил, в общем, чувствовал, что я сам себе хозяин.








