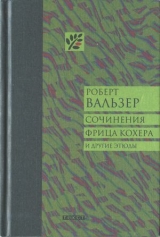
Текст книги "Сочинения Фрица Кохера и другие этюды"
Автор книги: Роберт Отто Вальзер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
Художник
Эти листки из записной книжки художника попали мне в руки, как говорится, случайно. Они показались мне достаточно интересными, чтобы иметь право на публикацию. Изложенные в них взгляды на искусство можно, конечно, оценивать по-разному. Но не это самое важное. То, что читается между строк, чисто человеческая сторона зарисовок, представляется мне куда более значимой, в самом деле достойной внимания читателя.
Буду вести что-то вроде дневника или записной книжки. Когда допишу эти заметки до конца, я их сожгу. Если они случайно уцелеют, пусть попадут в руки какому-нибудь любопытному болтливому писателю; мне все равно. К миру я равнодушен, к людям тоже, как и к этим зарисовкам. Я пишу для собственного удовольствия, урывками, отнимая время у живописи, как вор или мошенник, потому что всегда любил проказничать. И эта писанина – всего лишь безобидная маленькая шалость! Смешаю немного моего умонастроения с некоторыми взглядами на искусство и толикой моей души и сложу, так сказать, свою жертву на сей маленький скромный алтарь. Почему бы и нет? Занятия письмом для руки художника – приятное отвлечение, почему бы и не доставить его моей руке? Вот уже несколько недель я живу здесь, в горах, на вилле, окруженной елями и очаровательными одинокими скалами. Целый день, почти всю неделю стоит туман. Туман здесь никогда не проходит, разве что при совсем ясной погоде. Я люблю туман, как и все влажное, холодное и бесцветное. У меня никогда не было причин тосковать по более ярким краскам, потому что я с самой ранней юности видел цвета там, где их почти не было. Я никогда не понимал стремления художников в южные, солнечные, красочные страны. Серый цвет всегда был одним из моих любимых, самых благородных, милых сердцу цветов, а в этих горах он, к моему восхищению, царит повсюду. Даже зелень кажется здесь серой: ели. Слов нет, как я люблю эти священные ели. И туман! Часто я брожу по окрестностям просто наперегонки с туманом. Он поднимается, опускается, уплывает, крадется, внезапно уходит в сторону. Полосы тумана – как белые змеи! Но поэт так никогда не скажет, так может сказать только живописец. Я бы не смог стать поэтом, потому что люблю природу слишком необузданно и люблю только ее. А поэт должен повествовать о мире и людях. В изображении природы ему далеко до живописца, иначе быть не может. Кисть художника всегда посрамит самое утонченное словесное упражнение, и хорошо, что это так. Каждое искусство должно иметь свои границы, чтобы одно из них не поглотило другое. В своих записках я намереваюсь совершенно непринужденно обращаться к себе самому. Но по мере продвижения меня, сам не знаю почему, одолевает чувство неотвратимой, неизбывной ответственности за то, что я пишу. Может, причина в письме как таковом? Или во мне? Хорошо, разберусь в этом позже. Ведь все имеет свой особый смысл, а каждый смысл выдвигает свои условия! В самом деле, странно.
Не подумайте, что я живу на собственной вилле. Нет, вилла принадлежит одной графине, женщине в высшей степени любезной и благородной. Я познакомился с ней в столице. Она тоже любит тишину, одиночество, замкнутые долины, горный воздух, запах хвои и тумана. Она живет здесь, и я чувствую себя почти ее пленником. Странное это чувство, щекочущее, раздражающее. Когда я с ней (или она со мной) познакомился, я был жалок и беден. Она сразу оценила во мне художника, вынудила меня покинуть город и последовать за нею в горы. И я сделал это без размышлений. И с тех пор ни разу в том не раскаялся. Я вообще никогда ни в чем не раскаиваюсь, ибо знаю, что из всего может возникнуть нечто особое, подчас даже прекрасное. Я не тоскую по городу, я излечился от подобных приступов. Где я живу, там и творю, а где творю, только там и живу. Там, где можно почти без помех заниматься живописью, мне должно быть всего комфортнее. Картины, которые я пишу, все без исключения принадлежат графине. За это она предоставляет мне возможность жить. И как жить! Ее воспитание, ее вкус, ее сердце служат мне порукой, что рядом с нею жизнь моя всегда будет приятной. Можно ли завязать лучший контакт? Помимо прочего, я волен уйти, если захочу уйти. Меня ничто не связывает. Но здесь меня держит все: природа, беззаботность существования, искусство, чувство, кров над головой. Разве я неправ, когда говорю, что живу, как пленник графини? Графини? Странно! Я связываю с ней все: это место, вершины гор, искристую долину, ели… Все, все живет только благодаря ей, владычице. Все принадлежит ей. По крайней мере, так угодно полагать моему воображению. Может быть, это чувство внушает мне ее доброта, заботливость и внимание, которым она обычно окружает меня и мое ремесло. Меня ценят и оберегают, а потому мне легко и даже приятно видеть в ней хозяйку моей жизни. С каким участием она отнеслась ко мне тогда, когда я прозябал в глубочайшей нужде и скверне в большом городе. Там свобода и бесправие часто означают одно и то же, нищета одних обеспечивает блестящее преуспеяние немногих других, там артист или умирает, или предает свое искусство, там благородные чувства носят рубище, зато наглые бездарные пороки обитают во дворцах. Нет, я полностью принадлежу графине. И буду принадлежать, даже если она еще более беспощадно использует мою признательность! Но как мало она требует! Она так высоко ценит искусство, что проявляет к художнику всяческое уважение. Самый ничтожный, самый незначительный ее жест по отношению ко мне возвышен и прекрасен. Но на это способна только женщина. В самом деле, я убежден, что на это способна только женщина.
Слава мне безразлична, ибо я знаю людей. Мне знакома их мания – хвалить ближнего и тут же, с ходу, говорить про него гадости. Толпа не имеет собственного мнения. О чем это свидетельствует? О том, что его не имеют и люди образованные. В вопросах искусства и те и другие обнаруживают прискорбное отсутствие уверенного суждения, что неудивительно при невежестве наших артистов. Какой бы растерянной ни была публика, артист чаще всего еще более растерян. Но какое мне до этого дело! Наводить порядок здесь, где его, вероятно, никогда не будет, – не моя задача. Но даже среди знатоков искусства и артистов встречаются приятные исключения. Обычно они ведут себя тихо и спокойно, не ищут известности, то есть дают понять, что не стремятся оказывать на кого-либо влияние. Они точно знают, как много ошибочного и как мало прогрессивного проистекает из влиятельности. Поэтому слава для меня – дело второстепенное. Я, конечно, хотел бы иметь известность, но среди людей более сильных, более благородных! Слава – вещь чудесная, божественная, но она теряет свою ценность, если о ней трубят, а не передают бережно из рук в руки. Значит, черт с ней. – Моя живопись не имеет ничего общего с желанием славы, жаждой успеха. Я живу беззаботно, не боясь завтрашнего дня; какой мне прок от признания? Пишу ли я для тысячи или только для нее одной, делу это не вредит. Живопись остается живописью, а для тысячи или только для одного взора, совершенно все равно. Я пишу прежде всего для своих глаз. Я давно бы потерял зрение, если бы не мог рисовать. Это, конечно, сильно сказано, но я не хочу стеснять себя в выражениях. Графиню все больше радуют мои полотна. Возможность доставить ей, одной-единственной, великую истинную радость намного прекраснее, чем успех у разобщенной, изменчивой, обманчивой толпы. К тому же графиня действительно тончайший знаток искусств. Она понимает и чувствует замысел художника. Подчас она следит за движениями моей кисти с таким состраданием, словно от них зависит жизнь человека. Завершение новой картины наполняет ее душу детским счастьем. Она знает, я завершаю только те картины, которые нахожу безусловно удачными. Поэтому она может беззаботно предаться радости. Как же я люблю ее, хотя бы из-за этого тонкого чутья. Только прекрасные люди могут испытывать неподдельную радость от созерцания прекрасного. Хороши ли мои картины? Да, они хороши! Я могу, я должен так говорить. Без этой уверенности в душе я не захочу рисовать больше ни минуты. Кроме того, я знаю за собой почти болезненно ранимую скромность. Это меня успокаивает. И потом, возвышенный вкус графини не поддался бы на трусливый и грубый обман. Всякий видит, куда я стремлюсь, чтобы утолить свою жажду славы.
Что я рисую? Ничего, кроме портретов, я со скрупулезной точностью портретирую природу и людей. Не люблю сочинять кистью, выдумывать сюжеты, воображать, повествовать. Это противоречит моей манере, моему вкусу. Для чего же тогда поэты? Нет, мне важно изобразить природу как можно более достоверно, так, как ее видит моя душа (которая сидит у меня в глазах), увидеть ее такой, какая она есть. Вот и все. И этого уже много. Пусть это даже фантазии. Ведь я фантазирую, когда пытаюсь увидеть: фантазируют мои глаза. По сути, мой рассудок не имеет ничего, или почти ничего, общего с моей живописью. Я позволяю рисовать своему восприятию, своему инстинкту, своему вкусу, своим ощущениям. Понимание искусства, знание его законов нужно при обучении ремеслу. Правила известны всем, как и мне. Пускай все думают, что я много времени провожу на природе, возможно, даже с этюдником в руках! Как же они заблуждаются! Я редко вглядываюсь в натуру, по крайней мере, почти никогда – глазами художника. Насмотрелся досыта, чуть не свихнулся, глядя на нее. Ведь я ее люблю и потому стараюсь избегать опасного созерцания. Оно просто парализовало бы мою страсть к живописи. Что я могу и должен сделать, так это вызвать в памяти другую натуру, насколько возможно схожую с первой, единственной: природу для моих картин. В этом и состоит моя фантазия. Она, разумеется, раба природы, если не сама природа. В моем мозгу собраны все мои картины, уже написанные и даже будущие: горные склоны, пропасти, равнины, виды на долины, льдистые озера, реки, извивы тумана, стройные ели… Все, что я когда-либо видел в природе, все, что я так несказанно, так проникновенно люблю, все это сверкает, пенится, хранится и снова простирается в моих фантазиях. И пусть не говорят, что портретисты не фантазируют. Они, может быть, делают это живее, сильнее, глубже, чем все живописцы, сочиняющие исторические сюжеты и жанровые сцены. Недостойно ставить свою фантазию на службу чему-либо, кроме упражнения кисти. На мой взгляд, художник не может переоценить свое искусство. Все дело в том, насколько тонко, насколько емко он передает натуру. Я хоть и терплю с усмешкой художников, которые грубо сочиняют кистью (они любят называть это фантазией), но не ценю их. Потому что они не владеют своим искусством. Ведь дело не во внешнем, а во внутреннем воображении. Там – поверхностная, дилетантская работа с фигурами; здесь – глубокое чувство цвета.
Художник это человек, который держит в руке кисть. На кисти краска. Краска выбрана на его вкус. Рука у него для того, чтобы искусно водить кистью по указаниям видящего и чувствующего глаза. Он рисует и пишет кистью. Волоски кисти обычно удивительно острые и тонкие, но еще острее и тоньше та добросовестность, с которой работают все его чувства, все они, сосредоточенные и напряженные. Чем надежнее, собраннее человек, тем лучший он художник. Возвышенный и благородный образ мыслей удивительно отражается в движениях кисти. Беспутные люди и рисуют небрежно. Они могут быть гениальными живописцами, но великими – никогда. Скромные, прилежные мастера выбирают краски весьма осторожно, сообразуясь с вдумчивым вкусом. Неудивительно, что самая учтивая и любезная нация, французы, рождает или, по крайней мере, рождала самых значительных художников. Наглость и высокомерие никогда не создадут живописного полотна. Все великие художники были легкими, спокойными, рассудительными, умными, блестяще образованными людьми. Чтобы картина удалась, нельзя слишком долго собираться с мыслями, но и действовать безрассудно тоже нельзя. Верность природе, верность даже мягкому отказу со стороны натуры, и напротив: холодное отторжение всего, что алчно навязывает себя художнику – вот тот сосуд, та палитра, где лежат прелестные, вечные краски. Какой покой, какая тишина, какая сдержанность и потому: какая натура на картинах большинства старых мастеров! Природа всегда равнодушна, хотя и полна жизни. Как холодно светит солнце, тяжелеют листья и цветы, покоятся кроны деревьев, стоят скалы, звучит пение птиц. В природе нет тепла, только человек, боязливый, постоянно возбужденный человек думает, что должен его чувствовать. Какую только сладкую ложь не внушают нам поэты! Поэты вообще редко знают природу, Редко познают ее, не хотят ее знать. Они вообще упрямы. Занятие живописью включает в себя куда более тонкие наблюдения. Равнодушие, безразличие изображаемой натуры часто заставляет художника накладывать самые жаркие, раскаленные краски. Здесь следует держать себя в руках, холодно противостоять холодной натуре. Можно быть холодным, даже обладая сердечностью, искренностью и теплотой, если того требует искусство. Все великие художники умели это, всем им пришлось научиться. Это сразу ощущаешь в их шедеврах. Живопись – самое холодное из искусств, это искусство духа, наблюдения, размышления, мучительного раздвоения чувств. Что есть вкус, как не разъятое восприятие, расчлененное размышление? И чем, если не вкусом, руководствуется живописец? Разве чувство цвета не должно теснейшим образом соприкасаться с обонянием? Разве не должен определенный аромат вызывать впечатление определенного цвета?
Мысленно представляя себе особенно красивый цвет, я могу его смаковать, как восхитительно приготовленное блюдо или обонять как волшебно благоухающий цветок. Странное, своеобразное наслаждение! Я отказываю себе в нем, сколько могу, иначе оно меня погубит. Разве все чувства не связаны друг с другом чудесными каналами? Когда я пишу картину, я вижу только ее и думаю только о ней. Да еще приходится следить за запястьем, его часто клонит ко сну. С рукой не так-то просто справиться. В руке часто много упрямого своенравия, которое необходимо обуздать. Подчинившись твоей сильной, но мягкой воле, рука станет удивительно гибкой, податливой и послушной. Сломи ее упрямство, и она будет преданным, талантливым слугой, становясь с каждым днем сильнее и искуснее. Глаз – как хищная птица, он замечает малейшее неверное движение. Рука боится его, своего вечного мучителя. Я сам не знаю, что во мне происходит, когда я пишу картину. Тот, кто творит, полностью отсутствует и ничего не чувствует. Только во время перерыва, глядя на созданное, я ловлю себя на том, что дрожу от внутреннего счастья. Это ни с чем не сравнимое чувство придает уверенность, заставляет продолжать работу, которая почти сводит меня с ума. Поэтому я так мало отдыхаю, почти никогда. Это опасно, даже смертельно! Во время работы во мне нет ясного, реального понимания того, что я совершаю. Все происходит под властью неведомо откуда снисходящего, захлестывающего меня сознания. Поэтому артист не может говорить о счастье творчества. Только потом он чувствует мягкую, сладкую истому блаженного и беззаботного состояния. Блаженный это не то же, что счастливый. Только бесчувственный блажен, как и природа. Но и те, кого захлестывают чувства, – бесчувственны. Как я пишу – не могу сказать, я делаю это в непостижимом для меня состоянии. Как нужно писать – можно только написать, сказать это невозможно. Как я пишу? Об этом говорят законченные вещи, а незавершенные я никогда не выпускаю из рук. Иногда я вдруг вспоминаю смутное ощущение радости, которую испытываешь, накладывая на холст любимую краску. Тогда я принимаю соответственную позу, пытаясь повторить неуловимый мазок или прием, но это редко получается. Когда я сделаю что-то милое и эффектное, я после понятия не имею, как это мне удалось. Особенно в соснах мне удается передать что-то неожиданное, трогательное, ласкающее глаз. Сосны так крепко засели в моей памяти, так прочно угнездились в душе. Я часто хочу (и это желание достаточно болезненно) написать их запах. Хотя я художник, живопись часто действует на меня как нечто удивительное, призрачное, непознаваемое. Наверное, потому только, что я не испытываю никакой иной страсти.
Когда я работаю, графиня очень часто остается со мной. Я не обращаю ни малейшего внимания на ее присутствие, да она этого вовсе не требует. Как так получается, что эта дама умеет вести себя сдержаннее и корректнее, чем самые положительные мужчины? Она безмолвно сидит в кресле, подперев рукой прекрасную, одухотворенную голову, и с искренним интересом наблюдает за моей работой. Даже когда я делаю перерыв, она не решается сказать ни слова, так нежны ее мысли, так внимательно относится она к творчеству художника. У меня, похоже, есть привычка во время рисования разражаться смехом – издевательским, если я злюсь на результат, радостным – если есть на то причина. И она никогда не сделала мне замечания, разве что позже и невзначай. Она мне сочувствует, это очевидно, она чувствует со мной в унисон, это еще очевиднее. Поэтому ее присутствие служит то осязаемым, то неожиданным, завуалированным фоном. Это приятно, потому что не мешает. Что-то присутствует, но только наполовину, как мягкое солнце или благоухающий букет цветов. Когда я заканчиваю сеанс, завязывается непринужденная беседа. Чувствуешь себя так легко, будто сбросил тяжкий груз. Она относится к искусству всерьез, так же, как и я, профессиональный живописец. И именно мое, мое искусство она так вежливо и любезно принимает всерьез! Мысль об этом пронизывает меня до мозга костей! Когда я заканчиваю сеанс, она вздыхает едва ли не радостнее, чем я сам. Это кажется мне восхитительным! Мы указываем друг другу на сильные и слабые стороны моей картины. Она почти всегда видит только то, что достойно одобрения, прекрасно, изумительно. Она осторожна с упреками, но не скупится на похвалы: прекрасное качество, оно делает ей честь. Ей известно, как беспощадно я себя критикую. Она находит более уместным поддержать меня похвалой, чем огорчить упреками. О, она действительно понимает творческих людей! И обращается с ними так непринужденно, легко, умно и обдуманно. Ей чужда недалекая и неприятная экзальтированность, которая в вопросах искусства кажется тщеславием и незрелостью. Затем мы идем в сад или совершаем прогулку по живописным окрестностям. Она любит все, что я люблю, а я вдвойне люблю, что она любит. Мы никогда не ссоримся, хотя наши мнения часто расходятся. Я так счастлив, что не приходится много говорить. Ведь меня постоянно обуревают впечатления. Она не только догадывается об этом, она это знает. Чтобы не утомлять меня, она готова великодушно прервать беседу на самом интересном месте. Видя меня раздраженным и рассеянным, она порой просто проглатывает начатую фразу. Великолепная, смелая женщина! Между нами возникает понимание, единодушие, но за них стоит скорее благодарить ее, всегда внимательную и чуткую, чем меня, с моей вспыльчивостью. Хоть я и обожаю серый цвет, солнечные пейзажи меня восхищают. Я стараюсь нарисовать солнце как можно более холодным: мягким, медлительным, но холодным. Это придает картине что-то волшебное, поистине солнечное. Нет ничего более красивого, чем трепещущие, залитые, пронзенные солнцем деревья, особенно каштаны. О, как я люблю такие деревья! Как я люблю солнце, потому что оно такое мягкое, ленивое, такое милое! Я написал мельницу у реки, с большим трудом, это одна из наиболее удачных моих вещей. Руина, великолепный материал, сейчас в работе. Одни мотивы теснят другие, а я работаю так медленно. Это ужасно. Почему художник так изнуряет себя? Это одержимость или безумие? Право, не знаю. Но теперь я должен, прежде всего, написать портрет графини, вот что действительно меня беспокоит. Неужели я неуверен в собственных силах? Напротив! Но ее портрет, портрет женщины, которая… ну… которую почти любишь! – К тому же это будет один из первых портретов, которые я напишу. До сих пор я предпочитал писать пейзажи. Возможно, чувствовал, что они мне лучше удаются. Ну, теперь пора, я больше не могу выносить эту проклятую неизвестность. Только не бояться! Что в этом такого? Графиня будет сидеть тихо, как ребенок, которому положили на колени книгу с картинками, а я, я буду ее писать. И все получится! Откуда может взяться страх? – Я напишу ее прекрасной, красивее и пристрастнее, чем все пейзажи. Как я радуюсь тому, что смогу, к примеру, запечатлеть на холсте ее руки! Ее руки! При одной мысли об этом меня охватывает дрожь и боязливая радость. Ее руки так выразительно говорят об аристократизме и доброте, длинные пальцы так по-детски непослушны, не то что у других женщин! Да, я сумею ее написать. Ненавижу продумывать и предчувствовать все заранее. «Все будет в порядке, все хорошо у мальчика с сердцем, с чистой душой». Эта насмешливая строчка помогает мне. Время от времени приходится самым вульгарным образом встряхивать себя. – Перед ужином совершаю короткую прогулку в горы. Это полезно для здоровья. Но во время прогулки у меня появляется ощущение, что я не такой, как прежде, что это? Глупость, чепуха! – Как со мной говорят ели, о милые ели! Уж сколько раз я их писал: снова и снова ели! То в светлом, немного размытом солнечном свете, то в тумане, то в самом глубоком и трогательном виде: ни на солнце, ни в полумраке. Просто ели, не отбрасывающие тени. – Я срываю несколько прекрасных цветов, собираю букет, тороплюсь вниз, к дому. Она любит цветы, она любит, когда я их приношу, почему бы не оказать ей такую любезность? Пользуюсь случаем показать, как она мне дорога. Разве я не должен быть ей благодарным? Смешно.
Там – равнодушный, неподвижный предмет, будь то природа, человек или фантазия. Здесь – лежащие вперемешку краски. Между предметом и красками – дрожащая, постигающая, непостижимая рука и жаждущий, укрощающий себя, с трудом сдерживаемый глаз: вот вечно повторяющаяся судьба художника. Вечная, бесконечная борьба. – Я написал портрет графини, и он, кажется, удался. Я устал, как собака, и меня это совсем не удивляет. Картина была закончена в невероятно короткое время. Я не то чтобы написал, скорее, швырнул ее на холст. Какой-то сатанинский дух снизошел на меня! Но сейчас я жутко устал. Мысленно я продолжаю писать, жуткое состояние! Всю ночь, в диких отвратительных снах рисование продолжается. Сегодня ночью я вообще не засну. Напьюсь! Баста! Графиня, какая она чудесная женщина! Она позировала неутомимо. С утра до вечера. Я написал ее в позе полусидя-полулежа, в одеждах, которые идут ей больше всего. Она предоставила выбор мне. Разумеется, я положился на ее вкус, и она выбрала туалет очень удачно, подсознательно приняв во внимание мои предпочтения: серый цвет, который так великолепно подчеркивает женскую фигуру, и желтоватый коричневый, который я люблю всей душой. Во время сеансов она смотрела перед собой, холодно и неподвижно. Не сомневаюсь, что она уже позировала художникам в мастерских. Я вкалывал как жалкий поденщик, как ремесленник, которому явилось чудо. Но потом и я, к счастью, холодно отстранился, и дело, как говорится, пошло. И тут я снова ощутил на себе ее разочарованный холодный взгляд и снова пришел в отчаяние. О, какие у нее глаза! Руки получились легко, и они самое лучшее в портрете. Руки мне удаются легко, потому что я изучил свои собственные вдоль и поперек. Одна рука, в общем, похожа на другую, хотя в каждой выпирает характерная особенность. Под ее прелестными ножками лежал серо-голубой ковер. Толстый, мягкий, однотонный ковер. Он очень хорошо лег на картине. Глаза на портрете еще не дописаны, их и не нужно дописывать. Я бы не смог сделать их лучше. Она долго стояла перед законченной работой, ничего не сказала, но потом молча и с чувством протянула для поцелуя руку. Это действительно она, как она мне сказала много позже. Теперь она подолгу стоит перед портретом и рассматривает его как нечто чуждое, совсем ее не трогающее. Я знаю, она рассматривает его теперь только как произведение искусства. Если женщина так величественна, значит, мои труды не пропали даром. Букет цветов на картине вызвал у нее слезы. Это самый обычный букет, обычный настолько, насколько это возможно для портрета дамы. Но видимо, как раз это обстоятельство так ее взволновало. У портрета лишь один недостаток: что его не написал кто-то более одаренный, чем я.
Вчера сюда прибыл больной поэт. Он, кажется, испробовал все пороки, при этом невинен, как ребенок. Его стихи известны на весь мир, сам он изгой. – Странная, ужасная судьба! Графиня, преданная поклонница его поэзии, пригласила его к себе, чтобы он смог, по крайней мере, умереть достойно и тихо. В его стихах, действительно прекрасных, тончайшим и точнейшим образом отражается жизнь. Звонкая, звучная внешняя жизнь и тихо вздыхающая жизнь души! Может ли поэт достичь большего? Он еще так юн, бедный, обреченный парень! Как я люблю его, этого светловолосого, беззлобного, мечтательного юношу! Какие удивительные блестящие у него глаза! Какое в них мерцание и жалоба на судьбу! Самый настоящий поэт: прекрасный и отталкивающий одновременно. Бедный парень! Здесь у него полная свобода действий. Он может пить все, что хочет. Зачем отягощать ему смерть, от которой все равно не уйти, отравлять последнее невинное удовольствие? В этом отношении графиня самая благородная, самая щедрая филантропка. Когда он пьян, он танцует. Его искалеченное тело движется с восхитительной живостью. В его движениях есть странная, продуманная грация. Как будто благозвучные рифмы диктуют ему наклоны и повороты. Так танцует только поэт! Плечи, кисти рук и стопы создают музыку, которую нигде не услышишь ушами, но скорее увидишь глазами. Когда он прерывает свой танец, на него больно смотреть: ты снова видишь перед собой больного калеку. Его танец заставлял об этом забыть. Как же красота облагораживает движение, а движение – человека! Графиня тоже наблюдала это странное зрелище, и оно глубоко ее тронуло. Это случилось вчера около полуночи. Утром поэт прибыл, и уже вечером он позволил нам заглянуть в глубину своей души: так простодушны и прекрасны поэты! Сейчас, когда я это пишу, он сидит у окна и смотрит на дождь, на далекий, уходящий вниз пейзаж, на ели, на легкий, стелющийся, фыркающий туман. Смотрит и смотрит. Ему, должно быть, нравится молчаливая, меланхоличная игра там снаружи. Возможно, она даже утешает его, умирающего. Солнце и переливы цветов, возможно, только расстроили бы его. Возможно, он еще сочинит здесь что-нибудь! Я его напишу. Напишу таким, каким вижу сейчас, в этой случайной позе, когда он глядит в окно. У меня будет возможность позволить и елям заглянуть в окно. Он глядит наружу, а они заглядывают внутрь. Начну прямо сейчас, чтобы никакое новое впечатление не перебило этого.
Портрет поэта закончен, и я глубоко убежден, что это моя лучшая работа. До сих пор ни на одном из моих портретов натура не была столь органичной. И все же я написал все по памяти, поэту пришлось позировать лишь для нескольких эскизов его лица. Эскизы все прояснили: теперь моя фантазия только верноподданная натуры, зеркало природы, сама природа! Мое чувство цвета выбирает так же инстинктивно, как и сама природа. Меня это не удивляет: тот, кто, как я, видит перед глазами только натуру… Так должно быть, иначе быть не может. Теперь я полностью уверен в себе, в своем вкусе и таланте вообще. – Болезненная бледность лица поэта дала мне повод употребить мои самые любимые и самые верные мне краски. Распорядился я ими очень просто; обошелся с ними гордо и холодно. Какое противоречие: ты любишь, обожаешь некий предмет – и вынужден обходиться с ним холодно и отрешенно! Вся магия живописи состоит в том, чтобы научиться этому искусству. Разумеется, при условии высокого таланта, призвания и развитого вкуса. Пусть ты горячо, всей душой любишь свой цвет, избегай дружеского отношения к нему и фамильярности. Цвета буквально обуревают художника! И нужно научиться холодно и беспощадно противостоять буре сладостных цветов, которые могут навредить картине. И все же, в тот же момент, содрогнись от их прелестной прелести, с бесконечной радостью используй, примени ее в работе: это танец на канате ощущений, неотделимый от большого искусства. Великое искусство заключается в великих заблуждениях, так вывихам свойственна самая трогательная грация. – Как резко голова поэта контрастирует с головой графини! Картины висят рядом. Там – печальное увядание, здесь – само обаяние, самое отменное здоровье. Какие разные губы, щеки, глаза! У графини глаза, какие бывают у хороших, твердых и благородных людей. Но глаза поэта совсем не такие, о! Как правило, у женщин глаза более холодные и жесткие, чем у мужчин. Как правило, женщины здоровее и умнее мужчин. Женщины также живут более естественно и пристойно – лучше, чем мужчины. Конечно, я говорю об образованных дамах. Женская мудрость намного легче согласуется с чувствами, она чаще всего добра, действует во благо, не прерывая спокойного хода вещей, ее советы гораздо полезнее. Я люблю вести дела с женщинами именно из-за этой дружеской мудрости. Ради Бога – что плохого в том, что я хвалю женщин? Будь я женщиной, хвалил бы мужчин.
Мягкое, дождливое состояние природы переменилось на ясное и холодное. Туман уступил светлому, радостному солнцу. Моя комната полна солнца. Я люблю греться на солнце, когда у нас солнце. Я не бегу и не прячусь ни от чего. Я могу выдержать почти все, но я также могу обойтись почти без всего, если надо. Графиня рассматривает выставку моих работ. Она делает это почти каждый день после обеда. Она может часами сидеть неподвижно, глядя на картины. Как будто ведет с ними особый разговор, хочет объясниться начистоту и заставить их сказать ей нечто важное. Рассматривает их так, словно любование значительной картиной – занятие едва ли не более увлекательное, чем чтение самой значительной книги. В толстых книгах, – откровенно говорит она, – нам обычно лишь повторяют истории, которые мы день за днем, час за часом рассказываем сами. Картины, напротив, это неожиданности, достойные размышлений и восторгов. Что касается книг, она больше всего любит стихи, потому что в них больше всего искусства. Самое значимое и привлекательное в произведениях искусства – само искусство, а не то, что его сопровождает, пересказывает, оформляет, разбирает и разъясняет. Поскольку графиня мудра и в курсе всего, что происходит в мире, она, похоже, позволяет себе обходиться без писательских назиданий и пророчеств. Ее волшебные сказки – это картины, хоть они ничего ей не сулят. Они рассказывают ей о природе внешнего мира, неотразимо притягательной и непостижимой! Графиня не хочет лишний раз слышать о том, что понятно само собой. Цвета и линии куда интереснее. Никаких слов, звучат только ароматы и тона. – Если утром она замечает, что я не занят работой, она непринужденно заговаривает со мной, редко об искусстве, чаще о вещах обычных, человеческих, мелких, будничных. И за этой болтовней так искренне раскрывает передо мной свое сердце, что я почти могу рисовать и писать его. Ее слова обладают цветом, очертаниями. – Даже в эту минуту, когда я пишу, она оживленно говорит. Я не возражаю, ведь мне это совсем не мешает. Я слышу все, и не слышу ничего. Я слышу достаточно, когда слышу ее интонацию. Мне не нужно отвечать, не нужно соглашаться. Она этого вовсе и не требует. Думаю, ей кажется очень милым журчать, как родник. Я чувствую, что ей это приятно, зачем же ее прерывать? Как она прекрасна, когда говорит! Есть женщины, которые теряют свое обаяние, стоит им открыть рот. Таким идет бездействие и молчание. Когда говорит графиня, она оживляется, и это очень ей к лицу. Сейчас я должен идти с ней гулять; она говорит, она приказывает мне это как ее подданному, ради моего же здоровья, и тому подобное. Ну, погоди, насмешница, погоди! – Придется сделать перерыв.








