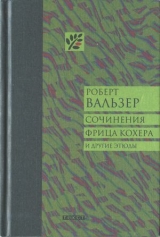
Текст книги "Сочинения Фрица Кохера и другие этюды"
Автор книги: Роберт Отто Вальзер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Дама и актер
Я пишу Вам теперь, сударь, потому как вчера вечером была в городском театре и смотрела на Вас, как Вы играли Принца Макса в комедии «Фаворит». Ежели Вам интересно, говорю наперед, что мне уже стукнуло тридцать, и даже больше. Вы молодой и хорошенький, фигура статная, думаю, многие женщины от Вас без ума. Между прочим, Вы не считайте, что я без ума, только я Вам сразу признаюсь, что Вы мне нравитесь. И охота мне сказать почему. Только письмо слишком длинное получится, верно я говорю?
Когда вчера вечером я глядела, как Вы играете, то сразу, с первой минуты, обратила внимание, какой Вы невинный. Много в Вас детского, и целый вечер такое поведение. Ну, думаю, стало быть, надо ему написать. Так что я решилась и теперь пишу. Только отправлю письмо или нет? Простите великодушно. И вот еще: можете гордиться, что из-за Вас такие сомнения. Может, я эти слова не отправлю, и ничего Вы не узнаете, и не будет у Вас причины для некрасивых надсмешек. А Вы любите надсмехаться?
Понимаете, я так думаю, что душа у Вас чистая, светлая, добрая. Но Вы еще молодой, может, цены себе не знаете? Когда будете писать ответ, скажите мне, где бываете, а лучше на словах, так что приходите завтра, в пять часов пополудни, буду Вас ждать. Очень многие люди ужас как гордятся, что неспособны делать глупости. А какое тут благородство? Одна невозможность. Они приличий не любят, только делают вид. А кто приличия любит, тому опасность нипочем. Опасности воспитывают. А коли всю жизнь помирать со страху, не иметь охоты к воспитанию и обучению важным делам, это и есть неприличие. Такая жизнь – одна тоска. Сами трусят, а изображают из себя порядочных, а это одна бессмысленная лень! Слышите? Слушайте и мотайте на ус! А может, Вы из таких, которые считают, что ежели эти дела немного стыдные и утомительные, так непременно и скучные? Ну, коли Вам скучно, плюньте на мое письмо и разорвите его. Но Вы не такой, Вы своего не упустите, Вам не скучно, Вас это дело заводит, верно я говорю?
Какой же Вы хорошенький, сударь мой, Господи, и такой молодой, небось лет двадцать, всего ничего. Вчера вечером Вы малость стеснялись, а голос у Вас красивый, но малость охрипший. Вы меня простите, ежели я не то сказала. Я на десять лет старше, и так уж мне приятно поговорить с человеком на десять лет моложе. А ежели судить по Вашему вчерашнему поведению, так и двадцати не дашь, очень уж Вы стеснительный. Только Вы не спешите отвыкать, нравится мне Ваша стеснительность, как бы сказать, естественность. Вроде как у детей. Обиделись? Не обижайтесь, я же от чистого сердца.
Да где Вам понять, как мне радостно воображать, будто кто на ухо шепчет: он не прочь, он это дело любит. А офицерский мундир Вам очень даже к лицу, сапоги узкие, сюртук, воротник, штаны в обтяжку, я была без ума, а манеры какие княжеские, а движения! А как Вы говорили возвышенно, даже слишком геройски, так что я малость стыдилась за себя, за Вас, за все представление. Уж как Вы громко и важно выступали в Вашем салоне или в замке Вашего батюшки, и глаза закатывали, словно хотели съесть кого. И стояли Вы так близко, я чуть не схватила Вас за руку, да, слава Богу, опомнилась.
Как сейчас вижу, стоите передо мной, такой большой да громкий. А когда завтра ко мне придете, тоже будете выступать? У меня в комнате, изволите знать, все по-тихому, по-простому, я еще офицеров никогда не принимала, чтобы сцены устраивать. Но уж больно стать мне Ваша понравилась, и что Вы высокий, как жердь или флаг какой, новый, славный, чистый да свежий, благородный. Хотелось бы с ним познакомиться, думаю, есть в нем как бы невинность, нетронутость. Покажете мне, как у Вас получится, я к Вам наперед со всем моим уважением и, надеюсь, с любовью. Вы хоть и Принц, важная особа, важничать не станете, а обмануть меня не сможете, молоды еще, а я женщина опытная, так что Вам меня обмануть никак нельзя. Я теперь не сомневаюсь, что отправлю письмо, только скажу еще одно, напоследок. Как будете в дом входить, у порога сапоги оботрите, а я в окно погляжу, полюбуюсь на Ваше поведение. Радость-то какая – глупости делать. Может, Вы подлец и захочете наказать меня за мое к Вам доверие.
А хоть бы и так, все одно. Приходите, наказывайте, доставьте себе удовольствие, сама напросилась, поделом мне будет. Но Вы молодой, Вам подлость ни к чему, верно я говорю? Глаза Ваши я как сейчас перед собой вижу и вот что Вам скажу: не такой уж Вы умный, разве что прямодушный, честный, а это дорогого стоит, дороже ума. Думаете, я заплуталась? Ведь чужая душа потемки.
А Вы, случаем, не из тех умников, что воротят нос от нашей сестры? Коли так, буду сидеть у себя в комнатах одна как перст. Не понимаю я таких людей и нипочем не пойму.
Буду стоять у окна и дверь отворю, чтобы Вам не трезвонить в звонок слишком долго. Тут Вы меня и увидите, сразу, как в дом войдете. Вообще-то я бы желала… Нет, не скажу, это лишнее. Вы еще читаете? Надо Вам наперед сказать, что я женщина видная, хороша собой, так что Вы уж постарайтесь, наденьте мундир самый лучший, вычищенный. Что будете пить? Говорите, не стесняйтесь, у меня вино в подвале, девушка принесет. Но может, мы с Вами для начала чаю выпьем по чашке, как думаете? Мы будем одни, муж в это время в лавке сидит, но не считайте, что надо мною можно надругаться, и совсем напротив, это дело деликатности требует. Вот и окажите деликатность, коли Вы такой красавчик, а не то я брошусь за посыльным, когда он эти строчки Вам понесет, обзову его грабителем и убивцем, натворю страшных безобразий и угожу в тюрьму. Уж очень мне охота увидеть Вас здесь, рядышком, я об Вас желаю быть хорошего мнения, потому и говорю так, а если Вы после всего этого не побоитесь и придете, то проведем мы с Вами полтора часа прекрасно, и тогда выходит, что зря я теперь вся дрожу. Уж не такая это отчаянность Вас к себе пригласить.
Вы такой стройный, постойте внизу на улице, у садовой калитки, я Вас сразу узнаю.
Что Вы теперь делаете? Как думаете, может, не писать больше ничего? Уж как Вы будете смеяться, когда я выйду перед Вами и покажу, как Вы там стояли в виде Принца Макса. Очень Вас прошу, как меня увидите, поклонитесь мне низко и ведите себя благородно и стеснительно, не развязно, не дай Бог, я Вас наперед предупреждаю. А я Вас за послушание отблагодарю, и, может, Вы никогда в жизни больше не увидите такой благодарности.
Черновик пролога
Театральные подмостки
Занавес поднимается, зрители видят открытый рот, освещенную красноватую глотку, из нее высовывается большой, широкий язык. Рот обрамляют острые, ослепительно белые зубы. Все вместе напоминает пасть чудовища. Огромные губы похожи на человеческие, язык движется вперед, пересекает рампу и огненным концом чуть ли не задевает головы зрителей. Потом он снова уходит назад и еще раз выдвигается вперед, вынося на своей широкой мягкой поверхности спящую девушку в красивом наряде. Ее золотистые волосы струятся с головы на платье, она держит в руке звезду, похожую на белую, искрящуюся на солнце снежинку. На голове девушки изящная зеленая корона. Красавица сладко спит, подложив ручку под голову, улыбаясь во сне и покоясь на этом языке, как на перине. И вот она просыпается. Такие глаза, с такой сверхъестественной поволокой, грезятся нам во снах: они взирают на нас с высоты, излучая чудный живительны блеск, а теперь вот они глядят по сторонам, вопросительно, и удивленно, и невинно, как глаза ребенка, любопытного ко всему на свете. Но вот из огненно-черноватой глотки вылезает массивный субъект в развевающихся лохмотьях (видимо, костюм кроил какой-то придурковатый портной), топает вперед по языку, содрогающемуся под его шагами, приближается к девице, наклоняется над ней и впивается в нее поцелуем. В тот же миг из пасти вырываются языки пламени. Искры сыплются дождем, ничуть не смущая влюбленную пару. Мужик сильный. Он хватает юную деву и на руках тащит за кулисы. Огромный язык вздымается вверх и прихлопывает обоих, чтобы с треском и грохотом затолкнуть в пасть.
Белая звезда девушки одиноко мерцает у зубов рампы, и тут из темной глотки огненной радугой выстреливают голубые, зеленые, желтые, алые, синие и белесые звезды, к тому же играет музыка, и звезды лопаются в воздухе, обращаясь в ничто. Губы огромной морды приходят в движение и произносят тихо, но внятно и задушевно:
Пьеса начинается. Занавес.
Две сказочки
1
На улице шел снег. Подъезжали извозчики и авто, высаживали свое содержимое и отъезжали. Дамы кутались в меха. В гардеробе образовалась очередь. В фойе звучали приветствия. Все дарили улыбки и обменивались рукопожатиями. Свечи сверкали, юбки шуршали, сапожки шептали и скрипели. Навощенный паркет блестел, капельдинеры направляли движение, вам туда, вам сюда. Мужчины явились в тесных фраках, фрак должен облегать. Обменивались поклонами и любезностями. Любезности, как голуби, перелетали из уст в уста. Женщины сияли, даже некоторые старухи. На места почти никто не садился, стояли стоймя, чтобы высмотреть знакомых. Лица оказывались так близко, что дыхание попадало в ноздри стоящего рядом соседа. Туалеты дам благоухали, лысины господ блестели, глаза сверкали, руки сигналили: Кого я вижу? Сколько зим, сколько лет! В первом ряду сидели критики, как прихожане в высокой церкви, тихие и набожные. Прозвенел звонок, занавес шевельнулся, кто успел, откашлялся, и вот уже все притихли, как мыши, как дети в школьном классе, и что-то поднялось и что-то началось.
2
Занавес поднялся, зал замер в ожидании. Появился прекрасный юноша и начал танцевать. В ложе, в первом ряду, сидела королева, окруженная фрейлинами. Танец так ей понравился, что она решилась выйти на сцену, чтобы сказать юноше комплимент. Выходит она на сцену, а юноша глядит на нее во все глаза и улыбается. Тут королеву словно молния поразила, по улыбке узнала она своего родного сына и упала прямо на пол. Что с тобой, спрашивает юноша. Тут она его еще лучше узнает, по голосу. И забыла она о своем королевском величии, отбросила гордость и не постыдилась крепко прижать юношу к своей груди. Груди у нее то поднимались, то опускались. Заплакала она на радостях и молвила: Ты мой сын. Публика захлопала, ну и что? Женщина была наверху блаженства, пусть себе хлопают, да хоть бы и шикают. Она все прижимала голову юноши к своей трепещущей груди и целовала-целовала его лицо. Фрейлины опомнились и указали своей повелительнице на неприличие всей этой сцены. Публика расхохоталась, но фрейлины окатили многоголовую чернь холодным презрением. Губы их дернулись в усмешке, занавес дернулся и упал.
Четыре шутки [6]6
Четыре шутки:Гертруда Айзольдт, известная актриса из труппы Макса Райнхардта, как и друг Кристиана Моргенштерна Фридрих Кайслер, который тоже писал. Роберт Вальзер в свой берлинский период был хорошо знаком с ними, как и с некоторыми другими представителями театрального круга, прежде всего через посредничество своего брата Карла, который рисовал для Райнхардта декорации. По этой причине он и мог позволить себе эти «шутки».
[Закрыть]
1
У Вертхайма, на самом верхнем этаже, где пьют кофе, нынче можно увидеть нечто интересное, а именно поэта Зельтмана, сочинителя драм. Сидя в плетеном креслице на высоком помосте, он являет собой легкую мишень для взглядов посетителей. Так смотрят клиенты обувной мастерской на сапожника, с той разницей, что Зельтман шьет, подгоняет, тачает, короче, мастерит белые стихи. Маленький прямоугольный помост премило декорирован темно-зелеными еловыми ветками. Драматург прилично одет: фрак, лаковые штиблеты, белый шарф – все при нем. Так что никому не стыдно удостоить его своим вниманием. Но самая замечательная деталь его внешности – великолепная копна густых ржаво-желтых волос, каскадом ниспадающая с головы, струящаяся по плечам, по спине, аж до полу. Она похожа на львиную гриву. Кто такой Зельтман? Избавит ли он нас от позорной необходимости отдавать наш театр на откуп фабрикантам селитры? Напишет ли он драму национального масштаба? Оправдает ли всеобщие чаяния? Все ждут такого героя с тем же нетерпением, с каким ждут парня из мясной лавки, доставляющего кровяную колбасу. Во всяком случае, следует поблагодарить дирекцию универсама Вертхайма за выставку Зельтмана.
2
Наш театр постепенно теряет лучшие кадры, которые служили ему верой и правдой. Сей печальный факт, к нашему великому сожалению, подтверждает своим письмом в редакцию г-жа Гертруда Айзольдт. Она сообщает, что намерена в ближайшее время открыть корсетный магазин по адресу Кантштрассе угол Иоахимсталерштрассе, то есть стать настоящей деловой дамой. Жаль, жаль. Актер Кейслер тоже хочет дать тягу. Он, как говорят, почувствовал, что в наше время более престижно стоять за буфетной стойкой, чем играть вторые роли на подмостках. Для начала он приобретает маленькую пивную в восточной части города и с нетерпением ожидает счастливой возможности разливать пиво, протирать стаканы, намазывать бутерброды, подавать воблу и по ночам вышвыривать из заведения пьяных. Печально, печально. Мы глубоко скорбим, видя, как два столь обожаемых и высоко ценимых кумира публики изменяют своему призванию. Хотим надеяться, что подобная практика не войдет в моду.
3
Недавно в гардеробе театра «Каммершпиле» пред началом спектакля можно было наблюдать небольшое нововведение. Дирекция облачила сотрудников литературной части в элегантные светло-синие фраки с большими серебряными пуговицами. Нам это понравилось. Идея здравая. Капельдинеры уволены, а сотрудники литчасти все равно в это время бездельничают. Пусть уж они лучше помогут дамам снять манто и проводят господ зрителей на указанные в билетах места. Кроме того, пусть открывают двери в зал и ложи и дают разного рода небольшие, но весьма необходимые справки. Теперь они носят длинные, толстые, желтые гетры до колен, отвешивают изящные поклоны, раздают программы, предлагают бинокли. В провинции им пришлось бы, помимо всего прочего, разносить записки, но здесь, в Берлине, в этом нет нужды. Короче говоря, ни один критик больше не посмеет спросить, что такое литчасть и в чем состоят обязанности ее сотрудников. Теперь знатоки драматургии показали всему свету, на что они способны. Так что оставьте их в покое.
4
Театр постоянно слышит упреки в том, что впечатление производят одни декорации, а пьес нет. Дабы раз и навсегда положить конец этому вечному нытью, директор Райхардт додумался ставить спектакли просто в белых сукнах. Сотрудники его литчасти, естественно, не удержались и разболтали нам эту великую тайну. Он будет удивлен, возможно, даже придет в отчаяние, узнав, что мы уже сегодня раструбили об этой новости на весь свет.
Белые кулисы! Белоснежные, как чистое белье? А вдруг его уже надевала некая неизвестная дама-великанша из цирка? И щеголяла в нем, скажем, несколько дней? Тогда декорации будут источать наверняка чарующий аромат ее бедер, что только пойдет на пользу господам критикам: они забудут, где сидят, острота их восприятия притупится. Кроме шуток. Идея Райнхардта представляется нам многообещающей, то есть блестящей. На фоне белых простыней персонажи и призраки, актеры и актрисы будут смотреться чрезвычайно эффектно. Удастся ли Райнхардту протолкнуть свою идею в Придворный театр?
Телль в прозе
Ущелье в окрестностях Кюснахта
Т е л л ь ( выбирается из лесной чащи). Я полагаю, наместник проедет по этой просеке. Если не ошибаюсь, другой дороги на Кюснахт нет. Вот здесь все и произойдет. Быть может, говорить так – безрассудно, но дело, которое я задумал, требует безрассудства. До сих пор этот лук целился только в зверей. Жил я мирно, день-деньской трудился, а ночью спал, утомившись от трудов праведных. Разве ему приказано отравлять мне жизнь? Разве есть такое распоряжение – не давать мне прохода? Поганая у него должность, вот он и зверствует. ( Садится на камень.) Телль может стерпеть обиду, но задушить себя я не позволю. Он – знатный господин, имеет полное право смеяться надо мной, но ему подавай меня со всеми потрохами. Он покушается на мою жизнь, любовь и добро. Он перегнул палку. А моя стрела все еще в колчане. ( Вытаскивает из колчана стрелу.) Самое ужасное уже свершилось: мысленно я принял решение, я застрелю его. А как? Почему я прячусь в засаде? Может, лучше выйти ему навстречу, встать во весь рост и на глазах его оруженосцев сбить его с лошади? Нет, буду считать его глупой дичью, а себя охотником, так оно вернее. ( Натягивает лук.) Прощай, мирная жизнь. Он вынудил меня целиться в голову собственного сына. Что ж, теперь я прицелюсь в грудь этого изверга. Что-то мне кажется, будто я это уже проделал, и можно двигать домой. Ведь то, что проделываешь мысленно, руки потом выполняют сами. Механически. Я могу отсрочить приговор, но не отменить его. Пусть это решит за меня Господь Бог. Но что я слышу? ( Прислушивается.) Он приближается? Торопится? Спешит навстречу своей гибели? Неужто такой доверчивый? Эти знатные господа – большие оригиналы, если со спокойной душой творят такие жуткие безобразия. ( Дрожит.) Если я сейчас промахнусь, придется прыгать вниз и рвать изверга на части. Телль, Телль, возьми себя в руки, малейшая неловкость превратит тебя в дикого зверя. ( Звук рожка за сценой.) Он велит трубить в рог по всей стране, которую унижает и угнетает. Какое нахальство. Воображает себя тираном и деспотом, а сам – дичь доверчивая, без понятия. Беззаботное дитя. Грабитель, разбойник, убийца. Приплясывает и убивает. Так пусть же это чудовище погибнет в неведении. ( Становится в позицию.) Теперь я спокоен. Не будь я так спокоен, помолился бы. Такие вот спокойные, вроде меня, и выполняют свой гражданский долг. ( Наместник и свита на конях. Роскошный выезд. Телль стреляет.) Знай наших. Да здравствует свобода.
Знаменитая сцена [7]7
Знаменитая сцена:«Разбойники» Шиллера (монолог представляет собой вариацию окончания первой сцены), должно быть, вызывали у молодого Вальзера особый интерес (ср. «Венцель» в сб. «Истории» и прим. к нему). Об этом говорят два позднейших текста-парафраза «Своего рода повесть» и «Трагедия», как и «Шиллер (II)»; а также один из фрагментов «Феликса». С драмой Шиллера косвенно связана одна из масок Вальзера (набросок романа «Разбойник»).
[Закрыть]
Кабинет графа. Старый Моор удаляется. Франц остается один.
Ф р а н ц. Господи, какой же я невезучий. Ей-богу, даже стыдно. Наврал ему с три короба, а он проглотил гнусную ложь и не поморщился. И пусть. Как я устал от своего подлого поведения. Только подумал, что убью, глядь, уже убил. Хотел всего лишь устроить репетицию, глядь, а мерзостный спектакль уже сыгран. Ничего не попишешь. Старый олух. Но к чему так уж себя бранить? ( Смотрится в зеркало.) Хорош. Красавчик. И полное спокойствие на роже. ( Улыбается.) И эта улыбочка. Такая располагающая, беззлобная. Не надо бы использовать столь грубые методы, стращать народ. Но что поделаешь: приходится действовать нахрапом, так оно убедительней. Зато набрался опыта. Век живи – век учись. До чего же я ленив. ( Растягивается на кушетке.) Покурить бы теперь индийского табаку, да он весь вышел. Все эти события немного меня утомили. Очень уж я гнусно лгал, а мне очень уж наивно поверили. Это обескураживает. Черт с ним. Чем бы теперь заняться? Эй, Герман! ( Входит Герман.) Ступай прочь. Я кликнул тебя во сне. Ненавижу сны. (Герман уходит.) Попробую еще раз признаться в любви. Охота послушать, как будет ругаться Амалия. О, роскошество оскорбления! Поносить меня? Да это на грани безумия! Моя восприимчивость так слабо развита, что я слегка скучаю. Искренние чувства, душевные порывы, как они надоели. Все естественное мне надоело. Мысль о том, что я мог бы иметь успех в свете, меня ужасает. ( Входит Амалия.) Я только что солгал, я оклеветал твоего Карла. Старый Моор готов его проклясть. Умоляю, поспеши, не то случится беда. Ну-ну, я пошутил. Это откровенное признание – каприз твоего недостойного поклонника. ( Амалия уходит, презрительно улыбаясь.) Она мне поверила. Что ж, вылезайте наружу, пакости! Развернитесь вовсю, подлости! Ко мне, сюда, мерзости! Забавляйте меня. ( Вскакивает с кушетки.) Я дал пинка своей благородной натуре, и ей уже никогда не оправиться от оскорбления. Я содрогаюсь. Это от боли. Если нельзя быть нежным, значит, позволено озвереть. ( Зевает.) Я твердо верю в дьявольское благословение. Я бичом изгоню добро из Божьего мира. ( Замечает на полу ленту.) Увы, я не сумел объясниться. Не поняла она, как благородно и любвеобильно мое сердце. Пусть так. За это я сделаю из нее шлюху. Начнем, пожалуй. Герман! ( Входит Герман.) Напои меня. Будем кутить. Во мне бушуют адские силы. Я должен их искусно задушить. Иначе я воображу себя Господом Богом и разнесу Вселенную. ( Уходит.)
Перси
Когда говорят, что он рыцарь с головы до пят, это еще не эскиз к портрету. Его лицо как раз некрасиво. Носа, считай, нет. Нос вдавлен в шар физиономии, как будто кто-то когда-то сбрил его беспощадным ударом меча. Намеренно говорю: нос сбрит. Говоря о таком мужлане, уместно пренебречь приличиями. Перси ненавидит любезные словеса, изящные манеры, тонкие ароматы. Рисунок его рта выражает тоску и гнев, но его большие глаза… Кажется, что в них раз и навсегда поселился восторг от созерцания ста голубых небес. Когда человек закрывает эти глаза, тем, кто стоит у его смертного одра, мерещится нечто ужасное, мир содрогается и погружается во мрак. Рост скорее маленький, чем высокий. Фигура скорее плюгавая, чем статная. Доспехи простые, но осанка выдает скрытую царственность. Губы неподвижны, улыбаются на удивление редко, разве что иногда издевательски усмехаются. Поскольку Перси неотесан и прост, внезапная усмешка на его лице означает верх благодушия. Кого он высмеивает, того и любит, а он любить умеет. Он ненавидит этикет, старается вести себя неуклюже. Его очарование непроизвольно, он его не сознает. Знай он, как он хорош, он бы разорвал в клочья свою золотую душу, да он плюнул бы себе в лицо. Но для этого ему пришлось бы глянуть в зеркало, а такой полезной вещи у него нет. Он презирает то, что любит; находит скучным то, что ему интересно; опасается того, о чем грезит. Если не ставить жизнь на карту, ему не хочется жить. Ничей муж не был столь любим женой, и никогда – более заслуженно. Перси не знает науки побеждать. Знают то, что изучают. Отвага Перси врожденная, он герой, ничего с этим не поделаешь. Камзол у него серый, перевязи зеленые, плюмаж красный. Кто-то из слуг нахлобучивает ему на голову шлем все равно какого цвета; вкус у Перси хромает. Он слишком полон предвкушением битвы, чтобы обращать внимание на такие вещи, как выбор цвета. Он слишком бесцеремонен, чтобы обсуждать рыцарские наряды, и слишком целомудрен, чтобы изучать символику цветов. Жена на него молится, для нее он – царь и Бог. Ему это известно, и за завтраком он стесняется себя. При виде жены его охватывает такая нежность, что он каждый раз думает: Она меня доконает. Если не ошибаюсь, это его собственная реплика. Потом он отпускает свои шуточки, говорит адьюи скачет к черту в пасть. Рыцарские манеры на его вкус слишком пресны, он ведет себя как современный работяга. Музыка сводит его с ума. Вечером, усталый после битвы, он стоит, прислонившись к дереву, и, когда раздаются звуки музыки, душа его, уносимая слезами, жаждет уплыть бог весть куда. Днем на кровавом поле битвы, не помня себя от ярости, он собрал солидную коллекцию отрубленных рук, ног и голов. И сразу по окончании этого ужасного дела он способен извлекать из природы прекрасные и странные настроения и предаваться им целиком, пусть и на краткое время. Его трубный глас, устав от криков, иногда, ради разнообразия, позволяет себе эту роскошь – дрожать от умиления. К религии он относится… Хм! Об этом умолчим. Думаю, он к ней более чем равнодушен. Он считает ее вздором. Короче, он в ней не нуждается. Его рай и ад на земле. Идеалов у него нет, и даже нет чувства чести; его влечет риск. Оказывается, что риск – это и есть его идеал. Он крушит все подряд – и добывает славу. Он мечтает одолеть в поединке принца Уэльского, а потом расхохотаться и расцеловать поверженного противника. А до тех пор он будет убивать все, что подвернется ему под руку, держащую меч. Может быть, тогда он станет приличным человеком, а может быть, что и тогда не станет, видимо, упрямство не позволит. Он умирает, но видя, как он умирает, слыша, как он хрипит, люди, стоящие у одра, чувствуют, что испускает дух великан.








