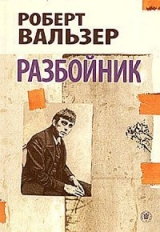
Текст книги "Разбойник"
Автор книги: Роберт Отто Вальзер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
РАССКАЗЫ
ДВЕ ИСТОРИИ 1902 («Geschichten»)
ГЕНИЙ
Однажды ледяной ночью Венцель, гений, стоял на улице в тонкой, тоненькой, тонюсенькой одежонке и попрошайничал у прохожих. Господа и дамы думали, господи, ну он же гений, он может себе такое позволить. Гении не так легко подхватывают насморк, как простые смертные. Венцель ночевал в портике Королевского дворца и, смотрите-ка, не простудился. Гении не простужаются сразу, даже если очень холодно. Утром он велел доложить о себе молодой и прекрасной королевской дочке, на нём было то же самое платье, что и прежде. В нём он выглядел жалко, но слуги сбивали друг друга с ног и с толку, перешёптываясь: гений, ребята, гений, а потом доложили о Венцеле повелительнице, и он весело вступил в её покои. Венцель даже не поклонился принцессе, потому что, судите сами, такого гению не полагается. Принцесса же, в благоговении перед величием собственного духа, склонилась перед гением, я имею в виду, перед юным Венцелем, и протянула ему белоснежную ручку для лакомого поцелуя, а потом осведомилась, что ему угодно. «Хочу есть», – ответил грубиян, и, однако же, нашёл отклик, потому что тотчас же, по мановению руки повелительницы, был подан великолепный завтрак и портвейн, всё на серебряных блюдах и в хрустальных сосудах на золотом подносе. Гений ухмыльнулся при виде яств, потому что, судите сами, гениям можно и поухмыляться. Королева была благосклонна, кушала вместе с Венцелем, на котором в соответствии с его гениальной сущностью не было даже сколько-нибудь приличного галстука, расспрашивала о его творениях и даже выпила за его здоровье: всё это с милой невинной грацией, очень ей свойственной. Гений чувствовал себя полностью счастливым в первый раз за всю свою порванную в клочья жизнь, потому что, смотрите-ка, даже гениям не чуждо это человеческое свойство – быть счастливыми. Помимо прочего, произнося застольную речь, Венцель заявил, что настроен завтра или послезавтра разрушить мир. Королевская дочь, которую понятным образом объял при этом ужас, бросилась вон из комнат, испуганно и благозвучно визжа, как всполохнутый соловей, оставив гения наедине с его гениальностью, и рассказала обо всём отцу, господину принцу-регенту страны. Последний же испросил Венцеля по возможности быстро, немедленно, отправиться вон, что и было исполнено. И теперь гений снова в подворотне, и ему нечего есть, но все ему это прощают, этому сумрачному гению; а он не знает, куда податься от забот. В этом состоянии ему на помощь приходит быстрая гениальная мысль (все гениальные мысли чрезвычайно проворны). Он организует снегопад, причём такой продолжительный и сильный, что через короткий промежуток времени весь мир оказывается погребён под снегом. Он, гений, возлежит на обледенелой корке наста, на самом верху, и лелеет недурную мысль о том, что весь мир лежит под ним, погребённый. Он говорит себе: это мир тяготящих воспоминаний. Он повторяет это до тех пор, пока вдруг не замечает, что изголодался – как по хорошей земной еде (такой, как, например, в отеле «Континенталь»), так и по дурному человеческому обхождению. Солнце там наверху тоже не особенно радует, потому что сидеть под солнцем в полном одиночестве – хм – он чувствует холодную дрожь. Одним словом, он устраивает оттепель. Тем временем в мире успело кое-что измениться: образовалось новое, свежеумытое поколение людей, преисполненное почтения перед всем сверхчеловеческим. Это тешит Венцеля до тех пор, пока снова не надоедает. Он сокрушается, и вздохи, исходящие из глубин его души, достигают общего признания. Ему хотят помочь, убеждают его в том, что он – так называемый гений человечества, или же его воплощение и персонификация. Но всё это втуне, потому что гению не помочь.
МИР
Когда старый господин Церрледер однажды вечером заявился домой слишком поздно, его господин сорванец-сын переломил его через колено и задал ему хорошей трёпки. «В будущем, – сказал сын отцу, – я тебе вообще не буду давать ключа от дома, понятно!» – Мы не знаем, понял ли отец это с первого раза или нет. На следующий день мать получила от дочери звучную пощёчину (полнозвучную, было бы правильнее сказать) за то, что слишком много крутилась перед зеркалом. «Кокетство, – сказала дочь, негодуя, – это позор для людей такого почтенного возраста, как ты», – и выгнала несчастную на кухню. На улице и во всём мире происходили следующие беспримерные случаи: в подворотнях девушки шли за кавалерами по пятам и докучали им своими предложениями. Некоторые из этих таким образом преследуемых юнцов краснели от дерзких речей надоедливых дам. Одна такая дама при свете дня совершила неприкрытое нападение на совершенно непорочного мещанского сына с незапятнанной репутацией, который с криками пустился в бегство. Сам же я, более распущенный и менее добродетельный, попался в лапы одной молодой особы. Я некоторое время дал ей себя поуламывать, но только из заранее заученного жеманства, и этим только ещё более распалил горячую девушку. К счастью, она меня оставила в покое, что мне полностью подходило, так как я питаю пристрастие к дамам более высокого пошиба. В школьных классах учителя на седьмой или восьмой раз не могли заучить лекцию, и поэтому их сажали под домашний арест. Они рыдали, потому что им так хотелось провести вечер за распитием пива, кеглями и другими грубыми развлечениями. В переулках прохожие без стыда отливали на стены. Собаки, случайно проходившие мимо, таким поведением по справедливости возмущались. Благородная дама несла на своём хрупком плече лакея в сапогах со шпорами; краснолицая служанка ехала в открытой коляске кататься с герцогом тамошней земли. Она манерно улыбалась, показывая три шатких зуба. В коляску были запряжены студенты. Их ежесекундно подстёгивали проворной плёткой. Уличные воры бежали за судебными исполнителями, арестовавшими их в кабаке или борделе. Спектакль притягивал внимание многих собак, которых арестанты радостно кусали за икры. Так это и происходит, когда судебный исполнитель нерадив. И на этот мир вздора и греха обрушилось сегодня пополудни небо; без грохота, нет, скорее, как мягкое сырое полотно, и всё покрылось дымкой. Ангелы, одетые в белое, блуждали босиком по городу, по его мостам, и отражались в мерцающей воде хоть и тщеславно, но с изяществом. Черти с чёрной щетиной проносились мимо с дикими криками, потрясая вилами в воздухе, к вящему ужасу людей. Вообще, они вели себя крайне нескромно. Что ещё я могу добавить? Небо и преисподняя разгуливают по бульварам, в лавках заправляют блаженные наряду с проклятыми. Всё слилось в хаос, крики, улюлюканье, бег, смятение и вонь. Наконец, господь сжалился над этим презренным миром. Он взял Землю, которую когда-то изготовил за одно утро, и засунул её в мешок. Первое мгновение (слава богу, только мгновение, не дольше) было просто ужасно. Воздух стал твёрдым, как камень – или даже ещё твёрже. Он разрушил все дома в городе, и они уткнулись друг в друга, как пьяницы. Горы поднимали и опускали широкие спины, деревья летали в пространстве, как чудовищные птицы, а само пространство в конце концов растеклось неопределимой желтоватой холодной массой, у которой не было ни начала, ни конца, ни измерения, ни чего-то ещё, оно стало просто Ничем. А писать ни о чём нам представляется невозможным. Даже сам господь бог испарился из скорби о собственной жажде разрушения, так что этому Ничему не осталось даже характера, способного определить или придать окраску. -
ДВЕ СТРАННЫЕ ИСТОРИИ О СМЕРТИ 1904 («Aufsatze»)
Служанка (I). У богатой дамы была служанка, которой полагалось следить за ребёнком. Ребёнок был нежный, как лунный свет, чистый, как свежевыпавший снег и пригожий, как солнце. Служанка любила его, как луну, солнце, почти как самого господа бога. Но однажды ребёнок потерялся – никто не знал, как, – и тогда служанка стала его искать, и искала по всему свету, во всех городах и странах, даже в Персии. Однажды ночью там, в Персии, служанке попалась на пути высокая мрачная башня, которая возвышалась рядом с широкой бурной рекой. На самом верху башни горел красный свет, и верная служанка спросила у этого света: Не подскажешь, где мой ребёнок? Он потерялся, я ищу его уже десять лет! – Так ищи же ещё десять лет, ответил свет и потух. И служанка искала ребёнка ещё десять лет во всех местностях и окрестностях, даже во Франции. Во Франции есть большой великолепный город под названием Париж, и вот туда-то она и пришла. Однажды вечером она стояла у ограды прекрасного сада и плакала, потому что всё ещё никак не могла найти ребёнка. Она вытащила красный платок, чтобы утереть слёзы. Тут дверь в сад отворилась, и навстречу вышел ребёнок. Не успела она его увидеть, как сразу умерла от счастья. Почему она умерла? Какой тогда во всём этом смысл? Так или иначе, она к тому времени уже состарилась и потому не вынесла такого потрясения. А ребёнок теперь – гранд-дама, красавица. Если ты её встретишь, передай ей от меня привет.
Тыквоголовый человек. Жил однажды человек, у которого вместо головы на плечах была пустая тыква. С такой головой далеко не пойдёшь. А он всё равно хотел пробиться в первый ряд! Хорош фрукт! Вместо языка у него висел изо рта дубовый листик, а зубы были просто вырезаны ножом. Вместо глазниц – две круглые дырки. В дырках горели два свечных огарка: глаза. Такими глазами много не увидишь. А он, хвастун, всё равно утверждал, что у него глаза лучше некуда! На голове красовался цилиндр, который он снимал, когда с кем-нибудь разговаривал, такой уж он был вежливый. Однажды этот человек пошёл погулять. Но ветер дул так сильно, что глаза потухли. Он хотел было зажечь их снова, но не нашёл спичек. Он стал плакать своими свечными огарками, потому что не мог найти дорогу домой. Так он сидел, обхватив голову-тыкву обеими руками, и хотел умереть. Но так просто умереть у него не получилось. Сначала прилетел майский жук и съел дубовый листик, торчавший у него изо рта. Потом прилетела птица и выклевала дырку в тыквенном черепе. Потом пришёл ребёнок и отобрал у него оба свечных огарка. Только после этого он смог умереть. Жук ещё грызёт листик, птица ещё клюёт тыкву, а ребёнок ещё играет со свечками.
КЛЕЙСТ В ТУНЕ 1907 («Geschichten»)
Клейст квартировал и столовался в крестьянском доме неподалёку от Туна, на острове в волнах реки Ааре [23]23
Генрих фон Клейст провёл несколько месяцев на острове неподалёку от Туна в 1802 г. В работе над рассказом Вальзер использовал сохранившиеся письма Клейста к сестре, относящиеся к этому времени. Сам Вальзер жил в Туне весной 1899 г.
[Закрыть]. Разумеется, теперь, более чем век спустя, сложно утверждать наверняка, но я думаю, что он перешёл через коротенький мостик, каких-нибудь десять метров длиной, и потянул за шнурок колокольчика. На звон кто-то из дома соскользнул ящерицей вниз по лестнице посмотреть, кто там. «Здесь сдают комнату?» Одним словом, Клейст с удобством разместился в трёх комнатах, которые ему уступили по удивительно низкой цене. «Хозяйством заправляет хорошенькая бернская девчушка». Три вещи маячат перед его мысленным взором: чудесное стихотворение, дитя, подвиг. Кстати сказать, он немного болен. «Чёрт знает, что со мной. Что ж это я? Здесь так мило».
Он пишет, разумеется. Время от времени он садится в экипаж и едет в Берн к литературным друзьям, которым читает написанное. Его, разумеется, сильно хвалят, но от самой его персоны всем чуть-чуть не по себе. Он пишет «Разбитый кувшин». Но что с того? Приходит весна. Луга вокруг Туна сплошь покрываются цветами, всё пахнет, жужжит, суетится, поёт и бездельничает, на солнце сумасшедше жарко. У Клейста словно поднимаются в голове раскалённые, оглушительные волны, когда он садится за рабочий стол и пытается писать. Он проклинает своё ремесло. Хотел было стать крестьянином, когда приехал в Швейцарию. Забавная идея, да. В Потсдаме легко надумать себе. Писатели вообще – такие выдумщики! Он часто сидит и смотрит в окно.
Скажем, часов десять утра. Как он одинок. Он хотел бы услышать голос, но чей? Ощутить прикосновение руки, ну а дальше? Прикосновение тела, только зачем? Озера не видно за белой дымкой и маревом, его окружают неестественные, колдовские горы. Как ослепительно и как неспокойно. Вся земля до самой воды – настоящий сад, словно кишащий и повисший в голубоватом воздухе цветочными мостами и террасами ароматов. На таком солнцепёке и в таком избытке света птицы поют приглушённо. Они счастливы, их клонит в сон. Клейст подпирает рукой голову, смотрит и смотрит и хочет забыться. Перед ним всплывает образ далёкой северной родины, он отчётливо видит лицо матери, слышит старые голоса – проклятье! – вскакивает на ноги и бежит в сад у дома. Там он садится в лодку, хватает вёсла и выгребает на середину залитого утренними лучами озера. Поцелуй солнца, единственный и непрерывно повторяющийся. Ни дуновения. Ни движения. Горы выглядят творением рук умелого театрального художника, или так: здешняя местность – это альбом, а горы нарисовал искушённый дилетант на свободном листе, приписав стишок на память хозяйке альбома. У альбома светло-зелёная обёртка. Всё сходится. Подножие гор у берегов озера слегка зеленеет, а горы высокие, глупые, воздушные. Тра-ля-ля. Он скидывает одежду и бросается в воду. Как несказанно хорошо. Он плывёт, а с берега до него доносится женский смех. Лодка плавно покачивается в зеленовато-синей воде. Природа словно превратилась в одно ласковое прикосновение. Как радостно, и вместе с тем, как больно.
Иногда, особенно красивыми вечерами, ему кажется, что здесь – край света. Альпы представляются ему непокоримым подъёмом в горний рай. Он ходит взад-вперёд по своему островку. Девчушка вешает бельё в кустах, сквозь которые проблескивает мелодичный, жёлтый, болезненно прекрасный свет. Лица снежных вершин бледны, всюду царит последняя, неприступная красота. Лебеди, проплывающие за камышами, словно зачарованы красотой и закатным солнцем. Воздух болен. Клейст хочет на войну, в жестокую битву, иначе он кажется себе убогим и лишним.
Он идёт на прогулку. Почему, спрашивает он себя, улыбаясь, именно ему нечего делать, нечего катить и толкать? Он чувствует, как нарывают в теле неизрасходованные соки и силы. Его душа требует телесной нагрузки. Он идёт по направлению к замку на холме между высокими, старыми стенами, к серым провалам, в которых страстно пресмыкается тёмно-зелёный плющ. В расположенных высоко над землёй окнах замка отражается вечерний свет. У обрыва скалы стоит изящная беседка; там он садится и роняет душу в блестяще-божественно-тихий вид под ногами. Он удивился бы, если бы смог почувствовать себя комфортно. Почитать газету? А что? Или завести глупый политический разговор о всеобщем благе с каким-нибудь уважаемым, должностным болваном? А? Его не назовёшь несчастным, потому что про себя он почитает за счастье быть безутешным, если такая безутешность дана от природы и только придаёт человеку сил. Но его собственный случай самую малость хуже. Он не может быть несчастен, потому что слишком восприимчив и все его нерешительные, осторожные, подозрительные чувства слишком сосредоточены на текущем моменте. Ему хочется плакать, кричать. Боже на небеси, что со мной? И он кидается вниз по темнеющему склону. Ночь приносит облегчение. Вернувшись домой, он садится за стол с намерением работать до неистовства. Свет лампы затмевает пейзаж за окном, в голове у него проясняется, и он начинает писать.
В пасмурные дни ужасно холодно и пусто. Его знобит. В поисках солнечного света зелёные кусты скулят, ноют и роняют дождевые капли. Грязные чудовищные облака ползут по темени горных вершин, как огромные, бесстыжие, убийственные руки. Кажется, что долина хочет уползти от погоды, свернуться клубком. Озеро сурово и хмуро, волны шепчут проклятия. Мрачным предостережением завывает штормовой ветер и не может вырваться на свободу. Его швыряет от одной горной стены к другой. Темно и тесно, тесно. Не дальше собственного носа. Хочется хватать глыбы и крушить всё вокруг. Бежать отсюда, бежать!
И снова – солнце и воскресение. Звонят колокола. Люди выходят из дверей церкви на горном склоне. Девушки и женщины тесно зашнурованы в чёрные, украшенные серебром платья, мужчины одеты просто и серьёзно. В руках они держат молитвенники, их лица спокойны и прекрасны, как будто все заботы развеялись, разгладились морщины скорби и раздражения, забылись хлопоты. И колокола. Какой звон, какое эхо, какие волны звука! Как звенит, блестит, сверкает лазурью залитый праздничным светом городок! Люди рассеиваются. Клейст стоит, охваченный странными ощущениями, на церковной лестнице и следит за движениями сходящих вниз по ступеням крестьян. Вот дитя вышагивает, словно привыкшая к величию и свободе принцесса. Вот красивые, молодые и полные сил деревенские парни, не из низинных сёл, а с высокогорья: малые не промах, вышедшие из глубоких, причудливо врезанных в гору ущелий, иногда узких, как рука слишком высокого, несколько необычно сложенного человека. Это люди с гор, где поля и пашни ниспадают в расселины, где ароматная, высокая трава растёт на клочках земли у края зловещей бездны, где домишки лепятся к пастбищам и выглядят ничтожными точками, если взглянуть на них снизу, с просёлочной дороги, из интереса, строят ли люди жилища на таких высотах.
Клейст любит воскресные и базарные дни, когда на улицах, особенно на Хауптгассе, кишат и суетятся синие блузы и крестьянские платья. Там, на Хауптгассе, хранятся товары в лёгких бараках и каменных погребах под тротуаром. С особой крестьянской вычурностью лавочники зазывают покупать их дешёвые роскошества. В базарные дни обычно светит яркое, жаркое, глупое солнце. Клейст покачивается на волнах милой разношерстой публики. Повсюду – запах сыра. В лавки получше степенно заходят серьёзные, подчас красивые крестьянки и делают покупки. Многие из мужчин курят трубку. Мимо гонят свиней, телят и коров. Кто-то стоит, смеётся и понукает своего розового поросёнка ударами палки. Поросёнок упирается, тогда он берёт его на руки и несёт дальше. Людской дух рвётся из одежд, людской гомон рвётся из заведений, где пьют, закусывают и пляшут. Какая свобода, эти звуки! Иногда телега не может прорваться сквозь толпу. Лошадей теснят торговцы и праздношатающиеся. А солнце слепит, сияя на разных предметах, лицах, платках, корзинах и товарах. Всё в движении, и потому солнечные блики тоже прыгают. Клейсту хочется молиться. Никакая музыка и ничья душа не сравнится величием с музыкой и душой этой человеческой суеты. Ему хочется сесть на ступенях одной из лестниц, ведущих вниз, на Хауптгассе. Он идёт дальше, мимо баб с подоткнутыми подолами, мимо девушек, уверенно и почти грациозно несущих корзины на головах, как итальянки носят кувшины – он видел таких на картине, мимо горланящих песню мужчин, мимо пьяных, полицейских, школьников, лелеющих про себя мальчишеские проказы, мимо пятен тени, из которых веет прохладой, мимо тросов, палок, снеди, поддельных драгоценностей, мимо рыл, носов, шляп, коней, вуалеток, одеял, шерстяных носков, колбас, комов масла и кусков сыра, он выходит из толпы, добирается до моста через Ааре, опирается на перила и стоит, глядя, как течёт чудесная тёмно-синяя вода. Над ним блестят и сверкают башни замка, словно размыто-бурый огонь. Почти как в Италии.
Иногда, по будням, городок кажется ему околдованным солнцем и тишиной. Он останавливается перед диковинной старой ратушей с остроконечными цифрами даты постройки на беловатой стене. Всё – потеряно, как лады старой песни, канувшей в забвение. Мало жизни, нет, совсем это не жизнь. Он поднимается по обитой деревом лестнице к бывшему графскому замку, дерево пахнет старостью и минувшими судьбами людей. Наверху он садится на широкую, гнутую зелёную скамейку, перед ним открывается вид, но он закрывает глаза. Ужасно, до чего всё словно охвачено сном, покрыто пылью и лишено жизни. Даже то, до чего можно дотянуться рукой, лежит в далёкой, белой, окутанной пеленой, погружённой в грёзы дали. Как будто всё накрылось жарким облаком. Лето, но что это за лето? Я не живу, кричит он и не знает, куда деть глаза, руки, ноги, как сделать вдох. Сон. Ничего вокруг. Не хочу снов. Наконец, он говорит себе, что живёт слишком одиноко. Его пробирает дрожь от ощущения, что он словно бы отвернулся от человеческого общества.
Потом наступают летние вечера. Клейст сидит на высокой кладбищенской стене. Вокруг влажно и, в то же время, душно. Он открывает ворот, чтобы освободить грудь. Внизу, словно брошенное в глубину властной рукой господа, лежит озеро в желтоватых и красноватых отблесках, но свет как будто идёт из водных глубин. Как если бы озеро полыхало огнём. Альпы оживают и сказочно двигаются, окунают вершины в воду. Его лебеди огибают тихий остров, а кроны деревьев парят в тёмной, поющей и благоухающей радости. Чему они радуются? Да ничему, ничему. Клейст впитывает этот ландшафт. Озеро с тёмным блеском кажется ему длинным ожерельем на большом, незнакомом, погружённом в сон женском теле. Липы, ели, цветы точат аромат. Он улавливает тихий, едва слышный перезвон, но не видит, откуда он доносится. Это что-то новое. Он жаждет необъяснимого, непостижимого. Внизу, в озере, покачивается лодка. Клейст не видит самой лодки, но видит покачивающиеся на ней огни. Он сидит, наклонившись вперёд, как будто должен приготовиться к убийственному прыжку вниз, в картину великолепной глубины. Он хочет умереть и смешаться с этой картиной. Он хочет превратиться в зрение, стать целиком только глазом. Нет, нет, не так. Воздух должен стать мостом, а весь ландшафт – перилами, на которые можно облокотиться, чувственно, радостно, устало. Наступает ночь, но ему не хочется уходить, он бросается на укрытую кустами могилу, вокруг него носятся летучие мыши, узкие деревья шепчут в дуновении ветра. Приятно пахнет трава, под который лежат скелеты похороненных здесь людей. Он так душераздирающе счастлив, слишком счастлив, до удушья, до боли, до иссушения. До одиночества. Почему бы мертвецам не встать и не составить одинокому человеку компанию на каких – нибудь полчаса? Летней ночью нужно быть рядом с возлюбленной. Мысль о губах, о груди, светящейся белизной, гонит Клейста вниз с горы, к берегу, в воду, прямо в одежде, со смехом, со слезами.
Проходят недели. Клейст уничтожает одну, две, три работы. Он добивается вершины мастерства, да, правильно. Что такое? Засомневался? Долой в корзину. Нужно новое, лучше, безогляднее! Он начинает описание битвы при Земпахе с фигурой Леопольда Третьего в центре событий, потому что его прельщает удивительная судьба этого австрийца. Между тем, он вспоминает о Роберте Гискаре [24]24
В 1802 Клейст пишет драму «Леопольд Австрийский», которую позднее уничтожает. Приблизительно в это же время он работает и над драмой «Роберт Гискар, герцог нормандский», также впоследствии уничтоженной. Тем не менее, сохранились фрагменты обоих текстов.
[Закрыть]. Он хочет описать его во всём великолепии. Он видит, как счастье быть человеком, который всё тщательно взвешивает и не усложняет своих чувств, разбивается вдребезги и низвергается грохочущими и сокрушительными обломками под откос изломанной жизни. Он не сопротивляется, наоборот, ведь судьба решена. Он хочет целиком отдаться на волю злой звезды писательства: чем раньше помру, тем лучше!
Творчество строит ему гримасы неодобрения. К осени его настигает болезнь. Он удивляется кротости, заполняющей теперь его душу. Сестра приезжает в Тун, чтобы забрать его домой. Глубокие впадины образовались у него на щеках. Черты и цвет лица выдают душевный распад. В глазах меньше жизни, чем в надбровных дугах над ними. Волосы спадают колтунами на лоб, источенный мыслями, которые тянут его за собой в грязные дыры преисподней, так он воображает. Стихи, звучащие в голове, кажутся ему вороньим карканьем, он хочет вырвать из себя память. Он хочет выплеснуть жизнь, но сперва – разбить её сосуд. Его скорбь сродни боли, насмешка – жалобам. Что с тобой, Генрих? – ласково касается его сестра. Ничего, ничего. Ещё не хватало, чтобы объяснять, что с ним. На полу комнаты раскиданы рукописи, как бесчеловечно покинутые отцом и матерью дети. Он протягивает сестре руку и довольствуется долгим взглядом в полном молчании. Он скорее уже не смотрит, а таращится на неё, так что бедную девушку бросает в дрожь.
Потом они уезжают. Девчушка, которая готовила и убирала комнату Клейсту, прощается с ними. Светлое осеннее утро, экипаж катится по мосту, мимо людей, по крупным булыжникам в переулках, люди выглядывают из окон, вверху на фоне неба и внизу под деревьями желтеет листва, чистота и осень, что дальше? У кучера во рту трубка. Всё как всегда. Клейст сидит, втиснувшись в угол. Башни тунского замка исчезают за холмом. Потом, уже издалёка, сестра Клейста ещё раз видит прекрасное озеро. Холодает. Они едут мимо домов. Надо же, такие элегантные поместья в этой горной местности? Дальше. Всё проносится и остаётся позади, всё танцует, кружится и исчезает из виду. Кое-где лежит осенняя дымка, кое-где – позолота осеннего света, прорвавшегося сквозь тучи. Золото, его блеск – а ещё то, что найти его можно, только перекопав кучу грязи. Вершины, скалы, долины, церкви, деревья, ротозеи, дети, деревья, ветер, облака, ну и что? Что особенного? Ведь это всё – бросовое и обыденное? Клейст ничего не видит. Ему грезятся облака, образы и милые, бережные, ласковые руки. Как ты, – спрашивает сестра. Клейст приподнимает уголок рта и пытается улыбнуться. Получается, но с трудом. Он чувствует себя так, как будто ему пришлось отодвинуть ото рта каменную глыбу, чтобы улыбнуться.
Сестра осмеливается осторожно завести разговор о том, чтобы Клейст по возможности в скором времени занялся каким-нибудь практическим делом. Он кивает, он и сам про это думал. Мелодичные, светлые миражи мелькают перед ним. На самом деле, он должен признаться, что в этот момент ему не так уж плохо – больно, но не плохо. Что-то ноет, да, это правда, но не в груди, и не в лёгких, не в голове, так где же? Неужели? Совсем нигде не болит? Ну, всё же болит где-то, чуть-чуть, так прямо не скажешь. В общем, не стоит и говорить. Он что-то говорит и на какие-то моменты становится почти по-детски счастлив, и тогда девушка, разумеется, сразу делает строгую, укоряющую мину, чтобы хоть чуть-чуть дать ему понять, как нелепо он всё-таки играет с собственной жизнью. Девушка, в конце концов, тоже из семейства Клейстов и получила воспитание, то самое, которое её брат намерился выбросить на помойную яму. Конечно, в душе она рада, что ему лучше. Дальше, дальше, ну и путешествие! Однако, в конце концов, придётся отпустить его на все четыре стороны, этот почтовый экипаж, и наконец, можно позволить себе заметить, что на фасаде дома, где жил Клейст, висит теперь мраморная доска, сообщающая, кто здесь жил и творил.
Путешественники, едущие в тур по Альпам, могут прочесть эту надпись, дети из Туна читают её по буквам, по цифрам и потом вопросительно заглядывают друг другу в глаза. Еврей может прочесть эту надпись, и христианин тоже, если у него найдётся время до, скажем, отправления поезда, турок, ласточка, если ей это интересно, и я, я тоже, может быть, при случае эту надпись ещё раз прочту. Тун расположен на подходе к Бернским Альпам, поэтому ежегодно здесь останавливаются тысячи туристов. Я немного знаком с этой местностью, потому что бывал здесь в качестве агента акционерной пивоварни. Места здесь значительно красивей, чем я смог описать, озеро куда синее, небо в три раза прекрасней, в Туне проходила ремесленная ярмарка, не помню, когда, кажется, четыре года назад.








