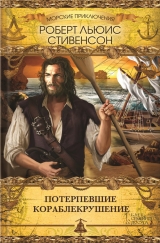
Текст книги "Потерпевшие кораблекрушение (сб.) ил. И.Пчелко"
Автор книги: Роберт Льюис Стивенсон
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
VII
Дела раскручиваются
Телесная пища глупца и мудреца, слона и воробышка не так уж различна – одни и те же химические элементы, только облеченные в различную форму, поддерживают жизнь всех обитателей земли. Надо было видеть моего друга Пинкертона, когда он погружался в свои дела, хлопотал, суетился, волновался, воображая, что от его усердия зависят величайшие перевороты в деловом мире и что он – один из столпов борьбы за существование. Начитавшийся Майн Рида мальчуган, сжимая в руках игрушечное ружье, крадется по воображаемым лесам – точно так же Пинкертон, шествуя по Кирни-стрит в свою контору, чувствовал, что жизнь его полна невероятного интереса, а случайная встреча с миллионером преисполняла его счастьем на долгие часы. Его романтикой была реальность, он гордился своим занятием, он наслаждался деловой жизнью. Представьте себе, что кто-нибудь наткнулся у Коромандельского берега на затонувший галеон и, пока его шхуна лежит в дрейфе, при свете горящих обломков отмеряет под грохот прибоя золотые слитки ведрами. Пусть этот человек, несомненно, окажется владельцем неизмеримо большего богатства, ему не испытать и половины того романтического волнения, с которым Пинкертон подводил в пустой конторе свой еженедельный баланс. Каждый нажитый доллар был словно сокровище, извлеченное из таинственной морской пучины, каждая сделка – словно прыжок искателя жемчуга в волны, а когда Пинкертон разворачивал биржевые операции, он с восторгом чувствовал, что сотрясает самые основы современной жизни, что в самых дальних странах люди, словно по боевому кличу, принимаются за дело, и золото в сейфах миллионеров содрогается.
Я никогда не имел точного представления о деловых спекуляциях моего друга, знаю только, что у него их было много и притом самых разнообразных. Главными из них я считал склад Пинкертоновского тринадцатизвездочного коньяка, контору объявлений и рекламы да бюро рыболовных экскурсий, в котором за пять долларов с персоны каждый желающий по субботам мог отправиться за город в место, благоприятное для рыбной ловли, причем его снабжали всеми рыболовными снарядами, руководствами и указаниями и, как я слышал от некоторых опытных и искусных рыболовов, эти экскурсии доставляли участникам не только приятное развлечение, но даже некоторую прибыль. Кроме того, я знаю, что Пинкертон при случае приобретал потерпевшие крушение суда или суда, уже признанные негодными для плаваний, и затем, спустя какой-нибудь месяц, после сравнительно незначительных ремонтов отправлял их в дальние плавания.
Пинкертон гордился тем, что он страшно занят, и действительно, он сновал целый день из одного конца города в другой, из конторы в контору, из бюро в бюро. Он хвастался тем, что у него ни один доллар не лежит без пользы, что все они рассеяны по разным предприятиям: и тут он в доле, и там, и здесь участвовал, и там состоял действительным членом. Всюду он вкладывал деньги, отовсюду ожидал прибыли и все это с лихорадочным волнением и невероятной, даже непостижимой деловитостью. Он был самый честный человек в мире, в высшей степени добросовестный, но одному Богу известно, в каких только сомнительных делах и предприятиях он ни участвовал, совершенно не сознавая и не понимая, что дело, которым он так увлекается, в которое вкладывает душу, очень и очень походит на мошенничество. Он не только вкладывал все имевшиеся у него деньги в различные дела и предприятия, но и мои личные скромные заработки уходили туда же. Об одном из его предприятий мне удалось разведать. Это оказалась седьмая доля во фрахте судна, отправлявшегося в Мексику с контрабандным грузом оружия, а возвратиться ему надлежало с контрабандным грузом сигар. Дело это показалось мне нечистым, и я попытался раскрыть на это глаза своему другу. Мои слова и само это открытие крайне смутили и огорчили его. Ведь если Пинкертон и гордился чем-то в жизни, то своей честностью, если он и дорожил чем-нибудь, то моим мнением о нем и его предприятиях. Вот потому мой взгляд на его операции стал для него настоящим ударом.
Таковы оказались его основные и официальные предприятия, «а помимо них» (его собственное выражение), он занимался самой разнообразной и весьма таинственной деятельностью. Я уже упоминал, что ни один доллар, находившийся в его владении, не лежал без дела – он жонглировал ими, словно клоун апельсинами. Упоминал и о том, что мои собственные заработки, когда я начал получать свою долю в прибыли, он только показывал мне, а затем они исчезали, как исчезают деньги, которые дарят ребенку только для того, чтобы он опустил их в церковную кружку. После подведения еженедельного баланса Пинкертон являлся, сияя, хлопал меня по плечу и заявлял, что чистая прибыль достигла гигантской цифры, после чего выяснялось, что у него нет четверти доллара на стакан виски.
– Но что же ты сделал с полученной прибылью? – спрашивал я.
– Пустил в оборот. Все снова вложено в дело, – объявлял он с неописуемым восторгом.
Он признавал только «вклады в дело» и терпеть не мог «биржевой игры», как он выражался.
– Никаких акций, Лауден, – не уставал повторять он, – только солидные предприятия.
При этом самый азартный биржевик пришел бы в ужас от одного только описания некоторых капиталовложений Пинкертона. Если помните, я рассказывал о грузе контрабандных сигар. Теперь пришло время поведать, пусть и вкратце, о судьбе сего более чем сомнительного предприятия. Исход оказался весьма печален: кораблекрушение, конфискация шхуны и судебный процесс со страховой компанией…
«Идея оказалась весьма неудачной», – больше Пинкертон ничего не сказал, но я видел, что его финансы потерпели серьезный ущерб. Надо добавить, что об исходе сделки я узнал совершенно случайно, так как Пинкертон довольно скоро перестал посвящать меня в свои тайны. О причине такой перемены я расскажу ниже.
Контора, куда стекались (или, вернее, должны были стекаться) все эти доллары в немалом количестве, находилась в самом центре города и представляла собой обширное помещение с высокими потолками и множеством зеркальных окон. Стеклянная горка полированного красного дерева являла взгляду батарею примерно в двести бутылок с яркими этикетками. Они содержали «Пинкертоновские тринадцать звездочек», хотя, глядя на них издали, только эксперт отличил бы их от бутылок с соответствующим французским напитком. Я часто поддразнивал моего приятеля этим сходством и советовал ему выпустить второе издание его брошюры с исправленным заглавием: «Зачем пить французский коньяк, если мы предлагаем вам те же самые этикетки?» Дверцы горки то и дело открывались, и если в конторе появлялся человек, незнакомый с достоинствами пинкертоновского коньяка, ему перед уходом непременно преподносилась бутылка. Когда я пробовал протестовать против такой расточительности, Пинкертон восклицал:
– Мой милый Лауден, ты по-прежнему ничего не понимаешь в общении деловых людей! Себестоимость напитка практически равна нулю. Как бы я ни старался, дешевле рекламы мне не найти.
К горке был прислонен пестрый зонтик, хранившийся как реликвия. Дело в том, что, когда Пинкертон собирался пустить «Тринадцать звездочек» в продажу, наступил дождливый сезон. Он ждал первого ливня, не имея за душой почти ни гроша: едва пошел дождь, все улицы, как по сигналу, наполнились агентами, продававшими пинкертоновские рекламные зонтики, и все обитатели Сан-Франциско, от торопящегося к парому биржевого маклера и до старушки, ожидающей на углу конки, стали прятаться от дождя под зонтиками с интригующей надписью: «Вы промокли? Попробуйте “Тринадцать звездочек”».
– Успех был просто невероятный, – рассказывал Пинкертон, наслаждаясь приятным воспоминанием. – Ни одного другого зонтика на улице! Я стоял у этого самого окна, Лауден, не в силах наглядеться, и чувствовал себя Вандербильтом.
Именно этому ловкому использованию климата Пинкертон был обязан не только спросом на «Тринадцать звездочек», но и возникновением своего рекламного агентства.
Примерно посредине комнаты (я возвращаюсь к описанию конторы) стоял большой письменный стол, вокруг которого громоздились кипы афиш, объявлений и брошюрок «Зачем пить французский коньяк?» и «Руководство по рекламе». По одну его сторону между девятью и четырьмя часами сидели две машинистки, не знавшие ни минуты отдыха, а по другую высилась модель сельскохозяйственной машины. Все стены, если не считать места, занятого телефонами и двумя фотографиями, изображавшими выброшенный на рифы корабль «Джеймс Моди» и буксирный пароходик, переполненный любителями рыбной ловли, были увешаны картинами в роскошных рамах. Многие из этих картин были памятью о Латинском квартале, и, к чести Пинкертона, должен сказать, что совсем плохих среди них не было, а некоторые даже обладали замечательными художественными достоинствами. Они распродавались довольно медленно, но по хорошим ценам, а освободившееся место заполнялось произведениями местных талантов. Пинкертон незамедлительно поручил мне высказать свое суждение о работах последних. Некоторые из них были отвратительны, однако все могли найти своего покупателя. Я так и сказал и тут же почувствовал себя гнусным перебежчиком, выступающим с оружием в руках на стороне своих бывших врагов. С того самого мига я был обречен смотреть на картины не глазами художника, а глазами торговца: между мной и тем, что я любил всем сердцем, легла непроходимая пропасть.
– Ну, Лауден, – сказал Пинкертон на другой день после лекции, потирая руки, – теперь мы будем работать плечом к плечу. Вот о чем я всегда мечтал. Мне нужны были две головы и четыре руки – теперь я их обрел. Ты сам увидишь, что это ничем не отличается от искусства – тоже все сводится к умению видеть и к воображению, только нужно куда больше действовать. Погоди немного, и ты сам это почувствуешь.
К счастью, мы вновь были с ним на «ты» – привычный дружеский мир вернулся и в его, и в мою душу.
Но вот чего я никак не мог почувствовать – так это умения видеть, куда же нужно вкладывать деньги. Вероятно, чего-то во мне не хватало: во всяком случае, наша деятельность представлялась мне утомительной суетой, а место, где мы ею занимались, – истинным Дворцом Зевоты. Я спал в каморке позади конторы, а Пинкертон – прямо в ней на патентованном диван-кровати, который время от времени самопроизвольно складывался под ним. Кроме того, сну моего приятеля постоянно угрожал капризный будильник. Это дьявольское изобретение будило нас ни свет ни заря, затем мы отправлялись завтракать, а в девять уже принимались за то, что Пинкертон называл работой, а я мучением. Надо было вскрыть и прочесть бесчисленное множество писем, а также ответить на них. Я занимался этим за столом, который был водворен в контору накануне моего приезда, а Пинкертон, диктуя машинистке, метался взад и вперед по комнате, словно лев в клетке. Надо было просмотреть бесчисленное количество типографских корректур, помечая синим карандашом «курсив», «нонпарель», «раздвинуть интервалы», а иногда и что-нибудь более темпераментное, как, например, в тот раз, когда Пинкертон энергично нацарапал на полях рекламы «тонизирующего сиропа»: «Рассыпать набор. Вы что, никогда не печатали рекламы? Буду через полчаса».
Кроме того, мы каждый день заносили сведения в наши счетные книги. Таковы были наши основные и наименее неприятные занятия. Однако большая часть нашего времени уходила на разговоры с посетителями – весьма возможно, чудеснейшими парнями и первоклассными дельцами, но, к несчастью, ничуть для меня не интересными. Некоторые из них, судя по всему, страдали слабоумием, и с ними приходилось беседовать по часу, прежде чем они наконец решались на какой-нибудь пустяк и покидали контору – только для того, чтобы через десять минут вернуться и взять свое решение назад. Другие врывались к нам с таким видом, словно у них нет ни секунды лишнего времени, но, насколько я мог заметить, это делалось исключительно напоказ. Действующая модель сельскохозяйственной машины, например, для бездельников этого типа становилась своего рода липкой бумагой. Я не раз видел, как они самозабвенно крутили ее минут пять, притворяясь (хотя это никого не обманывало), что она интересует их с практической точки зрения. «Неплохая штука, а, Пинкертон? Много вы их сбываете? Гм! А нельзя ли использовать ее для рекламирования моего товара, как вам кажется?» (Этим товаром могло быть, например, туалетное мыло.) Третьи (пожалуй, самый неприятный тип клиента) уводили нас в соседние кабачки играть в кости на коктейли, а когда за коктейли было заплачено – на деньги. Любовь этой братии к игральным костям превосходила всякое понятие о здравом смысле: в одном клубе, где я как-то обедал в качестве «моего партнера, мистера Додда», стаканчик с костями появился на столе вместе с десертом и заменил послеобеденную беседу.
Из всех наших посетителей мне больше всего нравился Император Нортон. Упомянув его, я прихожу к выводу, что еще не воздал должное обитателям Сан-Франциско. В каком другом городе безобидный сумасшедший, воображающий себя императором обеих Америк, был бы окружен таким ласковым вниманием? Где еще уличные прохожие стали бы считаться с его иллюзиями? Где еще банкиры и торговцы пускали бы его в свои конторы, брали бы его чеки, соглашались бы выплачивать ему «небольшие налоги»? Где еще ему позволили бы присутствовать на торжественных актах в школах и колледжах и обращаться к присутствующим с речью? Где еще на всем божьем свете мог бы он, заказав и съев в ресторане самые изысканные блюда, спокойно уйти и ничего не заплатить? Говорили даже, что он был очень привередлив и, оставшись недоволен, грозил вовсе прекратить посещение такого ресторана. Я легко могу этому поверить, потому что у него было лицо завзятого гурмана. Пинкертона этот монарх сделал своим министром – я видел соответствующий указ и только подивился добродушию владельца типографии, который согласился даром напечатать все эти бланки. Если не ошибаюсь, мой друг возглавлял министерство не то иностранных дел, не то народного образования. Впрочем, значения это не имело, так как функции всех министров были одинаковы. Вскоре после моего приезда мне довелось увидеть, как Джим исполняет свои государственные обязанности. Его императорское величество изволили посетить нашу контору. Это был толстяк с довольно дряблой кожей и благообразным лицом, производивший чрезвычайно трогательное и нелепое впечатление из-за того, что на боку у него болталась длинная сабля, а в шляпе торчало павлинье перо.
– Я зашел напомнить вам, мистер Пинкертон, что вы несколько задержали взнос налогов, – сказал он со старомодной и величественной любезностью.
– Сколько с меня причитается, ваше величество? – спросил Джим и, когда сумма была названа (она никогда не превышала двух-трех долларов), выплатил ее до последнего цента, прибавив в качестве премии бутылку «Тринадцать звездочек».
– Я всегда рад оказать покровительство национальному производству, – заметил Нортон Первый. – Сан-Франциско предан своему императору, и, должен сказать, я предпочитаю его всем остальным городам в моих владениях.
– Знаешь, – сказал я Пинкертону, когда император удалился, – он мне нравится больше всех остальных наших посетителей.
– Это вообще большая честь, – заметил Джим. – По-моему, он обратил на меня внимание из-за шумихи по поводу зонтиков.
Но и другие, более великие люди дарили нас своим вниманием. Бывали дни, когда Джим принимал необычайно деловитый и решительный вид, говорил только отрывистыми фразами, как человек чрезвычайно занятый, и то и дело ронял фразы вроде: «Лонгхерст говорил мне об этом сегодня утром». Или: «Это мне известно от самого Лонгхерста». Неудивительно, думал я, что подобные финансовые титаны принимают Пинкертона как равного – его изобретательность и находчивость трудно было превзойти. В те первые дни, когда он еще обо всем со мной советовался, меряя шагами нашу рабочую комнату, строя планы, вычисляя, прикидывая воображаемые проценты, утраивая воображаемые капиталы, а его «умственная машина» (прибегая к старинному, но превосходному выражению) работала полным ходом, я никак не мог решить, что сильнее: уважение ли, которое он мне внушает, или желание смеяться, которое он во мне возбуждает. Но этим хорошим дням не суждено было продлиться долго.
– Да, неплохо придумано, – сказал я как-то. – Но, Пинкертон, неужели ты считаешь, что это честно?
– А ты считаешь, что это нечестно? – огорчился он. – И я дожил до того, чтобы услышать от тебя подобные слова!
Заметив, как он расстроился, я, не краснея, воспользовался фразой Майнера.
– По-твоему, честность – это что-то вроде игры в жмурки, – сказал я. – На самом же деле это вещь очень тонкая, тоньше любого искусства.
– Ах, вот ты о чем! – сказал он с огромным облегчением. – Это казуистика.
– Я убежден в одном: то, что ты предлагаешь – нечестно, – возразил я.
– Ну, не будем об этом больше говорить. Все уже решено, – ответил он.
Таким образом, мне удалось настоять на своем почти с первого слова.
К несчастью, такие споры стали возникать все чаще и чаще, и мы начали их бояться. Больше всего на свете Пинкертон гордился своей честностью, больше всего на свете он ценил мое доброе мнение, и когда оказывалось, что его коммерческие предприятия ставят под угрозу и то и другое, он испытывал невероятные мучения. Мое собственное положение было не менее тяжелым. Ведь я стольким был обязан Пинкертону, ведь я сам жил и благоденствовал на доходы с этих сомнительных операций, но, кроме того, кому приятна роль брюзги? Если бы я проявил большую требовательность и решительность, наши разногласия могли бы зайти чересчур далеко, но, честно говоря, я беспринципно предпочитал пользоваться благами, не слишком интересуясь, откуда они берутся, и старался избегать неприятных объяснений. Пинкертон ловко воспользовался моей слабостью, и мы оба почувствовали большое облегчение, когда он начал окружать свою деятельность покровом таинственности.
Наш последний спор, который имел самые неожиданные последствия, начался из-за спекуляций пришедшими в негодность и потому списанными на слом кораблями. Он купил какую-то дряхлую посудину и, потирая руки, сообщил мне, что она уже стоит в доке под другим названием и ремонтируется. Когда я в первый раз услышал об этой отрасли коммерции, я попросту ничего не понял, но теперь, после наших споров, я многому научился.
– Я не могу участвовать в этом, Пинкертон, – сурово сказал я.
Он подпрыгнул, словно в него попала пуля.
– Что это ты? – воскликнул он. – Какая муха тебя на этот раз укусила?.. По-моему, тебе не нравится любое выгодное дело.
– Агент Ллойда списал этот корабль как негодный, – сказал я.
– Но послушай же, я говорю тебе, что это великолепная сделка: корабль в превосходном состоянии, у него только ахтерштевень и кильсоны подгнили. Я же тебе говорю, что агенты Ллойда тоже норовят нагреть руки при каждом удобном случае, но только они англичане, и потому ты не хочешь мне верить. Будь это американское агентство, ты ругал бы его на чем свет стоит! Нет, просто у тебя англомания, и больше ничего! – добавил он с раздражением.
– Я не согласен получать прибыль, рискуя жизнью команды, – заявил я решительно.
– Господи! Да ведь любая спекуляция связана с риском! Разве отправлять в плавание даже только что построенный, новенький с иголочки корабль не значит рисковать жизнью команды? А работа на рудниках – это не риск? А вспомни, как я покупал элеватор… Что могло быть рискованнее? Он же мог оказаться совершенно непригодным, и я тогда потерял бы все… Вот что, Лауден! Я скажу тебе всю правду: ты слишком щепетильный человек и не годишься для этого мира!
– Ты сам себя осудил, – ответил я. – «Даже только что построенный, новенький с иголочки корабль», говоришь ты. Так давай же заниматься только честными сделками!
Удар попал в цель. Неукротимому Пинкертону нечего было возразить. А я воспользовался случаем и бросился в новую атаку. Он думает только о деньгах, заявил я. Он мечтает только о долларах. Куда девались его благородные передовые устремления? Куда девалась его жажда культуры? Или он забыл о своих обязательствах перед своей страной?
– Это правда, Лауден! – вскричал он и принялся бегать по комнате, ероша волосы. – Ты абсолютно прав. Я низок, я меркантилен. О, до чего я дошел! Лауден, так больше продолжаться не может. Ты снова показал себя моим верным другом. Дай мне твою руку, ты снова спас меня! Мне надо позаботиться и о духовной стороне. Я должен принять отчаянные меры – взяться за изучение какой-нибудь сухой и трудной науки… Но какой? Богословия? Алгебры? А что такое алгебра?
Что такое алгебра?
– Вещь достаточно сухая и тяжеловесная, – отвечал я, – а квадрат плюс а-бе плюс бе квадрат…
– Но все же и возбуждающая? – осведомился он.
Я ответил утвердительно и прибавил, что она считается полезной.
– Стало быть, эта вещь как раз для меня. Я буду изучать алгебру, – решил он.
И действительно, мой приятель принялся изучать алгебру под руководством весьма сухой и сдержанной, но при этом и довольно привлекательной молодой особы, мисс Мейми Мак-Брайд. Уговорился он с ней по два урока в неделю, но затем так увлекся этой наукой, что стал брать уже не по два, а по четыре, а там и по пять уроков в неделю. Я предостерегал его о коварстве женских чар, но, как всегда в подобных случаях, мои предостережения ни к чему не привели.
Между тем, я стал настаивать на том, что я лишняя спица в колесе, что дело, которое исполняю в бюро я, может исполнить всякий толковый работник, а потому заявил своему другу, чтобы он или подыскивал мне подходящее занятие, или же я сам примусь за это и подыщу себе то, что мне надо.
– О, Лауден, я нашел! Нашел, что тебе надо! – воскликнул Пинкертон, хватая меня за руку в порыве радостного восторга. – Мысль о работе, достойной твоих сил, пришла мне в конке. Оказалось, что карандаша у меня нет, я позаимствовал его у кондуктора и всю дорогу вычислял и прикидывал. Все уже обдумано. Для тебя это настоящая находка. Все твои таланты и дарования найдут себе применение. Вот предварительный набросок афиши. Прочти-ка его. «Солнце, озон и музыканты. Пинкертоновские гебдомадерные[10]10
Еженедельные (греч.).
[Закрыть] пикники (очень хорошее это словечко – «гебдомадерные», – хоть его и нелегко выговорить; я на него наткнулся в словаре, когда смотрел, как пишется «гексагональный». «Да ты просто царь всех слов! – сказал я. – Не пройдет и месяца, как я тебя использую и к тому же пущу шрифтом не мельче тебя самого». И вот оно, как видишь). Пять долларов с головы, дамам бесплатно. Чудо из чудес! (Как тебе это нравится?) Бесплатное угощение под зеленой листвой. Танцы на мягкой травке. Возвращение домой в сиянии заката. Почетный распорядитель – Лауден Додд, эсквайр, известный знаток искусства».
Эти последние слова до того поразили меня своей лживостью и неуместностью, что в тот момент я не думал решительно ни о чем другом, только лишь о том, чтобы их уничтожить, вычеркнуть из этого первого, как я понимал, весьма чернового проекта афиши. Вот так и случилось, что слова эти действительно были уничтожены в ту же секунду, но все остальное, удивительно звонкое и удивительно лживое, уцелело – и вот я стал распорядителем и главным управляющим пинкертоновских еженедельных пикников.
Каждое воскресенье с восьми часов утра я был уже в своей роли: во фраке, с цветочной розеткой в петлице, в цилиндре, в светлом жилете, с тросточкой на манер маршальского жезла, и красовался на трапе старого, сверх всякой меры украшенного флагами и фонариками парохода, предоставленного Пинкертоном для перевозки участников наших воскресных пикников. Я принимал посетителей на трапе и препровождал их к помещенной у входа кассе.
В половине девятого прибывала на пароход наша труппа музыкантов, которые, подходя к пристани, уже начинали играть какой-нибудь веселый заманчивый марш. За ними являлось несколько человек ряженых в медвежьих шапках, фартуках из буйволиной шкуры, с удивительно блестящими топорами. Эти увеселяющие публику ряженые все были добровольцами и не стоили нам ни копейки. Оркестр выстраивался на носу парохода и начинал играть веселую польку; ряженые становились на стражу у сходен и вокруг кассы, которую вскоре начинала осаждать праздная публика – семьи, состоявшие из отца, матери и полудюжины детей, влюбленные парочки и, наконец, одиночки. Всего набиралось от четырехсот до шестисот человек (большей частью немцев), веселившихся, как дети. Когда все они с удовольствием уже поднимались на пароход и даже двое-трое опоздавших успевали вскочить на палубу под одобрительные возгласы зевак, мы отдавали концы и выходили в бухту.
И затем наступал час славы, час трудов почетного распорядителя. Я медленно проходил среди публики, рассыпая любезности и улыбки, не скупясь на конфеты и сигары. Я шутил с девочками-подростками, лукаво подмигивая, говорил застенчивым влюбленным, что это пароход только для женатых, игриво спрашивал рассеянных молодых людей, не мечтают ли они о своих возлюбленных, угощал отца семейства сигарой, поражался красотой его младшего отпрыска и спрашивал у любящей мамаши, сколько лет этому милому ребенку, который (восторженно уверял я ее) скоро перерастет свою мамочку, или спрашивал ее совета – потому что ее лицо внушало мне большое доверие, – не знает ли она какого-нибудь особенно живописного местечка на берегу бухты, где мы могли бы устроить свой пикник (считалось, что мы этого заранее никогда не решаем). А через минуту я уже снова перебрасывался шутками с молодежью, возбуждая повсюду смех и слыша у себя за спиной похвалы вроде: «Ну до чего же мистер Додд остроумен!» Или: «Ах, как он любезен».
После часа таких развлечений я совершал второй обход палубы, держа в руках сумку с разноцветными флажками на булавках. На этих флажках было написано: «Старая добрая Германия», «Калифорния», «Истинная любовь», «Старики-чудаки», «Прекрасная Франция», «Зеленый Эрин», «Страна сластей», «Голубая сойка», «Красногрудый реполов» – по двадцать флажков с одним названием, так как за бесплатное угощение мы сажали наших гостей группами по двадцать человек. Раздача флажков требовала предельной тактичности (и, по правде говоря, была самой трудной частью моих обязанностей), но производилась с притворной беззаботностью, среди смеха и веселых споров. Затем флажки немедленно прикреплялись к шляпам и шляпкам, и вскоре совершенно незнакомые люди радостно приветствовали друг друга как своих будущих сотрапезников. И вскоре на палубе можно было услышать крики: «Все “Голубые сойки” – к левому борту!» или «Да что, на этом проклятом корабле нет больше других “Калифорнийцев”, кроме меня?»
В это время мы уже приближались к месту нашего пикника. Я поднимался на мостик, где на меня обращались взгляды всей публики.
– Капитан! – говорил я ясным, четким голосом, разносившимся по всему пароходу. – Большинство наших пассажиров высказалось за бухточку у мыса Одинокого дерева.
– Отлично, мистер Додд! – весело восклицал капитан. – Мне это все равно. Однако я плохо знаю бухточку, о которой вы говорите, поэтому оставайтесь на мостике и давайте мне указания.
Что я и проделывал с помощью моего бутафорского жезла. Я давал ему указания, к величайшему удовольствию всей публики, потому что я (к чему отрицать) пользовался большой популярностью. И вот представьте картину: мы замедляем ход и приближаемся к зеленой долине, орошаемой прозрачным ручьем и поросшей соснами и дикой вишней. Команда бросает якорь, спускает лодки, две из которых уже нагружены напитками и яствами для импровизированного буфета, в третью садится оркестр, сопровождаемый пышно разодетыми ряжеными, и плывет к берегу под чарующий мотив «Девушки Буффало, выходите погулять вечерком». Согласно сценарию нашего пикника, один из ряженых во время этой высадки спотыкается и роняет в воду свой топор, после чего веселье публики уже не знает предела. Правда, однажды топор взял да и поплыл (они были сделаны из папье-маше), после чего публика тоже смеялась, но уже над нами.
Минут через пятнадцать лодки снова подходят к борту, сотрапезники разбиваются по группам, и публика переправляется на берег, где оркестр и буфет уже ждут их в полной готовности. Затем перевозятся корзины с бесплатным угощением, они складываются на берегу, и вокруг них становятся на стражу дюжие болваны, вскинув топоры на плечо. Туда же отправляюсь я, держа в руках записную книжку, и останавливаюсь под знаменем с надписью: «Бесплатное угощение выдается здесь». Каждая корзина содержит полный набор для двадцати человек: холодную закуску, тарелки, стаканы, ножи, вилки, ложки и страстный, вышедший из-под пера Пинкертона призыв беречь стеклянную посуду и серебро (последний приклеен к крышке). Буфет уже бойко торгует пивом, вином и лимонадом, и компании «Голубых соек», «Красногрудых реполовов», «Вашингтонов» и т. д., отправляются в рощу, неся корзину на палке, а бутылки – под мышкой. До часу дня они пируют под зеленой листвой, наслаждаясь звуками оркестра. С часу до четырех они танцуют на мягкой травке, буфет торгует вовсю, а почетный распорядитель, который уже совсем измучился, стараясь оживить самую унылую из компаний, должен теперь неутомимо танцевать с наиболее некрасивыми дамами. В четыре раздается звук трубы, и в половине пятого все уже опять на борту, включая оркестр, буфетную стойку, пустые бутылки и прочее. Теперь почетный распорядитель может наконец отдохнуть в капитанской каюте за стаканом коньяка с содовой и сигарой, хотя ему еще предстоит руководить высадкой на набережной, а затем в сопровождении двух полицейских везти в контору Пинкертона дневную выручку.
Я описал обыкновенный пикник, но, кроме того, мы, угождая вкусам Сан-Франциско, устраивали специальные праздники. Пикник «Маскарад древних времен», о котором было объявлено написанными от руки афишами, начинавшимися: «Внимание! Внимание! Внимание!» – и на который явилось множество рыцарей, монахов и маркизов, был захвачен врасплох проливным дождем, и наше возвращение в город стало одним из мучительнейших воспоминаний моей жизни. С другой стороны, «Сбор шотландских кланов» увенчался необыкновенным успехом, и мало когда взору зрителей открывалось разом столько молочно-белых коленей. Почти все участники носили пледы клана Стюартов и орлиные перья, так что общество было весьма благородным. Я во всеуслышание заявил о моих шотландских предках, и меня единодушно приняли в один из кланов. Только одно облачко омрачило этот чудесный день: мы захватили слишком большой запас национального напитка, именуемого шотландским виски, и с четырех до половины пятого я трудился в поте лица, перевозя на борт бесчувственные тела шотландских вождей.








