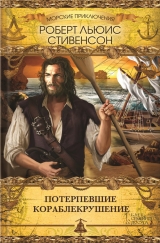
Текст книги "Потерпевшие кораблекрушение (сб.) ил. И.Пчелко"
Автор книги: Роберт Льюис Стивенсон
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
III
Знакомство с Джимом Пинкертоном
Молодой человек, с которым я столкнулся в дверях, был, должно быть, всего несколькими годами старше меня, хорошо сложенный, с оживленным, открытым лицом, приветливыми манерами и чрезвычайно быстрыми и блестящими серыми глазами.
– Позвольте мне сказать вам пару слов! – остановил я его.
– Положительно не могу себе представить, что это может быть, мой милейший сэр, – отозвался незнакомец, – но если вы имеете сказать мне что-нибудь, то, сделайте одолжение, говорите, и не только пару слов, но хоть целую сотню, я слушаю!
– Вы только что покинули молодую особу, по отношению к которой я, совершенно неумышленно, конечно, позволил себе некоторую смелость, и теперь желал бы извиниться перед нею. Но сделать это лично я не смею, зная, что это только сконфузит ее и будет до известной степени неделикатно с моей стороны. Поэтому я спешу воспользоваться удобным случаем прислать ей свои извинения через вас, в котором я, если не ошибаюсь, вижу ее друга или брата!
– Вы мой земляк! – воскликнул с неудержимым, радостным восхищением молодой человек. – Я вижу это по тому, с какой деликатностью вы относитесь к женщине. Но относительно меня вы ошиблись: я сам в одном знакомом доме только вчера был представлен этой милой особе и, случайно встретив ее сегодня, просто предложил проводить до галереи и донести мольберт. Но скажите мне, ради Бога, ваше имя. Я готов держать пари, что мы земляки!
– Зовут меня Лауден Додд, родом из Маскегона, занимаюсь скульптурой.
– Скульптурой! – воскликнул незнакомец. – О, как я рад! Скульптор и американец! А я – Джеймс Пинкертон, честь имею представиться!
– Пинкертон! – воскликнул я в свою очередь. – Так вы Пинкертон «Сломанный Стул»!
– Он самый! – смеясь, подтвердил молодой человек. – А, и вы слышали об этом!
Действительно, в то время это прозвище было известно каждому молодому человеку в Латинском квартале, и любой мальчишка с удовольствием носил бы столь честно заработанное прозвище.
Для того чтобы объяснить лестное значение этого прозвища, надо сказать два слова о тогдашних нравах в некоторых студиях, где новичков изводили самыми дикими и нелепыми, а зачастую и просто неприличными выходками. Два последовавших один за другим крупных инцидента внесли несколько здравый взгляд на этот образ действий и способствовали искоренению этого варварского и дикого обычая. Первый случай был такого рода: новичком являлся молодой армянин, щеголявший в феске и носивший (обстоятельство, никем не учтенное) у пояса кинжал. Поначалу он довольно терпеливо выносил различные издевательства, но когда остальные ученики позволили себе уже совершенно непростительную вольность, то, выведенный из терпения, он выхватил свой кинжал и с такой силой пырнул им в живот дерзкого шутника, что тот пролежал несколько месяцев в постели, прежде чем смог продолжить учение.
Героем же второго подобного случая был Джеймс Пинкертон. В многолюдной студии, в тот момент, когда над робким и смущенным новичком проделывались самые возмутительные издевательства, он вдруг поднялся со своего места и воскликнул: «Пусть каждый англосаксонец сейчас выступит вперед! Мы грубы, но не способны ни на что постыдное и непристойное!» При этом каждый англосаксонец схватился за свой стул – и началось настоящее побоище, в котором все говорящие по-английски ученики показали себя защитниками обиженного и оскорбленного и порядком проучили французов, обратившихся в постыдное бегство. Главным действующим лицом в этом деле и инициатором этого блестящего заступничества являлся Джеймс Пинкертон. Он одним взмахом разломал свой стул и самым обстоятельным образом «выставил» из мастерской своего весьма дюжего противника, который при этом мимоходом прошиб холст, натянутый на подрамник, да так и вылетел на улицу, оправленный в раму.
Понятно, что это происшествие возбудило много толков среди молодежи Латинского квартала – и Джеймс Пинкертон стяжал себе громкую славу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что я был чрезвычайно доволен встречей и знакомством с моим знаменитым соотечественником. Еще несколько раз за один только этот день я имел случай убедиться к сходстве его характера с характером Дон Кихота.
Идя вместе из Люксембургского сада, мы очутились близ студии одного молодого художника, француза, которому я обещал зайти посмотреть его работу. Согласно обычаям Латинского квартала, я затащил к нему и моего нового знакомца Пинкертона. Надо признаться, что большинство моих тогдашних товарищей были люди весьма непорядочные и некорректные, и я невольно дивился, откуда появлялись уважаемые, почтенные художники и куда девались распущенные шалопаи-ученики – то же самое можно было сказать и о студентах-медиках моего времени.
Подобная же тайна тяготеет над медицинской профессией и заставляет глубоко задуматься наблюдателя. Тот увалень, к которому я вел Пинкертона, был одним из самых грязных пачкунов во всем квартале. Для нашего услаждения он выставил чудовищную корку[4]4
«Crust», по-английски, или «la croûte», по-французски, значит корка – уничижительная кличка дурно намалеванной картины. (Примеч. авт.)
[Закрыть], как у нас принято выражаться, изображавшую св. Стефана, валяющегося на брюхе в чем-то красном, и толпу евреев около него, синих, зеленых, желтых, которые дубасили его, по-видимому, какими-то прутьями или пучками.
И пока мы смотрели на это произведение искусства, он услаждал наш слух повествованием одного из последних эпизодов своей жизни, которым, казалось, был сильно занят в это время его ум и в котором, как он думал, его почтенная особа играла весьма завидную роль. Я лично принадлежал в то время к числу людей, которые принимают жизнь такой, как она есть (и у себя на родине, и за границей), и любимая роль которых – роль зрителя, в большинстве случаев безучастного, но на этот раз и я слушал творца «Стефана» с нескрываемым отвращением. Вдруг кто-то сильно дернул меня за рукав.
– Неужели он говорит, что спустил ее с лестницы? – спросил Пинкертон, бледный как полотно.
– Да, и затем он стал бросать в нее камнями. Именно это, оказывается, и навело его на мысль о картине, изображающей избиение св. Стефана. Женщина эта, как он говорит, была настолько стара, что могла бы быть его матерью!
Нечто похожее на рыдание вырвалось из груди Пинкертона.
– Скажите ему, скажите этому негодяю… – захлебываясь, проговорил он, – я не могу объясняться по-французски, хотя и понимаю этот язык, скажите ему, что я размозжу ему голову!
– Бога ради, не делайте ничего подобного! – воскликнул я, – Ведь они, эти французы, не понимают таких вещей!
– Нет, сначала вы скажите ему, что мы о нем думаем, – возражал он. – Пусть он знает, каким он выглядит в глазах благомыслящего американца.
– Предоставьте это мне, – сказал я, выпроваживая Пинкертона за дверь.
– Qu’est-ce qu’il a?[5]5
Что с ним? (фр.)
[Закрыть] – спросил студент.
– Monsieur se sent mal au coeur d’avoir trop regardé votre croûte[6]6
Этот господин почувствовал резь в животе оттого, что слишком засмотрелся на вашу мазню (фр.).
[Закрыть], – ответил я и поспешил выбежать вслед за Пинкертоном.
– Что вы ему сказали? – осведомился тот.
– Единственное, что могло его задеть, – сообщил я.
После этой сцены, после той вольности, которую я позволил себе, вытолкнув моего спутника за дверь, после моего собственного не слишком достойного ухода мне оставалось только предложить ему пообедать со мной. Я забыл название ресторанчика, в который мы пошли, во всяком случае, он находился где-то за Люксембургским дворцом, а позади него был сад, и мы через несколько минут уже сидели там за столиком друг против друга и, как водится в юности, обменивались сообщениями о своей жизни и вкусах.
Родители Пинкертона приехали в Штаты из Англии, где, как я понял, он и родился, хотя у него была привычка об этом забывать. То ли он сам убежал из дому, то ли его выгнал отец, не знаю, но, во всяком случае, когда ему было двенадцать лет, он уже начал вести самостоятельную жизнь. Странствующий фотограф-ферротипист подобрал его, словно яблоко-паданец, на обочине дороги в Нью-Джерси. Маленький оборвыш понравился ему, он взял его себе в подручные, научил всему, что знал сам, то есть искусству снимать портреты на ферротипных пластинках и сомневаться в Священном писании, а затем умер где-то на дороге в Огайо.
– Он был замечательным человеком, – говорил Пинкертон. – Видели бы вы его, мистер Додд! Он был благообразен, как библейский патриарх!
После смерти своего покровителя мальчик унаследовал его фотографические принадлежности и продолжил дело.
– Моей жизни можно было позавидовать, клянусь! – восклицал Пинкертон. – Я побывал во всех прекраснейших местах этого прекраснейшего из всех материков, уроженцами которого мы с вами имеем честь называться. Я желал бы, чтобы вы видели мою коллекцию снимков. Я видел природу в ее самые отрадные и самые грозные моменты.
Странствуя с места на место, мальчуган, умевший читать, повсюду добывал книги, как хорошие, так и дурные, и читал без разбора то, что ему попадало под руку. При этом он запоминал решительно все до мельчайших подробностей, вникал по возможности во все – в любое ремесло, в любой промысел, – многое угадывал и схватывал просто на лету, обладая удивительной наблюдательностью, чуткостью и смышленостью. Таким путем у него составились какие-то представления и понятия о том, что, по его убеждению, составляло кодекс священных обязанностей всякого гражданина Америки: быть честным, быть патриотом и приобретать знания и состояние всеми силами.
Впоследствии, конечно, не в первые дни знакомства, я спрашивал у него не раз, зачем он это делает. У него на это был свой ответ: «Для того, чтобы создать тип! – восклицал он. – Все мы обязаны участвовать в этом; все мы должны стараться над созданием типа американца! Лаудон, на нас вся надежда мира. Если и мы провалимся, как феодальные монархи, так что же останется?»
Однако ремесло фотографа-ферротиписта показалось мальчугану слишком скучным делом. Его амбиция метила выше. Фотография не могла быть расширена – так объяснял он свои деловые соображения, – притом это дело недостаточно современное. И вот он совершает внезапную перемену и становится железнодорожным скальпировщиком. Я никогда не мог себе уяснить этот промысел в его основах, я знаю только, что сущность его, как кажется, состоит в том, чтобы надувать железные дороги на проездной плате, оттягивая часть этой платы.
– Я вложил в это дело всю мою душу. Я отказывался от еды и от сна, когда погружался в него. Опытные люди утверждали, что я обдумал и наладил это дело в течение месяца и практиковал его в течение года, – говорил он. – А преинтересная штука, как-никак. Ведь в самом деле забавно подхватить кого-нибудь, идущего мимо, приспособить ваш ум к его характеру и вкусам, отвлечь его от кассы и на лету всучить ему билет туда, куда ему надо. Едва ли какой-нибудь скальпировщик на континенте делал меньше промахов. Но для меня это было только временным делом. Я берег каждый доллар: я смотрел вперед. Я знал, чего я хочу – богатства, образования, уютного и комфортного дома, образованной женщины в жены, потому что, мистер Додд, – это он уже выкрикивал изо всех сил, – каждый человек должен жениться на женщине выше себя духовно; если жена не берет верх над мужем, то я называю такой брак чувственным. Такова моя мысль. Ради этого я и был бережлив. Ну и довольно об этом! Но далеко не каждый человек, о, далеко не каждый, может сделать то, что я сделал: закрыть деятельнейшее агентство в Сент-Джо, где можно было добывать доллары целыми котлами, уединиться и без единого друга, без знания единого французского слова поселиться здесь и расходовать свой капитал на изучение искусства!
И вот, накопив достаточно денег, этот юноша, не зная ни слова по-французски, не имея ни знакомых, ни друзей, отправился во Францию и поселился в Париже, где стал заниматься живописью.
– Что побудило вас заняться живописью, – спросил я, – давнишнее пристрастие или внезапная фантазия?
– Ни то ни другое, мистер Додд! – возразил он. – Я просто спросил себя, что всего более нужно моей стране в настоящее время, и решил: побольше культуры и искусства, поэтому я избрал наилучшее место, где можно было приобрести то и другое, и приехал сюда в надежде быть впоследствии полезным моей родине!
Искренний убежденный тон и горячая любовь к родине, сквозившая в каждом слове и движении этого молодого человека, невольно пристыдили меня – у него в мизинце было больше жару и огня, чем во всей моей особе. Он был напичкан по горло всеми добродетелями мужчины и гражданина, и хотя его артистическое призвание казалось мне сомнительным, все же трудно было предвидеть, чего только не могли совершить такая удивительная энергия, такое горячее убеждение и такой явный избыток сил. Поэтому-то, когда он предложил мне зайти к нему и взглянуть на его работу (нечто неизбежное при каждом новом знакомстве среди обитателей Латинского квартала), я с большой охотой согласился последовать за ним.
Ради экономии он снимал дешевую мансарду в многоэтажном доме вблизи обсерватории; мебелью ему служили его собственный сундук и чемоданы, а обоями – его собственные отвратительные этюды. Я не выношу говорить людям неприятности, но есть область, в которой я не умею льстить, не краснея: это – искусство и все, что с ним связано; тут моя прямота бывает поистине римской. Дважды я медленно проследовал вдоль стен, ища хоть какого-нибудь проблеска таланта, а Пинкертон шел за мной, исподтишка стараясь по моему лицу догадаться о приговоре, с волнением снимал очередной этюд, чтобы я мог лучше рассмотреть, и (после того, как я молча старался найти в картине хоть какие-нибудь достоинства – и не находил) жестом, полным отчаяния, отбрасывал его в сторону. Но вот окончился и вторичный обход, и оба мы были совершенно подавлены.
Он как будто понял это и сказал:
– Не говорите ничего, это совершенно лишнее…
– Если изволите мне быть совершенно откровенным, то я скажу вам: вы даром тратите время и труд!
– Вы не видите даже ничего обещающего что-нибудь в будущем? – робко спросил он, заглядывая мне в лицо своими тревожно-горящими глазами.
– Мне, право, очень жаль, Пинкертон, – продолжал я, – но я никак не могу посоветовать вам продолжать работать на этом поприще!
Сердце у меня сжималось от боли при мысли о том, какой тяжкий удар я наношу этими словами моему новому знакомцу. И что же?! Не прошло минуты, как он вновь совершенно ожил и отскочил, словно резиновый мяч, от овладевшего им на мгновение отчаяния.
– Что же, – сказал он, – я все же буду продолжать работать, буду вкладывать в это дело всю душу, и хотя из меня никогда не выйдет художника, но это все же даст мне возможность, вернувшись на родину, работать в каком-нибудь иллюстрированном издании или, в конце концов, стать торговцем. Все это даст мне понимание и опыт, – добавил он. – Во всяком случае, я видел, что вам немало стоило сказать мне то, что вы сказали, и я вам очень благодарен за это, мистер Додд. Я вам, конечно, не ровня по культурности и по таланту, но ценить людей и их услуги я умею!
– Вы не можете так говорить обо мне, – заметил я, – я видел вашу работу, а вы не видали моей!
– Мы можем теперь же пойти и посмотреть, но я и без того знаю, что вы стоите много выше меня, это чувствуется как-то сразу!
По правде сказать, мне было почти стыдно вводить его в свою студию, потому что моя работа, уж какая бы там она ни была, худая ли, хорошая ли, была неизмеримо лучше, чем его. Но теперь он совершенно оправился и даже удивил меня дорогой своими легкомысленными разговорами и новыми затеями. Я уже начинал понимать, что тут у нас, в сущности, произошло: не артист в нем был задет и обижен в своей страсти к искусству, а только деловой человек, с широкими замыслами и интересами, вдруг убедившийся, да еще притом с такой неожиданностью, что одно из двадцати помещений его капитала было неудачно.
Впрочем, хотя я никак этого не подозревал, он уже начал искать себе утешение в другом и ласкал себя мыслью об отплате мне за мою искренность, о скреплении нашей дружбы и – одно к одному – о подъеме моей оценки его талантов. Я тем временем говорил ему что-то о себе; он вынул записную книжку и кое-что в ней записал. Когда мы вошли в студию, я снова заметил книжку в его руках и увидел, как он поднес ко рту карандаш, после того как бросил выразительный взгляд вокруг на мою некомфортабельную обстановку.
– Неужели вы хотите набросать экскиз моей студии? – спросил я, осторожно снимая парусинный чехол с «Гения Маскегона».
– Извините, это моя тайна, не обращайте внимания, прошу вас! Иногда и маленькая мышь может оказать услугу льву!
С этими словами он стал обходить со всех сторон мою статую, причем я разъяснил ему самую идею и план.
– Скажите, – спросил меня Пинкертон, – вы сами довольны этой работой, мистер Додд?
– Видите ли, другие находят, что для начинающего скульптора, это недурная работа, и я лично думаю, что это не совсем плохо. Мне даже кажется, что в ней есть некоторые достоинства, но я, конечно, надеюсь и хочу создать нечто лучшее!
– А-а, вот оно, это слово! Вот оно! – воскликнул Пинкертон и принялся что-то царапать в своей записной книжке. – Теперь укажите мне на достоинства этой статуи, что в ней особенно хорошо.
– Я предпочел бы, чтобы вы сами определили это! – ответил я.
– Да, но дело в том, что я никогда до настоящего времени не уделял особого внимания статуям и мало понимаю в скульптуре, хотя и восхищаюсь ею, как всякий, в ком есть душа. Поэтому я и прошу вас, Додд, будьте добры, укажите мне, что в ней особенно хорошо и над чем вы особенно работали, чего желали достигнуть. Все это послужит к пополнению моего образования!
– Прекрасно! – согласился я и прочел целую лекцию об этом виде искусства, используя в качестве иллюстрации свой шедевр, – лекцию, которую я, с вашего разрешения (или без такового), опущу целиком и полностью.
Пинкертон слушал с глубочайшим интересом, задавал вопросы, изобличавшие в нем человека не слишком образованного, но наделенного большой практической сметкой, и продолжал царапать в своем блокноте, вырывая листок за листком. То, что мои слова записываются, словно лекция какого-нибудь профессора, вдохновляло меня, а поскольку я еще никогда не имел дела с прессой, то и не подозревал, что записываются они почти все наоборот. По той же самой причине (хотя американцу это может показаться невероятным) мне и в голову не приходило, что они будут сдобрены приправой легких сплетен, а меня самого и мои художественные произведения превратят в фарш, чтобы доставить удовольствие читателям какой-то воскресной газеты. Когда фонтан моего лекторского красноречия иссяк, «Гений Маскегона» был уже окутан ночным мраком.
Уже совершенно стемнело, когда мы вышли из студии и, расставаясь с моим новым приятелем, я условился о встрече с ним на следующий день.
Я был сильно заинтересован и увлечен моим соотечественником с первого момента нашей встречи. Я и впоследствии продолжал интересоваться им и полюбил его сердечно, но должен сознаться, что он был для меня весьма тревожным и неудобным другом. В сущности, он почти не имел серьезных недостатков, а те его недостатки, которые являлись следствием воспитания, он считал чуть ли не добродетелями и воспитывал их в себе с величайшим старанием.
Вскоре между нами начались столкновения. Недели две спустя после знакомства я наконец узнал секрет записной книжки Пинкертона. Оказалось, что мой новый приятель сотрудничал в качестве корреспондента в одной из газет Западных Штатов и посвятил моей жалкой особе целых полтора столбца в этой газете. Я заявил ему, что он не имел права делать это без моего разрешения, что он обязан был предупредить меня о своих намерениях.
– Я знаю, что это вообще так принято, – отвечал он, – но думал, что между друзьями и соотечественниками, особенно когда имеешь в виду оказать услугу, можно обойтись и без этого. Я желал сделать вам сюрприз!
– Но кто вам сказал, что это будет мне приятно?
– Так вы считаете, что я позволил себе непростительную вольность по отношению к вам?! – воскликнул Пинкертон с непритворным отчаянием. – Если бы я это знал, то скорее дал бы отрубить себе руку! А я писал это с такою гордостью, с такою радостью!
Теперь я желал только утешить его, так мне жаль было Пинкертона – так искренно было его отчаяние.

– О, это все пустяки, – сказал я. – Я знаю, что вы хотели сделать мне приятное, и, уж наверное, статья написана с большим вкусом и тактом.
– Безусловно, в этом вы можете не сомневаться! – вскричал он. – И какая газета! Первокласснейшая… «Санди Геральд» города Сент-Джозеф. А эту серию корреспонденции придумал я сам: явился к редактору, изложил ему мою мысль. Он был покорен ее свежестью, и я вышел из его кабинета с договором в кармане. Свою первую парижскую корреспонденцию я написал в тот же вечер, не покидая Сент-Джо. Редактор только глянул на заголовок и сказал: «Вас-то нам и нужно!»
Это описание литературного жанра, в котором мне предстояло фигурировать, отнюдь меня не успокоило, но я промолчал и терпеливо ждал, пока однажды мне не была доставлена газета, помеченная: «С приветом от Д. П.» Я не без страха развернул ее и между отчетом о боксерском состязании и юмористической статьей о выведении мозолей – ну что можно найти смешного в выведении мозолей! – обнаружил полтора столбца, посвященных мне и моей несчастной скульптуре. Я, как и редактор, взявший в руки первую корреспонденцию, только скользнул взглядом по заголовку и был более чем удовлетворен.
«Новая интересная беседа мистера Пинкертона. Служители искусства в Париже. Маскегонский Капитолий. Сын миллионера Додд, патриот и художник»
В тексте под заголовком мне бросились в глаза убийственные фразы вроде: «несколько мясистая фигура», «ясная интеллектуальная улыбка», «гений, не сознающий собственной гениальности». «Скажите, мистер Додд, – продолжал репортер, – что вы думаете о сугубо американском скульптурном стиле?» Да, этот вопрос был мне задан, и – увы! – я действительно на него ответил, и дальше следовал мой ответ, или, вернее, какое-то крошево из моего ответа, напечатанное равнодушным шрифтом для всеобщего обозрения. Я горячо поблагодарил Бога, что студенты-французы не знают английского языка, но тут же вспомнил об англичанах: например, о Майнере, о братьях Стеннис….
В этот момент я готов был наброситься на Пинкертона и избить его, но, чтобы удержаться от подобного поступка, скорее ухватился за письмо отца, надеясь найти в нем что-нибудь, что поможет мне отвлечь мои мысли от этой ужасной корреспонденции – и что же? В конверте находилась вырезка из газеты, на которой мне снова бросились в глаза те же слова, написанные таким же жирным шрифтом: «Сын миллионера Додд, патриот и художник».
«Что думает об этом отец? Что сказал он на это?» – мелькнуло у меня в голове, и я поспешно принялся читать его письмо.
«Дорогой мой мальчик, – писал отец, – посылаю тебе вырезку, которая несказанно порадовала меня, тем более что эта статья появилась в такой распространенной и уважаемой газете, пользующейся весьма хорошей репутацией. Наконец-то я вижу, что ты выдвинулся вперед, что ты делаешь крупные успехи, и я с наслаждением и гордостью думаю о том, как мало молодых людей в твоем возрасте могут похвалиться тем, что им посвящены целых два столбца крупной газеты. Как бы я желал, чтобы покойная мать твоя могла прочесть эту статью с тем же чувством счастливой гордости, с каким читал ее я! Конечно, я отправил этот номер газеты твоему деду и дяде Эдаму в Эдинбург. По-видимому, этот мистер Джеймс Пинкертон – весьма хорошее и полезное для тебя знакомство. Он, несомненно, человек с большим литературным талантом, и, вообще говоря, каждому деятелю, будь он художник, актер, литератор или что иное, полезно водить дружбу с представителями печати. Пресса – великое дело в наше время!»
Не успел я дочитать этих трогательно смешных и наивных строк, как уже готов был обнять и расцеловать Пинкертона за его глупую статью. За всю свою жизнь я ни разу не доставлял отцу такой радости и такого полного удовлетворения, какое доставила ему эта статья; поэтому при встрече с Пинкертоном я порадовал его, сообщив, что мой отец чрезвычайно доволен этой корреспонденцией и считает ее очень умно написанной, но что я лично – враг преждевременной популярности и потому желал бы, чтобы он в другой раз не говорил более о моей особе и не цитировал моих слов.
– Ну что вы, мой милый, – сказал я, – ничего подобного! Только в следующий раз, когда вы захотите оказать мне услугу, пишите о моем творчестве, а мою персону оставьте в стороне и не записывайте моих бессмысленных высказываний. А главное, – добавил я, задрожав, – не сообщайте, как я все это говорил! Вот, например: «С гордой радостной улыбкой». Кому интересно, улыбался я или нет?
– Вот тут вы ошибаетесь, Лауден, – перебил он меня. – Именно это и нравится читателям, в этом-то и заключается достоинство статьи, ее литературная ценность. Таким образом я воссоздаю перед ними всю сцену, даю возможность самому скромному из наших сограждан получить от нашего разговора такое же удовольствие, какое получил я сам. Подумайте, что значило бы для меня, когда я был бродячим фотографом, прочесть полтора столбца подлинного культурного разговора, узнать, как художник в своей заграничной мастерской рассуждает об искусстве, узнать, как он при этом выглядит и как выглядит его мастерская, и что у него было на завтрак; а потом, поедая консервированные бобы на берегу ручья, сказать себе: «Если все пойдет хорошо, рано или поздно того же самого сумею добиться и я». Да я словно в рай заглянул, Лауден!
– Ну, если это может доставить столько радости, – признал я, – пострадавшим не следует жаловаться. Только пусть теперь читателей радует кто-нибудь другой!
В результате это маленькое столкновение только еще более скрепило нашу дружбу. Право, мне кажется, что целый ряд оказанных благодеяний или опасностей, перенесенных вместе, не могли бы в столь короткое время так сблизить нас, как эта готовившаяся ссора, уладившая резкую разницу наших вкусов, понятий и воспитания и примирившая нас друг с другом.








