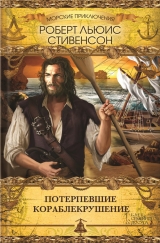
Текст книги "Потерпевшие кораблекрушение (сб.) ил. И.Пчелко"
Автор книги: Роберт Льюис Стивенсон
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
VI
Еду на Дальний Запад
На следующее утро, успев к завтраку, я был уже у дяди и снова сидел среди его семьи за столом, как и три года тому назад, когда только что прибыл из Америки. Все было то же, что и тогда, только теперь ко мне относились, как мне показалось, с бóльшим уважением. С подобающей грустью была упомянута кончина моего отца, а потом вся семья поспешила заговорить на более веселую тему (о господи!) – о моих успехах. Им было так приятно услышать обо мне столько хорошего; я стал настоящей знаменитостью; а где сейчас находится эта прекрасная статуя Гения… ну, Гения какого-то места? «Вы ее правда не захватили с собой? Неужели?» – потряхивая кудрями, спросила самая кокетливая из моих кузин, словно предполагая, что я привез свое творение с собой и просто прячу его в кармане, как подарок ко дню рождения. Это семейство, не искушенное в тропических ураганах газетной чепухи Дальнего Запада, свято поверило «Санди Геральд» и болтовне бедняги Пинкертона. Трудно придумать другое обстоятельство, которое могло бы подействовать на меня столь же угнетающе, и до конца завтрака я вел себя как наказанный школьник.
Когда завтрак и семейные молитвы подошли к концу, я попросил разрешения побеседовать с дядей Эдамом «о состоянии моих дел». При этой зловещей фразе лицо моего почтенного родственника заметно вытянулось, а когда дедушка наконец расслышал, о чем я прошу (старик был глуховат), и выразил желание присутствовать при нашем разговоре, огорчение дяди Эдама совершенно явно сменилось раздражением. Однако все это внешне почти не проявилось, и, когда он с обычной угрюмой сердечностью выразил свое согласие, мы втроем перешли в библиотеку – весьма мрачное обрамление для предстоящего неприятного разговора. Дедушка набил табаком свою глиняную трубку и устроился курить рядом с холодным камином. Окна позади него были полуоткрыты, а шторы полуопущены, хотя утро было холодным и сумрачным – не могу описать, насколько не соответствовал он всей этой обстановке. Дядя Эдам занял свое место за письменным столом посредине. Ряды дорогих книг зловеще смотрели на меня, и я слышал, как в саду чирикают воробьи, а кокетливая кузина уже барабанит на рояле и оглашает дом заунывной песней в гостиной над моей головой.
В возможно кратких словах я изложил свои денежные обстоятельства, не вдаваясь в особые подробности, и закончил тем, что просил дядю вывести меня из затруднительного положения, дав мне возможность уплатить мой долг Пинкертону и воспользоваться предложенными мне занятиями в Соединенных Штатах, куда меня приглашает мой приятель.
– Было бы несравненно лучше, если бы ты с самого начала обратился ко мне, а не к своему приятелю, – сказал дядя. – Я, конечно, никогда не отвернулся бы от своего ближайшего родственника, сына моей покойной сестры. Но и в данный момент ты явился как нельзя более кстати, у меня как раз освободилось место бухгалтера в конторе, которое я и оставлю за тобой. Ты можешь считать себя счастливым, что все это так устроилось!
– Позвольте, дядя, я отнюдь не прошу вас устраивать мою дальнейшую жизнь или определять меня на место, – заметил я, – я вас прошу дать мне возможность уплатить мой долг Пинкертону и просуществовать первое время по прибытии моем в Соединенные Штаты, вот и все!
– Если бы я позволил себе быть грубым по отношению к тебе, то сказал бы, что нищие не могут быть разборчивы и должны принимать, что им дают, а что касается дальнейшего устройства твоей жизни… Ты уже пробовал устраивать ее сам и видишь, что из этого вышло. Поэтому ты теперь должен следовать совету тех, кто умнее тебя. Всю эту ахинею о твоем приятеле, о котором я не имею никакого представления, и о тех занятиях, которые тебе предлагают в Америке, я и знать ничего не хочу. Здесь же, заняв то место, которое я готов предоставить тебе, ты будешь получать восемнадцать шиллингов в неделю!
– Восемнадцать шиллингов в неделю! – воскликнул я. – Ну, это не такой уж и заработок!
– Эда-ам! – сказал мой дедушка.
– Мне крайне неприятно, что вам пришлось присутствовать при этом разговоре, – произнес дядя Эдам, с угодливым видом поворачиваясь к каменщику, – но ведь вы сами так захотели.
– Эда-ам! – повторил старик.
– Я слушаю вас, сударь, – сказал дядя.
Дедушка несколько секунд просидел молча, попыхивая трубкой, а затем сказал:
– Смотреть на тебя противно, Эдам!
Было заметно, что дядя обиделся.
– Мне очень грустно, если вы так думаете, – заметил он, – и тем более грустно, что вы сочли возможным сказать это в присутствии третьего лица.
– Оно, конечно, так, Эдам, – сухо отрезал старик, – да только мне на это почему-то наплевать. Вот что, малый, – продолжал он, обращаясь ко мне, – я твой дед, так ведь? А Эдама ты не слушай. Я присмотрю, чтобы тебя не обидели. Я ведь богат.
– Папа, – сказал дядя Эдам, – мне хотелось бы поговорить с вами наедине.
Я встал и направился к дверям.
– Сиди, где сидел! – крикнул мой дед, приходя в ярость. – Если Эдаму хочется поговорить, пусть говорит. А все деньги здесь мои, и я заставлю, чтобы меня слушались!
После такого предисловия у дяди Эдама явно пропала охота говорить: ему дважды предлагалось «выложить, что у него на душе», но он угрюмо отмалчивался, причем должен сказать, что в эту минуту мне было его искренне жаль.
– Ты, братец мой, играешь сейчас весьма жалкую роль, мне просто стыдно за тебя! – проговорил старик, обращаясь к сыну.
Потом обернулся ко мне и несколько минут молча сверлил меня взглядом.
– Вот что, сынок моей Дженни, – сказал он наконец. – Я собираюсь поставить тебя на ноги. Твою мать я всегда любил больше, потому что с Эдамом каши не сваришь. Да и ты сам мне нравишься, голова у тебя работает правильно, рассуждаешь ты, как прирожденный строитель, а кроме того, жил во Франции, а там, говорят, знают толк в штукатурке. А это – первое дело, особливо для потолков. Небось, по всей Шотландии не найдешь строителя, который больше меня пускал бы ее в ход. А хотел я сказать вот что: если с капиталом, который я тебе дам, ты займешься этим ремеслом, то сумеешь стать богаче меня. Ведь тебе полагается доля после моей смерти, а раз она понадобилась тебе теперь, ты по справедливости получишь чуток поменьше.
Дядя Эдам откашлялся.
– Вы очень щедры, папа, – сказал он, – и Лауден, конечно, это понимает. Вы поступаете, как сами выразились, по справедливости, но, с вашего разрешения, не лучше ли было бы оформить все это письменно?
Тлевшая между ними вражда чуть не вырвалась наружу при этих не вовремя сказанных словах. Каменщик быстро повернулся к сыну, оттопырив нижнюю губу, словно обезьяна. Несколько мгновений он глядел на него в злобном молчании, а потом кивнул:
– Зови Грегга!..
И мы в молчании стали ожидать прихода нотариуса. Наконец он появился – суровый человек в очках, но с довольно симпатичным лицом.
– А, Грегг! – воскликнул каменщик. – Ответьте-ка мне на один вопрос: какое отношение имеет Эдам к моему завещанию?
– Боюсь, я не совсем вас понял, – ответил нотариус с некоторой растерянностью.
– Какое он имеет к нему отношение? – повторил старик, ударяя кулаком по ручке своего кресла. – Чьи это деньги – мои или Эдама? Имеет он право вмешиваться?
– А, понимаю, – ответил мистер Грегг. – Разумеется, нет. Вступая в брак, ваша дочь и ваш сын получили определенную сумму и приняли ее по всем правилам закона. Вы, конечно, помните об этом, мистер Лауден?
– Так что, коли мне захочется, – произнес мой дед, отчеканивая каждое слово, – я могу оставить все свое имущество хоть Великому Моргалу? (Должно быть, он имел в виду Великого Могола.)
– Разумеется, – ответил Грегг с легкой улыбкой.
– Слышишь, Эдам? – спросил старик.
– Разрешите заметить, что мне ни к чему было это слышать, – ответил тот.
– Ну и ладно, – объявил дед. – Вы с сынком Дженни отправляйтесь погулять, а нам с Греггом надо обсудить наше небольшое дельце.
Очутившись в зале лицом к лицу с дядей, я выразил ему, как прискорбно для меня все случившееся.
– Дядя Эдам, я думаю, мне незачем говорить вам, как все это для меня тяжело.
– Да, мне очень грустно, что тебе пришлось увидеть своего деда в столь новом для тебя свете, – ответил этот необыкновенный человек. – Впрочем, пусть это тебя не расстраивает. Он обладает многими высокими достоинствами и оригинальным характером. Я твердо уверен, что он щедро тебя обеспечит.
Подражать его невозмутимости у меня не хватило сил. Я не мог долее оставаться в этом доме, ни даже обещать, что я в него вернусь. В результате мы договорились, что через час я зайду в контору нотариуса, которого (когда он выйдет из библиотеки) дядя Эдам предупредит об этом. Полагаю, трудно придумать более запутанное положение: могло показаться, что это мне нанесен тяжелый удар, а облаченный в непроницаемую броню Эдам – великодушный победитель, который не пожелал воспользоваться своим преимуществом.
Можно было не сомневаться, что какие-то деньги я получу, но сколько и на каких условиях, я должен был узнать только через час, а пока мне оставалось лишь размышлять об этом, бродя по широким пустынным улицам нового города, советуясь со статуями Георга IV и Уильяма Питта, любуясь поучительными картинами в витрине магазина нот и возобновляя свое знакомство с эдинбургским восточным ветром.
В конторе поверенного мне был вручен чек на две тысячи фунтов стерлингов и маленький томик какого-то руководства для архитектурных работ, в котором особенно усердно превозносились достоинства портландского цемента. Присяжный поверенный моего деда оказался милейшим господином и после нескольких ничего не значащих слов, из которых я мог судить, как мило и просто он относился ко мне, я счел возможным спросить его совета относительно того, что мне теперь следует делать. Он настоятельно советовал вернуться в дом моего дяди, хотя бы только для того, чтобы совершить обычную прогулку с дедом, который иначе будет очень огорчен и обижен.
– На вечер же, – говорил он, – я дам вам возможность отказаться от обеда, предложив вам по-холостяцки отобедать со мной. Но прогулка с стариком положительно необходима: он хороший, добрый старик и сердечно любит вас! – закончил молодой юрист. – Что же касается вашего дядюшки, то с ним всякого рода деликатности, право, неуместны!
Я обещал последовать его совету.
Получив две тысячи фунтов, то есть пятьдесят тысяч франков, я мог бы вернуться в Париж к моему любимому искусству и жить в бережливом Латинском квартале, как миллионер. Кажется, у меня хватило совести порадоваться, что я отослал уже упоминавшееся лондонское письмо, однако я ясно помню, как все худшее во мне заставляло меня горько каяться, что я слишком поспешил с его отсылкой. Тем не менее, несмотря на противоречивость овладевших мною чувств, одно было твердо и несомненно: раз письмо отослано, я обязан ехать в Америку. И вот мои деньги были разделены на две неравные части – под первую мистер Грегг выдал мне аккредитив на имя Дижона, чтобы тот мог заплатить мои парижские долги, а на вторую, поскольку у меня была кое-какая наличность на ближайшие расходы, он вручил мне чек на банк в Сан-Франциско.
Весьма приятно отобедав со славным парнем поверенным, я совершил длинную прогулку с дедом. Тот, к великому моему удивлению, на этот раз не повел меня любоваться творениями своих старых рук, а, повинуясь естественному и трогательному порыву, решил показать мне вечное жилище, избранное им для своего последнего упокоения. Оно находилось на кладбище, которое благодаря какой-то странной случайности оказалось внутри тюремного вала и было к тому же расположено на самом краю утеса, усеянного старыми могильными плитами и надгробиями и покрытого зеленой травой и плющом. Восточный ветер (показавшийся мне слишком резким и холодным для старика) заставлял непрерывно трепетать ветви деревьев, и неяркое солнце шотландского лета рисовало на земле их пляшущие тени.
Вечером того же дня я уехал из Эдинбурга и, когда снова вышел на берег после долгого, но в общем довольно приятного путешествия, когда вступил вновь в свой родной Маскегон, он показался мне и чужим, и мертвым, произведя чрезвычайно удручающее впечатление.
Вскоре после кладбища в Эдинбурге мне пришлось снова нанести визит на кладбище, и гораздо более грустный. Над Маскегоном уже возвышался одетый в леса купол нового капитолия. Я приехал под вечер. Моросил дождь, и, проходя по широким улицам, самые названия которых были мне незнакомы, где мимо, звеня, проносились ряды конок, над головой сплетались сотни телеграфных и телефонных проводов, а по сторонам вздымались громады ярко окрашенных и все же угрюмых зданий, я с тоской вспоминал улицу Расина, и даже мысль об извозчичьем трактире вызвала слезы на моих глазах. За время моего отсутствия этот скучный город так разросся – можно даже сказать, раздулся, – что мне то и дело приходилось спрашивать дорогу у прохожих, и даже кладбище оказалось с иголочки новым. Однако смерть не дремала, и могил там было уже много. Я бродил под дождем среди пышных и безвкусных склепов миллионеров и скромных черных крестов над могилами рабочих-иммигрантов, пока случайность – а может быть, инстинкт – не привела меня к последнему месту упокоения моего отца. Памятник над ним был воздвигнут, как я уже знал, «его восторженными почитателями». Одного взгляда мне оказалось достаточно, чтобы создать суждение об их художественном вкусе, и, без труда представив, каким должен быть их литературный вкус, я остерегся подойти ближе к монументу и прочитать надпись. Однако имя «Джеймс К. Додд» было вырезано крупными буквами и сразу бросилось в глаза. Какая странная вещь имя, подумал я, как оно прилипает к человеку, представляет его в неверном свете, а затем переживает его. И тут с горькой улыбкой я вспомнил, что не знаю – и теперь никогда не узнаю, – какое слово скрывается за этим «К». Кинг, Килтер, Кей, Кайзер – перебирал я наугад имена и, наконец, переиначив «Герберта» в «Керберта», чуть не рассмеялся вслух. Никогда еще я так не ребячился – наверное, потому, что (хотя все мои чувства, казалось, омертвели) никогда еще я не был так глубоко потрясен. Но после того как мои нервы сыграли со мной такую шутку, я, испытывая глубочайшее раскаяние, поспешил удалиться с кладбища.
Как бы исполняя долг по отношению к памяти отца, я посетил одного за другим его друзей, но и здесь мне казалось, что я встречаю то же кладбище, как и повсюду. Все господа из приличия заговаривали о покойном, но по всему было ясно, что память о нем совершенно исчезла, что стоит мне только повернуть спину, как никто из них и не вспомнит о нем. Меня отец любил всей душой, а я оставил его одного, одинокого и чужого среди этих бессердечных, бездушных людей, оставил его жить и бороться, и умирать среди них, и вернулся только тогда, когда он был уже схоронен и забыт. Чувство жгучего раскаяния овладело мной; при этом мне вспомнилось, что есть еще и другая душа, которая любит меня и ждет меня, и верит в меня, это – Джим Пинкертон. Я вдруг почувствовал, что не вправе дважды повторить тот же грех, ту же роковую ошибку и по отношению к нему.
Около недели я пробыл в Маскегоне, не известив даже моего друга об этом промедлении в пути. Спохватившись, я немедленно сел на поезд и продолжил свой путь. На одной из станций я заметил человека, суетливо пробегавшего по вагонам:
– Господа, нет ли среди вас некоего Лаудена Додда? – спрашивал он.
Я отозвался, и он, вручив мне телеграмму, исчез. Депеша была от Пинкертона. «В какой день вас можно ожидать? Очень важно знать». Я тотчас же послал ему ответную телеграмму, извещая о дне и часе моего прибытия. На одной из следующих станций меня ожидала другая телеграмма Пинкертона: «Какое счастье! Встречу вас в Сакраменто!»
Какую авантюру затеял он теперь? Какую чашу испытаний готовило мое доброжелательное чудовище своему Франкенштейну? В какой лабиринт событий попаду я, оказавшись на тихоокеанском побережье? Мое доверие к Пинкертону было абсолютным, мое недоверие к нему – непоколебимым. Я знал, что намерения его всегда были наилучшими, но не сомневался, что поступит он, с моей точки зрения, обязательно не так, как надо.
Полагаю, что эти смутные опасения окрасили в мрачные тона и без того угрюмые пейзажи за окнами вагона, где хмурились Небраска, Вайоминг, Юта, Невада, словно желая прогнать меня обратно на мою вторую родину, в Латинский квартал. Но когда Скалистые горы остались позади и поезд, так долго пыхтевший на крутых подъемах, понесся вниз по склону, когда я увидел плодороднейшую область, простирающуюся от лесов и голубых гор до океана, увидел необозримые поля волнующейся кукурузы, рощи, чуть колышимые летним ветерком, деревенских мальчишек, осаждающих поезд, предлагая инжир и персики, мое настроение сразу поднялось. Забота спала с моих плеч, и когда в толпе на перроне в Сакраменто я увидел моего Пинкертона, то, забыв все, кинулся к нему – к самому верному из друзей.
– О Лауден! Лауден! – воскликнул он. – Как я стосковался по вас!
Отчего-то он опять называл меня на «вы» – должно быть, и в самом деле отвык.
– И вы явились как раз вовремя. Имя ваше известно здесь каждому, все вас ждут с нетерпением! Я уже рекламировал вас на весь город, на завтра объявлено, что вечером вы прочтете реферат в доме городской ратуши «Жизнь парижского студента: его занятия и развлечения». Тысяча двести билетов разошлись все до единого… Но что это, как вы похудели, Лауден, устали? Истомились в дороге? Вот подождите, попробуйте выпить глоточек этого!
И Пинкертон достал из своего чемодана бутылку с ярким ярлыком, на котором красовалась надпись: «Пинкертоновский коньяк Золотого Штата, тринадцать звездочек, лицензированный».
– Боже милосердный! Что это такое? – воскликнул я, морщась и откашливаясь после первого глотка этого диковинного напитка.
– Это – коньяк моего изготовления, и подобное название уже само по себе прекраснейшая реклама! Мой коньяк расходится теперь уже не ящиками, а целыми вагонами. Кстати, думаю, что вы не рассердитесь на меня за то, что я разослал ваши портреты по всему городу по случаю чтения реферата, увеличенные с вашей маленькой карточки: «Лауден Додд, американо-парижский скульптор». Вот образец входных билетов, афиши на углах улиц и на всех столбах такие же, только ярко-красные и ярко-голубые с огромными, увеличенными в четырнадцать раз буквами.
Я взглянул на этот билет, и душа моя перевернулась. Но что я мог сказать, как дать понять Пинкертону то чувство омерзения, какое овладело мною при слове «американо-парижский»? Но когда мы прибыли в Сан-Франциско, при виде моего собственного изображения на стенах домов на всех углах улиц, я не вытерпел и невольно разразился упреками.
Но Пинкертон, по-видимому, совершенно не понимал, что меня возмущало и волновало в такой степени.
– Если бы я знал, что вам так противны эти красные буквы, я бы, конечно, никогда этого не сделал. Вы правы, Додд, простой крупный черный шрифт на белом был бы пожалуй, лучше! Право, я сильно огорчен, что причинил вам эту неприятность, но я полагал, что это в значительной степени должно способствовать успеху дела. И вся пресса в восторге!..
– Но, Пинкертон, – воскликнул я, – эта лекция – чистое безумие. Это худшее из всех ваших сумасбродств! Разве я в состоянии приготовить целый реферат в несколько часов?
– Все это уже сделано, Лауден, реферат приготовлен и отпечатан и лежит у меня в комоде! Лауден, поверьте мне, я знаю, как устроить дело Я поручил эту работу самому талантливому литератору и публицисту в Сан-Франциско, Гарри Миллеру.
Он продолжал неумолчно трещать о предстоящем успехе, о своих новых и многочисленных знакомствах, окликая проходящих знакомых и не упуская случая представлять меня всем и каждому.
Что мне было делать? Я попался как кур в ощип! Был, что называется, связан по рукам и ногам. Единственное, что мне удалось сделать, это взять с Пинкертона обещание впредь никогда более не располагать мною и не распоряжаться мною без моего ведома. Но и это, по-видимому, глубоко огорчило моего друга, так что я решил во всем остальном беспрекословно подчиниться его воле.
Надо было видеть меня, когда я засел за реферат работы г-на Гарри Миллера. У него было, несомненно, бойкое перо, он умел поражать удивительными эффектами, в ярких красках изображал умирающих от голода гениев и доходил до мелодраматических моментов, говоря о гризетках. Он, очевидно, пользовался моей корреспонденцией с Пинкертоном в качестве материала для своей статьи, и я краснел, читая свои собственные приключения, мысли и чувства, столь нагло искаженные. Я попытался было изменить кое-что в реферате, но это оказалось совершенно невозможным: язык и стиль этого господина Миллера были неподражаемы, и каждое выкинутое слово портило общий тон статьи.
За несколько часов до предстоящей мне пытки публичного чтения я обедал в обществе Пинкертона в одном из лучших ресторанов города, причем мой приятель с особой гордостью называл себя моим агентом. Когда пробил роковой для меня час, и я принужден был выступить перед публикой, то чувствовал себя до того беспомощным, до того угнетенным, что, вероятно, производил весьма жалкое впечатление. Не имея ни времени, ни желания выучить на память этот ненавистный реферат, я стал читать его с листа, как школьник читает урок, краснея и смущаясь на каждой строке и чем дальше, тем больше, пока чтение мое не стало почти совершенно непонятным.
«Говорите громче!», «Никто ничего не слышит!» – стали громко кричать слушатели. И вдруг я представил себе все так, как оно было: этот зал, полный слушателей, не слышащих ровно ничего, этого чтеца с видом наказанного мальчишки, бормочущего под нос свой невыученный урок, – и мне стало до того смешно, что я готов был тут же громко расхохотаться. Меня удивляло теперь только то, почему никто не смеется, и на вторичное приглашение говорить громче я с неудержимой веселостью ответил, впервые взглянув смеющимися глазами на моих терпеливых слушателей:
– Прекрасно, господа! Я постараюсь говорить громче, хотя, право, не понимаю к чему? К чему вам слышать то, что я говорю? Кому и зачем это нужно?
И вот, наконец, слушатели и чтец вдруг разразились неудержимым смехом и хохотали буквально до слез. Затем я продолжил свое чтение и в одном месте, желая сократить эту пытку, перелистал целых три страницы. «Вы видите, господа, я выпускаю, сколько возможно», – заметил я, довольно громко обращаясь к своей аудитории, и, к моему удивлению, эта шутка была встречена громкими возгласами одобрениями.
Когда я наконец стал откланиваться, то меня приветствовали оглушительными аплодисментами, махали шляпами и платками – словом, устроили мне настоящую овацию.
Пинкертон, сидя в смежной с залом комнате, с лихорадочной поспешностью заносил что-то в свою записную книжку. Увидев меня, он вскочил и бросился ко мне на шею, я почувствовал, что слезы текли по его лицу.
– Ах, дорогой мой, неоценимый Лауден! – воскликнул он. – Я никогда не прощу себе того, что я сделал, но, право, я хотел только добра! Вы благородно справились со своей задачей, вы вышли победителем, а я начинал уже опасаться, что мне придется возвращать публике деньги!
– И это было бы гораздо честнее! – заметил я.
Следом за мной из зала вышли представители прессы с Гарри Миллером во главе. Они обступили меня, и я, к своему величайшему удивлению, должен был признаться, что это премилые и пресимпатичные люди, и даже сам Гарри Миллер весьма приличный и порядочный господин. Мы все вместе отправились есть устрицы и пить шампанское, и так как нервы мои были крайне напряжены, то я все время закуски был очень разговорчив и оживлен. Будучи в ударе, как говорится, я весьма удачно передавал мое негодование и смущение перед рефератом господина Миллера и тот ряд самых разнообразных ощущений, какие я испытал перед своей аудиторией, передавая все это в весьма забавном и ни для кого не обидном тоне.
Все присутствующие единогласно заявили, что только я один могу быть душой общества, что они в восторге от моей особы, и на следующий день все газеты были полны мной: меня выхваляли, меня превозносили, о моем блистательном успехе говорили, кричали все.
Я вернулся домой в прекраснейшем расположении духа, но бедный Пинкертон скорбел душою за нас обоих.
– О Лауден, – говорил он, – я никогда не прощу себе того, что сделал. Когда я увидел, что эта затея с публичной лекцией вам не по душе, я готов был прочесть ее сам. Но вы герой! Вы – самоотверженный герой, и я вижу, что вы, насилуя себя, сделали это для меня. Чем я могу отплатить вам за это?








