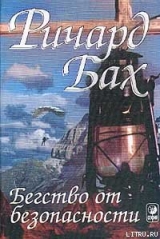
Текст книги "Бегство от безопасности"
Автор книги: Ричард Дэвис Бах
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Тридцать пять
Каждая вещь определяется нашим сознанием. Самолеты становятся живыми существами, если мы в это верим. Когда я мою Дейзи, полирую ее и забочусь о каждом ее скрипе, прежде чем он превратится в крик, я знаю, что однажды придет день, когда она сможет вернуть мне мою заботу, поднявшись в воздух или сев, если будет необходимо, в условиях, которые покажутся невероятными. За сорок лет, проведенные в воздухе, такое со мной уже случилось однажды, и я не уверен, что мне не понадобится ее расположение вновь.
Так что мне не казалось странным лежать в то утро на бетонном полу нашего ангара, вытирая следы от выхлопа и пленку масла, накопившиеся за три часа полета на алюминиевом брюхе Дейзи.
Каждую ночь, когда мы засыпаем, в нашем сознании совершается перемена, подумал я, слегка смачивая тряпку в бензине, – но она также совершается и в течение дня, когда мы делаем одно, а думаем о другом. Мы засыпаем и просыпаемся, одни сны сменяют другие сотню раз в день, и никто не рассматривает это как смену состояний.
Все, что я мог видеть, были джинсы от колен и ниже, однако ноги были обуты в старомодные теннисные туфли, поэтому я понял, кому они принадлежат.
– Правда ли, что все – в твоей ответственности? – спросил Дикки. – Все в твоей жизни? Ты несешь всю тяжесть?
– Все, – ответил я, радуясь тому, что он меня нашел. – Не существует такого понятия, как массы, существуем только мы – простые отдельные индивиды, строящие свои простые отдельные жизни в соответствии с нашими простыми отдельными желаниями. Это не так тяжело, Дикки. Нести ответственность за все – просто забава, и мы – индивиды – делаем довольно бойкий бизнес, помогая друг другу.
Он уселся на пол, скрестив ноги, и стал наблюдать, как я работаю.
– Например?
– Например, бакалейщик облегчает нам поиск пищи. Создатель фильмов развлекает нас разными историями, плотник кроет крышу над нашими головами, авиастроитель выпускает на рынок прекрасную Дейзи.
– А если бы Дейзи не существовала, ты бы построил ее сам?
– Если бы мне пришлось строить самолет, то он, наверное, получился бы меньше, чем Дейзи. Что-то сверхлегкое, вроде мотодельтаплана.
Я приложил тряпку к банке с полирующим составом. Даже немного его хватит, чтобы удалить с Дейзи самые трудные пятна.
– Ты отвечал бы за добывание пищи, даже если бы не осталось ни одного магазина?
– Кто бы еще это за меня делал?
– И ты бы сам убивал коров?
Полируя, я заметил трещину в фибергласе, которая начиналась следом от удара возле антенны дальномера. Ничего страшного, но я отметил про себя, что надо будет высверлить фонарь по контуру трещины и стянуть ее.
– Лесли и я больше не едим коров, Дикки. И мы не стали бы их убивать. Мы решили, что, если мы не соглашаемся с отдельными этапами этого процесса, то не можем согласиться и с его результатом.
Он подумал.
– Вы не носите кожу?
– Я никогда больше не куплю еще одно кожаное пальто, а также, возможно, еще один кожаный ремень, но я мог бы купить еще одни кожаные туфли, если бы у меня не было выбора. Даже тогда я мог бы дойти до кассы с туфлями в коробке, и все-таки не решиться их купить. Смена принципов – медленный процесс, и мы узнаем, что они изменились, только когда ранее привычные и правильные для нас вещи больше такими не кажутся.
Он кивнул, ожидая этого.
– Все индивидуально.
– Да.
– Ты отвечаешь за свое образование? – спросил он.
– Я сам выбирал, какое образование мне хотелось бы получить.
– Твои развлечения?
– Продолжай, – сказал я.
– Твой воздух, твою воду, твою работу…
– …мои путешествия, мое поведение, мое общение, мое здоровье, мою защиту, мои цели, мою философию и религию, мои успехи и неудачи, мой брак, мое счастье, мою жизнь и смерть. Я в ответе перед собой за каждую свою мысль, каждое произнесенное мной слово и каждое движение. Нравится мне это или нет, но это так, поэтому много лет назад я решил принять, что мне это нравится.
Куда он ведет своими вопросами, подумал я. Это что, испытание?
Я натирал воском уже отполированную поверхность: осторожно – вокруг турбулизаторов, торчащих, словно частокол из ножей, более живо – вокруг радиоантенн, и размашисто – на остальных участках. Любопытство это или тест, я решил, что ему необходимо знать.
– То есть все в мире образов ты делаешь для себя сам, – сказал он. – Ты сам построил целую цивилизацию?
– Да, – ответил я. – Хочешь узнать как?
Он засмеялся.
– Ты бы свалился оттуда, если бы я сказал, что не хочу.
– Мне все равно, – солгал я. – Ну хорошо, свалился бы.
– Расскажи. Как ты сам построил целую свою цивилизацию?
– Ты и я выбрали рождение в этой иллюзии пространства и времени, Дикки, и вскоре оказались у ворот сознания, оценивая и выбирая, решая, принимать или не принимать те или иные идеи, мнения или вещи, предлагаемые нашим временем. Чтение – да, побег-из-дома – нет, игрушки – да, доверять родителям – да, верить в милитаристскую пропаганду – да, авиамодели – да, командные виды спорта – нет, пунктуальность – да, мороженое – да, морковь – нет, работа по дому – да, курение – нет, пьянство – нет, эгоизм – да, наркотики – нет, вежливость – да, самодовольство и самоуверенность – да, охота – нет, оружие – нет, банды – нет, девушки – да, дух школы – нет, колледж – нет, армия – да, политика – нет, на-службе-у-других – нет, брак – да, дети – да, армия – нет, развод – да, новый брак – да, морковь – да… Каждый из нас создает свой точный и уникальный цифровой портрет, где «да» и «нет» представлены крошечными точками. Чем решительнее мы, тем точнее наш портрет.
Все, что находится в мире моего сознания – единственном существующем для меня мире, – попадает туда только с моего согласия. То, что мне не нравится, я могу изменить. Никакого хныканья, никаких жалоб, что я, мол, страдаю, потому что кто-то меня подвел. За все отвечаю только я.
– А что ты делаешь, когда люди тебя все-таки подводят?
– Я их убиваю, – сказал я, – и двигаюсь дальше.
Он нервно засмеялся.
– Ты ведь шутишь, не так ли?
– Мы не можем ни убивать, ни создавать жизнь, – сказал я. – Помни, Жизнь Есть.
Я закончил с брюхом Дейзи, выполз из-под нее и пошел за стремянкой для вертикальных стабилизаторов, расположенных в девяти футах от земли.
– В мире образов, – спросил он осторожно, – приходилось ли тебе убивать?
– Да. Я убивал мух, я убивал москитов, я убивал муравьев и, грустно говорить, пауков тоже. Я убивал рыбу, когда мне было приблизительно столько же, сколько тебе сейчас. Все они – неуничтожимые проявления жизни, но я искренне верил, что убиваю их, и эта вера по сей день иногда отягощает мою душу, пока я не напоминаю себе истинное положение вещей.
– Убивал ли ты человеческие существа в этом мире образов? – спросил он, тщательно подбирая слова.
– Нет, Дикки, не убивал.
Только благодаря великолепным совпадениям во времени, подумал я. Попади я чуть раньше в ВВС, и мне пришлось бы убивать людей в Корее. Не подай я в отставку – и чуть позже я бы убивал во Вьетнаме.
– А тебя когда-нибудь убивали?
– Никогда. Я существовал до начала времени и буду существовать после его конца.
Он явно разошелся, раздражаясь.
– Хорошо, в мире образов когда-нибудь образ тебя как ограниченной…
– Ох уж, этот мир! – сказал я. – Да, меня убивали тысячу миллионов триллионов раз, бесконечное число раз.
Дикки взобрался по лестнице на стабилизатор, прошел по нему футов на пять от киля и сел лицом ко мне, скрестив ноги и подавшись вперед от любопытства. Никакому другому ребенку не удалось бы сюда пробраться без моего кудахтанья о теннисных туфлях, царапающих краску, нагрузке на стабилизатор и опасности падения с пяти футов на бетонный пол. Но Дикки мог сидеть там, где захочет. Вот в чем прелесть бесплотных, подумал я, и странно, что мы не приглашаем их чаще.
– Это перевоплощения, – сказал он. – Ты веришь в перевоплощения?
Я распылил жидкий воск по верхней половине киля и протер его.
– Нет. Перевоплощение означает упорядоченную последовательность жизней на этой планете, правильно? Но в этом есть некоторая ограниченность – так, слегка тесновато в плечах.
– Что вам больше подходит?
– Бесконечное число жизнеобразов, пожалуйста, некоторые с телом, некоторые – без; некоторые на планетах, некоторые – нет; все они одновременны, потому что не существует такого понятия, как время, и ни один из них не реален, потому что существует только одна Жизнь.
Он нахмурился.
– Почему бесконечное-число-жизнеобразов, а не просто перевоплощение?
Когда-то давно, вспомнил я, это было моим любимым вопросом: «Почему именно так, а не иначе?» Многих взрослых это выводило из себя, но мне необходимо было знать.
– Первое не более реально, чем второе, – сказал я ему. – Пока мы не осознаем, что Жизнь Есть, мы просто не верим ни в перевоплощения, ни в бесконечное-число-жизнеобразов, ни в рай-и-ад, ни в все-вокруг-темнеет, мы живем этими системами… они представляют для нас истину, пока мы даем им власть.
– Тогда мне непонятно: почему бы тебе просто не признать, что Жизнь Есть, и прекратить играть во все эти игры?
– Мне нравятся игры! Если кто-то сомневается, что мы живем ради развлечения, предложи ему или ей подробный отчет об их будущем, где будет расписано каждое событие, каждый исход на годы вперед. Много ты успеешь рассказать, прежде чем тебя остановят? Неинтересно знать, что случится дальше. Я получаю удовольствие от шахмат, даже зная, что это игра. Мне нравится пространство-время, хоть оно и нереально.
– На помощь! – сказал он. – Если все нереально, почему ты выбираешь бесконечное число жизней, а не перевоплощение или превращение-в-ангела?
– Почему шахматы, а не шашки? – спросил я. – В них больше игровых комбинаций! Если все мои жизнеобразы существуют одновременно, должна быть возможность их пересечения. Должна быть возможность найти Ричарда, который выбрал Китай в настоящем, которое я называю «семь тысяч лет назад», или того Ричарда, который в 1954 стал судостроителем, а не летчиком, или проксимида, выбравшего жизнь на космическом флоте Центавра 4 в настоящем – миллиарде лет отсюда. Если существует только Настоящее, то должен существовать и способ всем нам встретиться. Что знают они такого, чего не знаю я?
Любопытное выражение на его лице, скрытая усмешка.
– Ну и как, получается?
– Только что-то неясное моментами – сказал я.
– Гм.
Он снова улыбнулся этой странной улыбкой, как если бы не я, а он был здесь учителем. Мне нужно было тогда спросить его, чему он так улыбался, но я пропустил это, не обратив особого внимания и отнеся его улыбки к саркастическим.
– Но доказательство и не требуется, – сказал я, спускаясь, чтобы переставить стремянку к переднему краю левого стабилизатора.Жизнь не ограничивает нашу свободу верить в границы. Пока мы продолжаем наш роман с формой, я предпочитаю, чтобы мы поднимались от одной ограничивающей веры к другой, взращивая время нашей жизни на пути, где мы перерастаем ограничения игры, независимо от цвета, независимо от формы, которую они принимают, находя радость в новых игрушках.
– Игрушки? В бесконечном будущем? —переспросил он. – Я уже было подумал, что обгоняю твою мысль. Я думал, ты собираешься мне сказать, что следующая жизнь будет необусловленной любовью.
– Нет. Безусловная любовь не вписывается ни в пространство-время, ни в шахматы, футбол или хоккей. Течение игры определяют правила, необусловленная же любовь не признает никаких правил. – Приведи какое-нибудь правило. – Сейчас…
Я закончил левый стабилизатор, спустился и перенес стремянку к правому, взобрался и начал распылять воск по его поверхности.
– Самосохранение – правило. В тот момент, когда мы перестаем беспокоиться о своей жизни, когда мы сдвигаем наши ценности за пределы пространства-времени, мы внезапно обретаем способность любить безусловно.
– На самом деле?
– Попробуй, – сказал я.
Я отполировал переднюю кромку стабилизатора.
– Как?
Кили сверкали посреди ангара, словно две скульптуры из слоновой кости. Я перешел к стабилизатору.
– Представь себе, что ты – духовно развитая личность, лидер, проповедующий непротивление злу насилием, и ты поклялся освободить свою страну от тирана. Ты пообещал ему организовывать гигантские демонстрации протеста в столице до тех пор, пока он не отречется.
– Я так и пообещал? Может, я и развит духовно, – сказал Дикки, – но не шибко умен.
Я улыбнулся. Мой отец так говорил: «не шибко умен».
– Тебя предупредили, – сказал я. – Люди тирана идут за тобой, они собираются тебя убить. Ты напуган?
– Да! – сказал Дикки. – Где мне укрыться?
– Нигде. Ты развит духовно, помни. Поэтому сейчас же, сию минуту, отбрось самосохранение, правила, тревогу за свою жизнь. Это мир образов, а у тебя есть твой настоящий дом, более знакомый-и-любимый, чем Земля, и ты будешь рад туда вернуться.
Я полировал Дейзи, пока он сидел на стабилизаторе, представляя все это с закрытыми глазами.
– О'кей, – сказал он. – Я отбросил тревогу. Мне больше ничего не нужно. Я больше ни в чем не нуждаюсь на Земле. Я готов отправиться домой.
– Вот к твоим дверям подходят убийцы. Ты боишься?
– Нет, – ответил он, представляя. – Они не убийцы, они мои друзья. Мы – актеры в пьесе. Мы выбираем роли и играем их.
– Они достают мечи. Ты боишься их?
– Я их люблю, – сказал он.
– Вот, – сказал я. – Теперь ты знаешь, на что похожа безусловная любовь. Не нужно быть святым, каждый на это способен; отбрось пространство-время, и будет уже неважно, убьют они тебя или нет.
Через минуту Дикки открыл глаза и передвинулся к концу стабилизатора, чтобы я мог отполировать участок, на котором он сидел.
– Интересно. Справедливо ли обратное? Чем больше я забочусь о самосохранении, тем меньше я способен на безусловную любовь.
– Можем выяснить.
– О'кей.
Он закрыл глаза в ожидании.
– Представь себе, что ты – мирный и скромный фермер, – сказал я. – У тебя есть три вещи, которые тебе дороже всего на свете: твоя семья, твоя земля и твои нарциссовые поля. Ты и твоя жена растите детей и нарциссы в той же долине, которую возделывали твои родители. Ты родился на этой земле и здесь же собираешься умереть.
– Ого, – сказал он. – Что-то должно произойти.
– Ага. Скотоводы, Дикки. Им нужна твоя ферма, чтобы проложить прямую дорогу к железнодорожной ветке, а ты отказался ее продать. Они угрожали тебе, но ты стоял на своем. Теперь они перешли от угроз к действиям: сегодня в полдень они собираются захватить твою ферму силой. Отдай свою землю и оставь умирать свои цветы, либо умрешь сам.
– Ничего себе, – сказал он, представляя.
– Ты напуган?
– Да.
– Уже почти полдень, Дикки. Он уже едут, дюжина вооруженных мужчин верхом на лошадях, в облаке пыли, стреляя из револьверов, гоня стадо лонгхорнов на твои зеленые поля. Испытываешь ли ты к ним безусловную любовь?
– НЕТ! – сказал он.
– Вот видишь…
– Я собрал всех соседей, – сказал он. – У каждого из нас многозарядное ружье; вдоль ограды я закопал динамит. Только ступите на мои цветы, вы, крутые парни, как получите такой пинок, что побежите обратно еще быстрее, чем пришли сюда! Только посмейте нас тронуть, и это будет последнее, что вы сделаете в вашей жизни!
– Ты понял идею, – сказал я, улыбаясь его воинственности. – Видишь, как это отличается от безусловной…
– Не останавливай меня, – сказал он. – Дай мне взорвать их к чертям! Я рассмеялся.
– Дикки, это всего лишь мысленный эксперимент, а не резня!
Он открыл глаза.
– Боом… – сердито произнес он. – Никто не отберет мою землю!
Я усмехнулся, пересадил его на верх фюзеляжа и, передвинув стремянку, начал полировать правое крыло Дейзи.
– Значит, безусловной Любовь становится только тогда, – произнес он наконец, – когда ее перестают заботить наши игры.
– Наши игры и наши цели, – сказал я. – Ни самосохранение, ни справедливость, ни мораль, ни совершенствование, ни образование, ни прогресс. Она любит нас такими, каковы мы есть, а не какими мы хотим казаться. Поэтому, наверное, смерть – такой шок. В ней наиболее сильно проявляется контраст между ролью и реальностью. Те, кому удалось вернуться буквально с того света, говорят, что эта любовь обрушивается, словно молот.
– И она одинакова для скотоводов и для фермеров, разводящих цветы?
– Для убийц и жертв, кротких и чудовищ. Одинаковая для всех. Абсолютная. Всеобъемлющая. Безусловная. Любовь.
Дикки лег на фюзеляж, прижавшись щекой к холодному металлу и наблюдая, как я работаю.
– Все эти вещи, которые ты мне рассказываешь, – откуда ты их узнал?
– Я надеялся, что ты это знаешь, – сказал я. – Сколько я себя помню, для меня всегда было важно: «Как устроена Вселенная? Когда она появилась»?
Я ожидал, что он что-нибудь мне сообщит, но если он и знал, в чем кроются истоки этого любопытства, то не собирался говорить.
– Откуда ты знаешь, что твои ответы правильны? – спросил он.
– Я этого и не знаю. Но каждый вопрос создает внутреннюю напряженность, которая потрескивает во мне, пока не находится ответ. Когда вопрос соприкасается с ответом, он заземляется на интуицию, происходит голубая вспышка, и напряженность уходит. Она не сообщает, «правильно» или «неправильно», а просто: «ответ получен».
Ого, подумал я в наступившей тишине, вмятина на передней кромке… мы, должно быть, попали в сгусток воздуха во время последнего полета.
– Приведи пример, – попросил он.
Я медленно полировал крыло, вспоминая.
– Когда я кочевал по стране, – начал я, – торгуя на пастбищах Среднего Запада полетами на старом Флите, некоторое время я ощущал вину. Честно ли было с моей стороны жить подобным образом, летя за ветром и зарабатывая этим на жизнь, когда другие люди вынуждены трудиться с девяти и до пяти? Но ведь не каждый может вести кочевую жизнь, думал я.
– Это и было твоим вопросом? – сказал он.
– Это было той самой напряженностью, гудевшей во мне много недель: все не могут быть кочевниками. Почему же я не живу как другие? Справедливо ли, что я имею такие привилегии?
Он не видел эту картину: смешной, раздражительный, покрытый маслом авиатор, ночующий под крылом своего самолета, зарабатывающий долларовую бумажку с полета и мучающийся оттого, что он – самый счастливый парень в мире.
– Каков же был твой ответ? – спросил он, торжественный, как сова.
– Я думал об этом ночами, готовя лепешки на костре. Кочевник – чрезвычайно романтическая профессия, думал я, но таковы и профессии юриста, актера. Если бы все были актерами, то в «Желтых Страницах» остался бы только один раздел – А, актеры. Ни летных инструкторов, ни адвокатов, ни полиции, ни врачей, ни магазинов, ни строительных компаний, ни киностудий, ни продюсеров. Одни актеры. И наконец я понял. Все не могут быть кочевниками. Все не могут быть юристами, или актерами, или малярами. Все не могут заниматься чем-то одним!
– Это и был ответ?
– В моем сознании, Дикки, произошел взрыв и всплеск, как будто огромный кит поднялся с большой глубины на поверхность:
Everybody can't do any one thing, but anybody can! [15]15
Все не могут заниматься тем, чем хотят, но кто-угодно может!
[Закрыть]
– О, – сказал он, тоже пораженный этим всплеском.
– С того момента я перестал думать, что нечестно с моей стороны быть тем, кем я хочу быть.
Я продолжал полировать крыло в тишине. Он обдумывал эту идею.
– А я могу стать тем, кем захочу? – спросил он. – Даже если это не будешь ты?
– Особенно если это не буду я, – сказал я ему. – Я думаю об этом время от времени, но мое место уже занято. Все места уже заняты. Капитан, кроме твоего.
Тридцать шесть
Шепот в темноте.
– Ты ведь не будешь учить его эгоизму, правда?
На часах горело 3:20. Откуда Лесли узнала, что я не сплю? Откуда олень знает о том, что в его лесу бесшумно упал лист? Она услышала, как изменилось мое дыхание.
– Я не учу его ничему, – прошептал я в ответ. – Я говорю ему то, что считаю истинным, а он должен сам выбрать то, что ему нужно.
– Почему ты шепчешь? – спросила она.
– Я не хочу тебя разбудить.
– Ты уже разбудил, – прошептала она. – Твое дыхание изменилось минуту назад. Ты думаешь о Дикки.
– Лесли, – сказал я, проверяя ее. – Что я делаю сейчас?
Она прислушалась в темноте.
– Ты моргаешь глазами.
– НИКТО НЕ В СОСТОЯНИИ УГАДАТЬ В ТЕМНОТЕ, ЧТО КТО-ТО ДРУГОЙ МОРГАЕТ!
Молчание. Потом шепот.
– Хочешь, чтобы я извинялась за свой хороший слух?
Я вздохнул.
Короткий вызывающий шепот.
– Я не собираюсь этого делать.
– А что я делаю сейчас?
– Не знаю.
– Я улыбаюсь.
Она повернулась ко мне и обвила себя моей рукой в темноте.
– О чем ты подумал, что это тебя разбудило?
– Ты будешь смеяться.
– Не буду. Честное слово.
– Я думал о добре и зле.
– О, Риччи! Ты просыпаешься в три часа ночи, думая о добре и зле?
– Ты все-таки смеешься? – спросил я.
Она смягчилась.
– Я просто спросила.
– Да.
– О чем ты думал? – спросила она.
– О том, что я впервые понял… их не существует.
– Не существует добра и зла?
– Нет.
– Что же тогда?
– Существуют счастье и несчастье.
– Счастье – это добро, а несчастье – зло?
– Абсолютно субъективно. Это все только в нашей голове.
– Тогда что значит быть счастливым или быть несчастным?
– Что это значит для тебя? – спросил я.
– Счастье – это радость! Огромное удовольствие! Несчастье – это депрессия, безнадежность, отчаяние.
Мне следовало бы знать. Я было предположил, что ее слова будут и моими: счастье – это ощущение благополучия, несчастье – его отсутствия. Но моя жена всегда была более пылкой, чем я. Я сказал ей свое определение.
– Думаешь, только чувства благополучия достаточно? – спросила она.
– Мне нужно определение, в котором не было бы пятидесятифутовой пропасти между вершиной счастья и дном несчастья. Как бы ты назвала то, что находится между ними?
– Я бы назвала это «Все хорошо».
– У меня нет такого чувства, – сказал я.У меня есть чувство благополучия.
– О'кей, – сказала она. – Что дальше?
– Помоги мне найти любую ситуацию, в которой Добро не совпадает в сердце со словами «делает меня счастливым». Или ситуацию, в которой Зло не совпадает со словами «делает меня несчастным».
– Любовь – это добро, – сказала она.
– Любовь делает меня счастливым, – ответил я.
– Терроризм – это зло.
– Милая, ты способна на большее. Терроризм делает меня несчастным.
– Добро, когда мы с тобой занимаемся любовью, – сказала она, прижимаясь ко мне в темноте своим теплым телом.
– Это делает нас счастливыми, – сказал я, отчаянно цепляясь за интеллект.
Она отстранилась.
– Риччи, к чему ты ведешь?
– Как бы я на это ни смотрел, выходит, что мораль определяем мы сами.
– Конечно, – сказала она. – И это тебя разбудило?
– Разве ты не понимаешь, Вуки? Добро и зло – не то, что нам внушили родители, церковь, государство или кто-нибудь еще! Каждый из нас сам решает, что ему считать добром, а что – злом. Автоматически – выбирая, что он хочет делать!
– Ого, – сказала она. – Пожалуйста, никогда не пиши об этом в своих книгах.
– Я только размышляю. И странно, что я никак не могу это обойти.
– Пожалуйста…
– Вот, к примеру, —сказал я, – в Книге Бытия о сотворении мира сказано так: И увидел Бог, что это хорошо.
– Ты хочешь сказать, это значит, что Бог был счастлив?
– Конечно!
– Ты же не веришь в Бога, тем более в такого, который способен видеть, – сказала она, – или в котором чувства больше, чем в арифметике. Как же твой Бог может быть счастлив?
– Автор Бытия, глупец, не посоветовался со мной, прежде чем взяться за перо. В его книге Бог полон чувств – радуется и печалится, сердится, интригует и мстит. Добро и зло не были абсолютами, они были мерой счастья Бога. Он писал эту историю и думал: «Если мне кажется, что от этого Бог был бы счастлив, я назову это „добром“».
Меня раздражала темнота.
– Мне необходимы примеры ситуаций, в которых люди используют слова «добро» и «зло», но сейчас темно и я не могу их искать.
– Это хорошо.
– Это делает тебя счастливой? – спросил я.
– Конечно. Иначе бы ты уже был на ногах, включая свет, компьютер, доставая книги и болтая без умолку, и нам пришлось бы не спать всю ночь.
– То есть ты счастлива, что сейчас темно, и я, по всей вероятности, не смогу беспокоить тебя своими разглагольствованиями о добре и зле всю ночь. Для тебя это действительно «хорошо».
– Только не вздумай написать об этом, – сказала она. – Иначе каждый экстремист… нет, каждый «нормальный» человек в стране, бодрствующий допоздна, будет занят пропусканием твоих книг через измельчитель.
– Лесли, в этом нет ничего, кроме любопытства. Осознание того, что мораль – дело сугубо личное, вовсе не превращает ее в нечто противоположное; мы не становимся маньяком-убийцей в ту же секунду, как осознаем, что можем им стать, если захотим. Мы рассудительны, добры, вежливы, любим друг друга, рискуем своей жизнью, чтобы выручить кого-то из беды, потому что нам нравится быть такими, а не потому, что мы боимся вызвать Божий гнев или отцовское неодобрение. Мы в ответе за наш характер, а не Бог или родители.
Она была непреклонна.
– Пожалуйста, не надо. Если ты напишешь, что добро – это то, что делает нас счастливыми, что получится? «Ричард Бах пишет, что добро – это то, что делает нас счастливыми. Я люблю красть поезда, значит, кража поездов – это добро. Как можно преследовать меня за то, что я совершил добро, притащив домой локомотив компании в сумке для завтраков? Как-никак, а это – идея Ричарда Баха». И ты будешь сидеть на скамье подсудимых рядом с каждым счастливым железнодорожным вором…
– Тогда я вынужден буду свидетельствовать в суде, – сказал я. – Ваша честь, прежде чем перейти к обвинению, примите во внимание последствия. Допустим, нам доставит огромное удовольствие смыться с чужой дизельной турбиной, то есть на момент совершения такой поступок будет казаться нам добром. Но, на самом деле, добром для нас он будет только в том случае, когда его последствия тоже доставят нам удовольствие, иначе нам следует отказаться от подобной выходки.
Она вздохнула, храня невысказанными нетерпеливые вопросы.
– Прошу снисхождения. Ваша честь, – сказал я. – Каждое действие имеет вероятные, возможные и непредвиденные последствия. Когда все эти последствия совпадают с интересами длительного благополучия лица, совершающего данное действие, тогда добро проистекает как из самого действия, так и из каждого его последствия в отдельности. «Вероятно, меня не поймают» – не тоже самое, что «То, что я сейчас собираюсь сделать, принесет мне ощущение благополучия на всю мою жизнь».
Ваша честь, я заявляю, что, если уж подсудимый имеет несчастье находиться здесь, в зале суда, то в действительности он не действовал в соответствии со своими интересами, пряча этот локомотив в свою сумку для завтраков, поэтому сейчас он, по определению, обвиняется также в глупости, раз его кражу удалось раскрыть!
– Изобретательно, – сказала Лесли. – Но как быть с тем, что добро определяется на основе всеобщего соглашения, что добро – это то, что большинство людей на протяжении многих веков находили положительным и жизнеутверждающим? И подумал ли ты о том, что провести остаток жизни в суде, изобретая подобные аргументы, может не совпасть с твоими собственными интересами и, следовательно, быть Злом? Может, оставим это и будем наконец спать?
– Если большинство людей считают добром убивать пауков, – сказал я,значит, мы творим зло, отпуская их? Мы что, должны жить в соответствии с мнением большинства?
– Ты прекрасно понимаешь, о чем я.
– Прочитай в словаре, – сказал я. – Каждое слово в определении какого-либо качества – обтекаемо. Добрый – это правильный, это нравственный, это приличный, это справедливый, это добрый. Но в примерах – совсем другое дело: в каждом используется сочетание «делает меня счастливым»! Принести словарь?
– Пожалуйста, не надо, – попросила она.
– Как ты приняла войну во Вьетнаме, Вуки? Президент и большинство людей считали ее справедливой. Так считал и я до того, как познакомился с тобой. Мысль о том, что мы защищаем невинную страну от злого агрессора, доставляла большинству из нас удовольствие. Но не тебе! То, что ты узнала об этой войне, совсем не доставило тебе удовольствия – ты стала организатором антивоенного комитета, концертов и матчей…
– Ричи?
– Да?
– Вполне возможно, что ты прав во всем, что касается добра и зла. Давай поговорим об этом завтра.
– Всякий раз, когда мы восклицаем Отлично!, это означает, что наше ощущение благополучия возросло, всякий раз, когда мы восклицаем Черт! или О, нет, только не это!, мы имеем в виду, что оно уменьшилось. Каждый час мы отслеживаем в себе хорошее и плохое, правильное и неправильное. Мы можем прислушиваться к себе непрерывно, минута за минутой, и создавать собственную этику!
– Сон – это добро, – сказала она. – Сон доставил бы мне удовольствие.
– Если бы я лежал здесь в кромешной тьме и рассматривал все мыслимые примеры, подразделяя «делает меня счастливым» на хорошее, правильное, превосходное, великолепное и прекрасное, а «делает меня несчастливым» – на злое, плохое, неправильное, ужасное, греховное и испорченное, это не дало бы тебе уснуть?
Она свернулась у меня под боком, зарывшись головой в подушку.
– Нет. Пока ты не начнешь моргать.
Лежа в темноте, я тихо улыбнулся.








