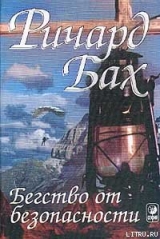
Текст книги "Бегство от безопасности"
Автор книги: Ричард Дэвис Бах
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Тридцать
– Мир гибнет в войнах и терроризме, – произнес комментатор, как только загорелся экран телевизора. – Сегодня мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что повсюду смерть и голод, засухи, наводнения и чума, эпидемии и безработица, море умирает а вместе с ним – и наше будущее климат меняется леса горят и ненависть в обществе достигла апогея – имущие против неимущих, правильные против всяческих хиппи, экономические спады и озонные дыры и парниковый эффект и флорофлюорокарбоны, многие виды животных вымирают извините вымерли, кругом наркотики, образование мертво, города рушатся, планета перенаселена и преступность завладела улицами и целые страны приходят к банкротству, воздух загрязняется ядовитыми выбросами, а земля – радиоактивными, идут кислотные дожди, неурожаи зерновых, пожары и грязевые сели, извержения вулканов и ураганы и цунами и торнадо и землетрясения разливы нефти и неблагоприятная радиационная обстановкавсе, как, по словам многих, предсказано в Книге Настороженности, а кроме того, к Земле приближается огромный астероид, в случае столкновения с которым все живое на планете будет уничтожено.
– Может, переключим на другой канал? – спросил я.
– Этот еще получше остальных, – сказала Лесли.
Дикки малодушничал внутри.
– Мы все умрем.
– Говорят, что так.
Я наблюдал за Армагеддоном на экране.
– И тебе никогда не бывает от этого плохо? —спросил он. – Ты никогда не срываешься, не впадаешь в депрессию?
– Какая от этого польза? Чего ради мне впадать в депрессию?
– От того, что ты видишь! От того, что ты слышишь! Они говорят о конце света! Разве это шутки?
– Нет, – сказал я ему. – Все даже гораздо хуже – настолько, что они не смогут даже рассказать об этом за тридцать минут.
– Тогда надежды нет! Что же ты здесь делаешь?
– Нет надежды? Конечно, ее нет. Капитан! Нет надежды на то, что завтра вещи останутся такими, какими они были вчера. Нет надежды, что существует что-либо, кроме реальности, способное длиться вечно, а реальность – это не пространство и не время. Мы называем это место Землей, хотя его настоящее имя – Изменение. Люди, нуждающиеся в надежде, либо не выбирают Землю, либо не принимают всерьез здешние игры.
Рассказывая ему все это, я почувствовал себя бывалым планетарным туристом, потом понял, что так оно и есть на самом деле.
– Но эти новости, по телевизору, они ведь ужасны!
– Это как в авиации, Дикки. Иногда собираешься в полет, а метеопрогноз предупреждает о надвигающихся грозах, риске обледенения, дожде, песчаных бурях и скрывающихся в тумане вершинах гор, а также сдвиге ветра [12]12
Атмосферное явление.
[Закрыть], вихревых потоках и слабом индексе подъемной силы. И вообще, сегодня только последний дурак осмелится взлететь. А ты взлетаешь, и полет проходит прекрасно.
– Прекрасно?
– Выпуск новостей сродни метеопрогнозу. Мы ведь летим не сквозь метеопрогноз, а сквозь реальные погодные условия на момент нашего полета.
– Которые неизменно оказываются прекрасными?
– Ничуть. Иногда они оказываются еще хуже, чем сам прогноз.
– И что же ты делаешь?
– Я стараюсь сделать все, что от меня зависит, в данный момент времени в данной области неба. Я отвечаю только за благополучный полет только в погодных условиях того кусочка неба, который занимает мой самолет. Я отвечаю за это, так как сам принял эти условия, выбрав время и направление для носа Дейзи. Как видишь, до сих пор я жив.
– А мир? – в его глазах зажегся интерес: ему было необходимо знать.
– Наш мир – не шар, Дикки, а большая пирамида. В ее основании находятся самые примитивные жизненные формы, которые только можно представить: ненавидящие, злобные, разрушающие ради самого разрушения, бесчувственные, ушедшие всего на шаг от сознания настолько жестокого, что оно разрушает само себя еще в момент рождения. Здесь, на нашей пирамидальной третьей планете, предостаточно места для такого сознания.
– Что же на вершине пирамиды?
– На вершине находится такое чистое сознание, что оно с трудом может различить что-либо кроме света. Существа, живущие ради своих любимых, ради высшего порядка, создания идеальной перспективы, встречающие смерть с любящей улыбкой, какому бы чудовищу ни пришло лишить их жизни ради удовольствия видеть чью-то смерть. Такими существами, наверное, являются киты. Большинство дельфинов. Некоторые из нас, людей.
– Посредине находятся все остальные, – сказал он.
– Ты и я, малыш.
– А мы можем изменить мир?
– Безусловно, – сказал я. – Мы можем изменить мир так, как нам этого захочется.
– Не наш мир. Мир —можем ли мы сделать его лучше?
– Лучше для нас с тобой, – сказал я, – не значит лучше для всех.
– Мир лучше войны.
– Те, кто находится на вершине пирамиды, скорее всего, согласились бы.
– А те, кто на дне…
– …любят побоища! Всегда найдется причина для драки. Если повезет, то она может иметь оправдание: мы сражаемся за Гроб Господен, или ради защиты отечества, очищения расы, расширения империи или доступа к олову и вольфраму. Мы воюем, потому что нам хорошо платят, потому что разрушение возбуждает больше, чем созидание, потому что воевать легче, чем зарабатывать на жизнь трудом, потому что воюют все вокруг, потому что этого требует мужская гордость, потому, наконец, что нам нравится убивать.
– Ужасно, – сказал он.
– Не ужасно, – сказал я. – Это в порядке вещей. Когда на одной планете сосредоточено такое разнообразие мнений, конфликтов не избежать. Ты согласен с этим?
Он нахмурился.
– Нет.
– В следующий раз выбери планету пооднообразнее.
– Что, если следующего раза не будет? – сказал он. – Что, если ты ошибаешься, говоря о каких-то других жизнях?
– Это не имеет значения, – сказал я. – Мы строим наш личный мир спокойным или бурным в зависимости от того, как именно мы хотим жить. Мы можем создать мир посреди хаоса и разрушение посреди рая. Все зависит от того, куда мы направим свой дух.
– Ричард, – сказал он, – все, что ты говоришь, – так субъективно! Разве трудно представить, что могут существовать вещи, которые тебе не подвластны? Что может быть совершенно иная схема – например, что жизнь существует сама по себе, независимо от того, что ты думаешь или не думаешь, или что весь наш мир – это эксперимент инопланетян, наблюдающих за нами в микроскоп?
– Это тоскливо. Капитан, – не управлять самому. Быстро надоедает. Когда меня просто катают, я чувствую свою ненужность, и это меня злит. Не интересно лететь, когда ты не можешь управлять самолетом, тогда уж лучше выйти и пойти пешком. Пока эти инопланетяне достаточно спокойны и хитры, чтобы я не сомневался в том, что именно я —хозяин своей маленькой судьбы, я играю в их игру. Но как только они посмеют потянуть за ниточки, я их обрежу.
– Может быть, они тянут за ниточки о-ч-е-н-ь о-с-т-о-р-о-ж-н-о, – сказал он.
Я улыбнулся ему.
– До сих пор они себя не выдали. Но если я увижу эти ниточки на своих запястьях, в ту же минуту в ход пойдут ножницы.
Заканчивая документальное живописание катастроф, комментатор пожелал всем счастливого дня и выразил надежду встретиться с нами завтра.
Лесли повернулась ко мне.
– Это Дикки, не так ли?
– Откуда ты знаешь?
– Он беспокоится о будущем.
Она – телепат, подумал я.
– Ты что, разговаривала с ним?
– Нет, – ответила она. – Если бы его не обеспокоило то, что мы только что увидели, я бы подумала, что ты сходишь с ума.
Тридцать один
На следующее утро Лесли, что-то напевая, возилась со своим компьютером, когда я остановился у ее дверей. Я постучался.
– Это всего лишь я.
– Не всего лишь ты, – сказала она, подняв голову. – Ты – это очень многое! Ты мой любимый!
Чем бы она ни занималась в данный момент, у нее, по-видимому, все получалось. Если у нее что-то не выходит, она не напевает, не поднимает головы, она просто отводит мне лишнюю дорожку в своем сознании и продолжает одновременно заниматься всем остальным.
– Сколько ты весишь? – спросил я.
Она подняла руки над головой.
– Смотри.
– Отлично. Просто превосходно. Но, может быть, чуть-чуть меньше, чем нужно, тебе не кажется?
– Ты идешь за продуктами, – угадала она.
Я вздохнул. Бывало, мне хватало нескольких минут, чтобы ее обработать, причитая, как страшна анорексия, грозящая каждой работающей женщине, или предсказывая близящийся ледниковый период и сокращение мировых запасов продовольствия. Теперь Лесли способна раскусить мою самую тонкую игру.
Однако потеряно было не совсем все, так как мне удалось узнать, сколько она весит.
– Взять что-нибудь особенное? —спросил я в надежде у слышать: «Да! Торты, кексы и пирожные с заварным кремом».
– Крупу и овощи, – сказала она, сама Дисциплина. – Нам нужна морковь?
– Уже в списке, – ответил я.
Накануне того дня, как мы решим вознестись из наших тел, я испеку два лимонных пирога – по одному на каждого – и предложу съесть их, пока они не остыли, подумал я. Жена откажется, в шоке от моей потери контроля над собой, и я съем их сам.
Он нашел меня в рисовой секции отдела круп.
– Правда ли, что существует философия полета?
Я обернулся, обрадовавшись встрече.
– Дикки, да! Чтобы летать, мы должны верить в то, что не можем увидеть, не так ли? И чем больше мы узнаем о принципах аэродинамики, тем свободнее мы себя чувствуем в воздухе, вплоть до ощущения волшебства…
– Существует также и философия боулинга.
Этот внезапный переход так меня поразил, что я громко повторил вслед за ним:
– Боулинг?
В пшеничном отделе какая-то женщина подняла голову и взглянула на меня, разговаривающего в полном одиночестве, с большим пакетом коричневого риса в руке.
Я потряс головой и на миг улыбнулся ей: видите ли, я немного эксцентричен.
Дикки не обратил на это внимания.
– Должна быть, – сказал он. – Если существует философия полета, то должна существовать и философия боулинга – для тех, кому не нравятся самолеты.
– Капитан, – сказал я ему тихо, направляя свою тележку в угол с овощами, – нет таких людей, которым не нравились бы самолеты. Тем не менее существует и философия боулинга. Каждый из нас выбирает свою дорожку, и смысл в том, чтобы очистить ее от кеглей – наших жизненных испытаний, потом выставить время и начать сначала. Кегли специально сделаны неустойчивыми, они сбалансированы в расчете на падение. Но они так и будут маячить в конце нашей дорожки, пока мы не решимся предпринять какие-нибудь действия, чтобы убрать их с пути. Семь из десяти – это не катастрофа, а удовольствие, шанс проявить нашу дисциплину, умение и грацию в вынужденных обстоятельствах. И те, кто за этим наблюдают, получают такое же удовольствие, как и мы сами.
– Садоводство.
– Что посеешь, то и пожнешь. Думай, что выращиваешь, так как однажды это станет твоим обедом…
Я был настолько захвачен его внезапным тестом, что проехал мимо шоколадного отдела и даже не посмотрел в ту сторону, заранее готовя в уме метафоры о солнце, сорняках и воде для ответов на его возможные вопросы о философии прыжков с шестом, вождения гоночных машин, розничной торговли. В том, что большинство из нас называет любовью, подумал я, также кроется поразительная метафора и наилегчайший способ объяснить, почему мы выбираем Землю для игр.
– Но как все это действует, Ричард?
Он сразу же прикусил язык, ужаснувшись своей ошибке.
– Как, по твоему мнению, все это действует?
– Вселенная? Я уже рассказал.
Я выбрал сетку яблок с открытого лотка.
– Не Вселенная. Посев. Как и почему это происходит. Я понимаю, что это не так важно, раз, по-твоему, это все – только Образы. Но все же каким образом невидимые идеи превращаются в видимые объекты и события?
– Иногда мне хочется, чтобы ты был взрослым, Дикки.
– Почему?
Интересно, подумал я, выбирая пучок свеклы. Ни звука неудовольствия, когда я выразил свое желание видеть его взрослым, хотя это от него не зависело. Был ли я в свое время так же эмоционально развит, как этот смышленый мальчуган?
– Потому что мне потребовалось бы гораздо меньше слов на объяснение, если бы ты знал квантовую механику. Я свел физику сознания к сотне слов, но тебе потребовалась бы вечность, чтобы проникнуть в их суть. Ты никогда не будешь взрослым, и я никогда не смогу вручить тебе свой трактат, умещающийся на одной странице.
Любопытство одержало верх.
– Представь, что я – взрослый, знающий квантовую механику, – сказал он. – Как бы ты рассказал о работе сознания всего на одной странице? Конечно, я еще слишком мал, чтобы понять, но мне просто интересно было бы послушать. Можешь рассказывать так, как сочтешь необходимым, не делая скидки на мой возраст.
Это вызов, подумал я, он считает, что я блефую. Я покатил тележку с продуктами к кассе.
– Сначала я скажу название: Физика Сознания, или Популярно о Пространстве-Времени.
– Дальше пойдет резюме, – сказал он. Я воззрился на него. Я не знал слова «резюме», когда учился в школе. Откуда он знает?
– Точно, – сказал я. – А теперь я должен изложить свои мысли красивым шрифтом, как в «American Journal of Particle Science». Внимательно вслушивайся, и может, тебе удастся понять одно-два слова, хоть ты и ребенок.
Он засмеялся.
– Хоть я и ребенок.
Я прочистил горло и притормозил тележку возле кассы, радуясь минутной задержке в небольшой очереди.
– Так ты хочешь услышать все как есть и сразу?
– Как если бы я был квантовым механиком, – сказал он.
Вместо того чтобы исправлять его стилистическую ошибку, я рассказал ему все, что думал.
– Мы являемся фокусирующими точками сознания, – начал я, – с огромной созидательностью. Когда мы вступаем на автономную голограмметрическую арену, называемую нами пространство-время, мы сразу же начинаем в неистовом продолжительном фейерверке продуцировать творческие частицы, имаджоны. Имаджоны не имеют собственного заряда, но легко поляризуемы нашим отношением и силами нашего выбора и желания, образуя облака концептонов, принадлежащих к семейству частиц с очень большой величиной энергии и способных либо принимать позитивный или негативный заряд, либо быть нейтральными.
Он внимательно слушал, притворяясь, без сомнения, что понимает все до последнего слова.
– К основным типам позитивных концептонов относятся: экзайпероны, эксайтоны, рапсодоны и джовионы. К негативным – глумоны, торментоны, трибулоны, агононы, имизероны. [13]13
(Англ.) Частицы с позитивным зарядом: imagions – от imagination – воображение, фантазия; conceptons – от conceptions (понимание); exhilarons – от exhilaration (веселье, веселость); excutons – от excuse (прощение); rhapsodons – от rhapsody (восхищение); jovions —от joviality (веселость, общительность). И частицы с негативным зарядом: gloomons – от gloomy (мрачный, темный, хмурый); tormentons-от torment (мучение); tribulons – от tribulate (мучить, беспокоить); agonons – от agonize (испытывать сильные мучения, агонизировать); miserons – от miser (скупой, скряга) и, очевидно, от miserable (жалкий, несчастный).
[Закрыть]Бесконечное число концептонов рождается в непрерывном извержении, водопаде продуктивности, изливающемся из любого центра персонального сознания. Они образуют концептонные облака, которые могут быть как нейтральными, так и сильно заряженными – жизнерадостностью, невесомыми или свинцовыми, в зависимости от природы преобладающих в них частиц.
Каждую наносекунду бесконечное число концептонных облаков образуют критические массы, превращаясь путем квантовых взрывов в высокоэнергетические вероятностные волны, излучаемые с тахионной скоростью сквозь вечный резервуар, содержащий в сверхконцентрированном виде различные события. В зависимости от их заряда и природы, эти вероятностные волны кристаллизуют некоторые из этих потенциальных событий в соответствии с ментальной полярностью творящего их сознания на голографическом уровне.
Успеваешь, Дикки?
Он кивнул, и я рассмеялся.
– Материализованные события превращаются в опыт творящего их сознания, будучи для большей достоверности наделены всеми аспектами физической структуры. Этот автономный процесс – фонтан, порождающий все предметы и события в театре пространства-времени.
Правдоподобие имаджонной гипотезы каждый может легко подвергнуть проверке. Эта гипотеза утверждает, что, сконцентрировав наше сознание и мысли на положительном и жизнеутверждающем, мы поляризуем массы положительных концептонов, порождаем доброжелательные вероятностные волны и, таким образом, порождаем полезные для нас события, которые в ином случае не произошли бы.
Обратное справедливо для отрицательных и промежуточных событий. Намеренно или по ошибке, произвольно или в соответствии с неким замыслом, мы можем не только выбирать, но и творить видимые внешние условия, оказывающие значительное влияние на наше внутреннее состояние.
Конец.
Он подождал, пока я расплатился.
– И это все? – спросил он.
– Что-то не так? – спросил я. – Я в чем-то заблуждаюсь?
Он улыбнулся, ведь это отец научил нас обоих, как важно правильно произносить это слово[14]14
Англ. – Have I erred in any way?
[Закрыть].
– Откуда мне, ребенку, знать – заблуждаешься ты или нет?
– Можешь смеяться, если хочешь, – сказал я ему. – Давай, даже можешь назвать меня полоумным. Но через сотню лет кто-нибудь опубликует эти слова в «Modern Quantus Theory», и никому не придет в голову назвать это безумием.
Он встал на подножку тележки и поехал на ней, после того как я ее подтолкнул по направлению к машине.
– Если тобой не завладеют глумоны, – крикнул он, – такое вполне возможно.
Тридцать два
Я совершал пробный полет на Дейзи, медленно набирая двадцать тысяч футов для того, чтобы проверить действие турбонагнетателей на высоте. Недавно я заметил, что с высотой в обоих двигателях появляются странные скачки оборотов, и надеялся, что эту неисправность удастся устранить, просто смазав выпускные клапана.
Мир мягко проплывал в двух милях подо мной, медленно опускаясь до четырех; горы, реки и край моря с высотой все больше походили на расплывчатое изображение дома, нарисованное ангелом. Скорость набора высоты у Дейзи выше, чем у многих других легких самолетов, но, глядя вниз, казалось, что она лениво дрейфует по темно-голубому озеру воздуха.
– Из всего, что ты знаешь, – сказал Дикки, – скажи мне то, что, по-твоему, мне необходимо знать больше, чем все остальное, то единственное, что я никогда не забуду.
Я задумался над этим.
– Единственное?
– Только одно.
– Что ты знаешь о шахматах?
– Мне они нравятся. Отец научил меня играть, когда мне было семь лет.
– Ты любишь своего отца?
Он помрачнел.
– Нет.
– До того как он умрет, ты успеешь полюбить его за его любознательность, юмор и стремление прожить жизнь настолько хорошо, насколько это возможно с его набором суровых принципов. А пока – люби его за то, что он научил тебя играть в шахматы.
– Это всего лишь игра.
– Как и футбол, – сказал я, – и теннис, и баскетбол, и хоккей, и жизнь.
Он вздохнул.
– И это – та единственная вещь, которую мне необходимо знать? Я ожидал чего-то… более глубокого, – сказал он. – Я надеялся, что ты поделишься со мной каким-нибудь секретом. Все ведь говорят, что жизнь – это игра.
На шестнадцати тысячах обороты заднего двигателя начали пульсировать —почти незаметные нарастания и спады, хотя топливная система работала нормально. Я передвинул вперед рычаг шага винта, и двигатель заработал устойчивее.
– Ты хочешь услышать секрет? – спросил я. – Иногда, хоть и очень редко, то, что говорят все вокруг, оказывается истинным. Что, если все вокруг правы, и эта псевдожизнь на этой псевдо-Земле – в самом деле игра?
Он повернулся ко мне, озадаченный.
– Что же тогда?
– Допустим, что наше пребывание здесь – это спорт, цель которого – научиться делать выбор с как можно более длительными положительными последствиями. Жестокий спорт, Дикки, в котором трудно выиграть. Но если жизнь – это игра, что о ней можно сказать?
Он подумал.
– Она имеет свои правила?
– Да, – сказал я. – Каковы они?
– Нужно быть готовым…
– Абсолютно точно. Нужно быть готовым участвовать с настроенным сознанием.
Он нахмурился.
– Что-что?
– Если мы не настроим должным образом свое сознание, Капитан, мы не сможем играть на Земле. Знающему, какова должна быть совершенная жизнь, придется отбросить свое всезнание и довольствоваться только пятью чувствами. Слышать частоты только в полосе от двадцати до двадцати тысяч герц и называть это звук, различать спектр только от инфракрасного до ультрафиолетового и называть это цвет, принимать линейное направление времени от прошлого к будущему в трехмерном пространстве в двуногом прямостоящем углеродном теле наземной млекопитающей жизненной формы, приспособленной к жизни на планете класса М, вращающейся вокруг звезды класса О. Вот теперь мы готовы к игре.
– Ричард…
– Это и есть те правила, которым мы следуем, ты и я!
– Не знаю, как ты, – сказал он, – но…
– Смотри на это как хочешь, – сказал я. – Мысленный эксперимент. Что, если бы для тебя не существовало ограничений? Что, если бы ты, наряду с видимым светом, мог различать еще и ультрафиолетовые, инфракрасные и рентгеновские лучи? Имели бы дома, и парки, и люди для тебя такой же вид, как для меня? Видели бы мы одинаково один и тот же пейзаж? Что, если бы твое зрение воспринимало настолько малые величины, что стол казался бы тебе горой, а мухи – птицами? Как бы ты жил? Что, если бы ты мог слышать любой звук, любой разговор в радиусе трех миль? Как бы ты учился в школе? Что, если бы ты имел тело, отличное от человеческого? Если бы ты помнил будущее до твоего рождения и прошлое, которое еще не произошло? Думаешь, мы бы приняли тебя в игру, если бы ты не следовал нашим правилам? Кто бы, по-твоему, стал с тобой играть?
Он склонил голову влево, потом вправо.
– О'кей, – уступил он, не так впечатленный этими правилами, как я сам, но все же разминаясь перед очередным тестом. – Игра также обычно имеет какую-то игровую площадку – доску, или поле, или корт.
– Да! И?
– В ней участвуют игроки. Или команды.
– Да. Без нас игра не состоится, – сказал я. – Какие еще правила?
– Начало. Середина. Конец.
– Да. И?
– Действие, – сказал он.
– Да. И?
– И все, – сказал он.
– Ты забыл основное правило, – сказал я. – Роли. В каждой игре нам отводится какая-то роль, наше обозначение на время игры. Мы становимся спасателем, жертвой, лидером-который-все-знает, исполнителем-без-инициативы, умным, смелым, честным, хитрым, ленивым, беспомощным, живущим-кое-как, дьявольским, беспечным, жалким, серьезным, беззаботным, солью-земли, марионеткой, клоуном, героем… наша роль зависит от каприза судьбы, но в любой момент мы можем ее поменять.
– Какова твоя роль? – спросил он. – В данную минуту.
Я засмеялся.
– В данную минуту я играю Довольно-Неплохого-Парня-из-Твоего-Будущего-с-Некоторыми-Доморощенными-Идеями-Полезными-дпя-Тебя. А твоя?
– Я притворяюсь Мальчиком-из-Твоего-Прошлого-Кото-рый-Хочет-Знать-Как-Устроен-Мир.
Он очень странно посмотрел на меня, произнося эту фразу, как будто его маска на мгновение спала и он понял, что и я вижу сквозь его роль. Но я был слишком увлечен своей собственной игрой, чтобы на моем лице отразился интерес именно к этому моменту.
– Отлично, —сказал я. —А теперь попробуй на время выйти из игры, но продолжай мне о ней рассказывать.
Он улыбнулся, потом нахмурил брови.
– Что ты имеешь в виду?
Я накренил самолет вправо и направил к земле, в трех милях под нами.
– Что ты можешь сказать об играх с такой высоты?
Он взглянул вниз.
– О! – сказал он. – Их там множество, и они идут одновременно. В разных комнатах, на разных кортах, разных полях, городах и странах…
– …разных планетах, галактиках и вселенных, – сказал я. – Да! И?
– Разных временах! – сказал он. – Игроки могут играть одну игру за другой.
Глядя отсюда, он наконец понял.
– Мы можем играть за разные команды, ради удовольствия или ради денег, с легким противником или с тем, у кого нам никогда не выиграть…
– А тебе нравится играть, когда ты заранее знаешь, что не можешь проиграть?
– НЕТ! Чем труднее, тем увлекательнее!
Он подумал еще раз.
– До тех пор, пока я выигрываю.
– Если бы не было риска, если бы ты знал, что не можешь проиграть, если бы ты заранее знал исход игры, смогла бы она тебя увлечь?
– Интереснее не знать.
Он резко повернулся ко мне.
– Бобби знал исход.
– Была ли его жизнь трагедией, раз он умер таким юным?
Он посмотрел в окно, снова вниз.
– Да. Я уже никогда не узнаю, кем он мог бы стать. Кем я мог бы стать.
– А если представить, что жизнь – это игра. Счел бы Бобби свою жизнь трагедией?
– Как насчет мысленного эксперимента?
Я улыбнулся.
– Ты и Бобби играете в шахматы в прекрасном доме с множеством комнат. В середине игры твой брат начинает понимать, как она закончится, других вариантов нет, тогда он прекращает играть и уходит смотреть дом. Считает ли он происходящее трагедией?
– Не интересно играть, зная исход, и к тому же он хочет взглянуть на другие комнаты. Для него никакой трагедии нет.
– Трагедия для тебя, когда он выходит?
– Я не плачу, – сказал он, – когда кто-то выходит из комнаты.
– Теперь приблизим к себе шахматную доску. Вместо игрока ты сам становишься игрой. Шахматные фигурки именуются Дик-ки и Бобби и Мама и Отец, и вместо дерева они сделаны из плоти и крови и знают друг друга всю свою жизнь. Вместо клеток – дома и школы, улицы и магазины. И вот игра оборачивается так, что фигурка с именем Бобби взята в плен. Он исчезает с доски. Это трагедия?
– Да! Он теперь не просто в другой комнате, его нет! Никто не может его заменить, и до конца своей жизни мне придется играть без него.
– Таким образом, чем ближе мы к игре, – сказал я, – чем больше мы в нее вовлечены, тем больше потеря походит на трагедию. Но потеря – это трагедия только для игроков, Дикки, только тогда, когда мы забываем, что это всего лишь шахматы, когда мы думаем, что на свете существует только наша доска.
Он внимательно смотрел на меня.
– Чем больше мы забываем, что это игра, а мы игроки, тем более чувствительны к ней мы становимся. Но жизнь – это тот же бейсбол или фехтование – как только игра закончена, мы вспоминаем: ох, я же играл потому, что люблю спорт!
– Когда я забываю, – спросил он, – мне нужно только подняться над шахматной доской и взглянуть на нее сверху?
Я кивнул.
– Тебя научили этому полеты, – сказал он.
– Меня научила этому высота. Я взбираюсь сюда и смотрю вниз на множество шахматных досок по всей Земле.
– Ты печалишься, когда кто-нибудь умирает?
– О них – нет, – ответил я. – И о себе тоже. Горе – это погружение в жалость к самому себе. Каждый раз, когда я его переживал, я выходил из него очищенным, но холодным и мокрым. Я не мог заставить себя понять, что смерть в пространстве-времени не более реальна, чем жизнь в нем, и через какое-то время оставил попытки.
Я вышел на двадцать тысяч футов и передвинул сектора газа назад, к крейсерской скорости. Двигатели среагировали с запаздыванием, но это нормально. Выпускные клапаны турбонагнетателей были полностью закрыты, направляя белый огонь прямо в турбины. За бортом было минус двадцать, и вряд ли огня выхлопных патрубков хватило бы на то, чтобы расплавить серебро.
На таком контрасте, подумал я, мы и летаем.
– Большинство людей считают, что скорбь необходима, что горе здоровее морковного сока и лесного воздуха. Я слишком прост, чтобы это понять. Когда мы понимаем смерть, горе становится не более необходимым, чем страх, когда мы понимаем принцип полета. Зачем оплакивать того, кто не умер?
– Так принято? – спросил он. – Предполагается, что нужно горевать, когда люди исчезают.
– Почему? – спросил я.
– Потому что предполагается, что ты должен отбросить размышления и отдаться тому, что видишь, чувствуя себя при этом несчастным! Таковы правила, Ричард! Все так поступают!
– Не все. Капитан. В каждом горе должен быть смысл, а пока он есть, к чему нам горевать? Если бы я хотел сказать тебе самое главное о жизни, я бы попросил тебя никогда не забывать, что это – всего лишь игра.
В это время задний двигатель опять начал барахлить, при этом одновременно заплясали стрелки тахометра, давления наддува и топливного давления.
– Черт! – сказал я, не понимая, в чем дело.
– Это просто игра, Ричард.
– Чертик, – сказал я, смягчаясь.
Я подал ручку вперед, и мы начали снижение.
– Скажи мне что-нибудь еще, что мне необходимо знать. Несколько правил на каждый день.
– Правил, – сказал я.
Мне всегда нравилось, когда несколько слов вмещали огромный смысл.
Когда проворачиваешь винт под компрессией, не удивляйся, если двигатель заведется.
Он повернулся ко мне, вопросительно подняв брови. – Это авиационное правило, – сказал я. – Принцип Неожиданных Последствий. Лет через двадцать ты поймешь, насколько он глубок.
Каждый настоящий учитель – это я сам в маске.
– Это правда? – спросил он.
– Ты действительно хотел бы услышать несколько первоклассных правил?
– Да, если можно.
– В данный момент я перебираю всю свою жизнь, чтобы бескорыстно передать тебе все, что я заработал в обмен на время. Ты чрезвычайно умен, и если даже ты не поймешь их сейчас, я думаю, что они вернутся к тебе позднее, когда придет время.
– Да, сэр, – кротко, как подобает изучающему Дзэн.
Тот, кто ценит безопасность выше счастья, по этой цене ее и получает.
Когда в лесу падает дерево, звук от его падения разносится повсюду; когда существует пространство-время, существует и наблюдающее за ним сознание.
Вина – это наше стремление изменить прошлое, настоящее или будущее в чью-то пользу.
Некоторые решения мы переживаем не один, а тысячу раз, вспоминая их до конца жизни.
Какое счастье для нас, что мы не можем помнить наши предыдущие жизни, подумал я. Иначе мы просто не смогли бы двигаться дальше, парализованные воспоминаниями.
Мы не знаем ничего до тех пор, пока не согласится наша интуиция.
Задний двигатель вернулся в нормальный режим на шестнадцати тысячах футов. По-видимому, с этим турбонагнетателем что-то не очень серьезное, просто какая-то небольшая неисправность.
Пойми как можно раньше: мы никогда не взрослеем.
В момент когда мы видим перед собой человека, мы видим только кадр из его жизни – в нищете или роскоши, в печали или радости. Один кадр не может вместить миллионы решений, предшествовавших этому моменту.
– Спасибо, Ричард, – сказал Дикки. – Это прекрасные правила. По-моему, мне достаточно.
Первый признак потребности в изменении – смертельная угроза некоему статус-кво.
Вынуждающая причина никогда не убедит слепое чувство.
Жизнь не требует от нас быть последовательными, жестокими, терпеливыми, полезными, злыми, рациональными, беспечными, любящими, безрассудными, открытыми, нервными, осторожными, суровыми, расточительными, богатыми, угнетенными, кроткими, пресыщенными, деликатными, смешными, тупыми, здоровыми, жадными, красивыми, ленивыми, ответственными, глупыми, щедрыми, сластолюбивыми, предприимчивыми, умелыми, проницательными, капризными, мудрыми, эгоистичными, добрыми или фанатичными. Жизнь требует от нас жить с последствиями наших решений.
– Ладно, – сказал он. – Смотрю, приходится платить за доступ к твоему жизненному опыту. Спасибо. Правил уже предостаточно!
Альтернативные жизни подобны пейзажам, отраженным в оконном стекле… они так же реальны, как наша текущая жизнь, но менее ясно различимы.
Если вина лежит не на нас, то мы не можем принять и ответственность за это. Если мы не можем принять ответственность, мы всегда будем оставаться жертвой.
– Спасибо, Ричард.
Наша истинная страна – это страна наших ценностей, – продолжал я, – а наше сознание – это голос ее патриотизма.








