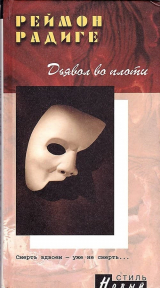
Текст книги "Дьявол во плоти"
Автор книги: Реймон Радиге
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Поль вспоминал все игры и проказы, сценой которых был их сад. А я с жадностью слушал, потому что в этих воспоминаниях Марта представала в новом для меня свете. И в то же время мне было грустно, потому что я сам находился слишком близко к детству, чтобы забыть те игры, о которых не знали наши родители; взрослые либо не сохраняют о них никакого воспоминания, либо относятся как к неизбежному злу. Я ревновал Марту к ее прошлому.
Поскольку мы со смехом рассказали Полю о ненависти Мартиного домохозяина и о светском приеме четы Маренов, то он, воодушевившись, предложил нам воспользоваться своей холостяцкой квартирой в Париже.
Я заметил, что Марта не осмелилась признаться ему о наших планах совместной жизни. Мы оба чувствовали, что он поощрял нашу любовь, лишь покуда это его забавляло, но стоит делу дойти до скандала, и он завоет вместе с волками.
Марта сама подавала на стол; прислуга последовала на г-жой Гранжье в деревню, потому что Марта заявила ей из осторожности, что хочет немного пожить как Робинзон. Родители считали свою дочь натурой романтической, а так как, по их мнению, натуры романтические сродни безумцам, которых лучше не трогать, то они оставили свою дочь в покое.
Мы засиделись за столом допоздна. Поль доставал из подвала лучшие бутылки. Мы веселились, но было в этой веселости что-то такое, о чем, как мы догадывались, мы потом наверняка пожалеем. Ведь Поль, как ни крути, выступал в качестве наперсника супружеской измены. Он вовсю насмехался над Жаком. Промолчав, я рисковал дать ему почувствовать недостаток такта с его стороны, но я предпочитал скорее присоединиться к игре, чем унизить такого сговорчивого кузена.
Когда мы взглянули на часы, последний поезд уже ушел. Марта предложила Полю переночевать у нее. Тот согласился. Я посмотрел на Марту такими глазами, что она тут же добавила: «разумеется, дорогой, ты тоже останешься». У меня возникло впечатление, будто я сам – Мартин супруг, принимающий родственника своей жены, когда на пороге нашей спальни возник Поль и, пожелав нам спокойной ночи, как ни в чем не бывало чмокнул в щеку свою кузину.
В конце сентября я ясно почувствовал, что расстаться с этим домом значит расстаться с нашим счастьем. Еще несколько месяцев отсрочки, и нам придется выбирать: жить по правде, или во лжи. Причем одно стоило другого. Поскольку важно было, чтобы родители не оставили Марту раньше рождения ребенка, я осмелился, наконец, спросить у нее: сообщила ли она им о своей беременности? Она сказала, что да, и Жаку тоже. Это предоставило мне, таким образом, случай убедиться, что порой она лгала мне; ведь в мае, после Жаковой побывки, она клялась, что не подпускала его к себе.
Ночь спускалась все раньше и раньше, и холод вечеров уже препятствовал нашим прогулкам. В Ж… нам было трудно встречаться. Чтобы остаться незамеченными, приходилось принимать кучу предосторожностей, словно ворам, стараясь не попасться на глаза ни домовладельцу, ни Маренам.
Октябрьская грусть, уныние этих вечеров, еще недостаточно холодных, чтобы разжигать огонь, загоняли нас в постель с пяти часов. В доме моих родителей ложиться днем означало одно: заболеть. Эта постель в пять часов меня просто зачаровывала. Я не думал, чтобы кто-то другой мог делать то же самое. Я был один одинешенек – неподвижно лежащий возле Марты посреди активного мира. Я едва осмеливался теперь взглянуть на ее наготу. Неужели я такое чудовище? Я терзался муками совести, словно какой-нибудь «благородный» персонаж на сцене. Так изуродовать ее красоту! Видя этот выпирающий живот, я чувствовал себя вандалом. Когда наша любовь только-только зарождалась, разве не говорила она мне, когда я кусал ее: «Пометь меня»? Не пометил ли я ее так, что хуже некуда?
Теперь Марта была для меня не только больше всего любимой (больше – отнюдь не означает лучше), она заменяла мне всё. Я не только не сожалел о своих друзьях, напротив, я их опасался, зная, что они, сбивая нас с нашего пути, будут считать, что оказывают добрую услугу. К счастью, друзья всегда считают наших любовниц несносными и недостойными нас. В этом наше единственное спасение. Если бы дело обстояло иначе, они бы первыми их у нас отняли.
Моего отца, наконец, проняло – он испугался. Но, поскольку раньше во всех стычках со своими сестрой и с женой он принимал мою сторону, то и сейчас не хотел, чтобы дело выглядело так, будто он от меня отступается. Поэтому, ничего им не говоря, он втихомолку насмехался над ними. Но наедине со мной заявил, что готов на все пойти, чтобы разлучить нас с Мартой. Он поставит в известность ее родителей, ее мужа… На следующий день он опять оставлял меня в покое.
Я догадывался о его слабости. Я даже пользовался ею. Осмеливался отвечать. Я огорчал его в том же смысле, что и мать с теткой, упрекая за то, что он слишком поздно решился употребить свой авторитет. Разве не сам он хотел, чтобы мы познакомились с Мартой? В свою очередь и он корил себя за это. В доме витало предчувствие беды. Что за пример для моих братьев! Отец уже предвидел, что однажды не сможет ничего им возразить, когда они станут оправдывать собственное непослушание, ссылаясь на мое.
До этого он еще верил, что речь идет просто об увлечении, интрижке, но моя мать снова перехватила пашу переписку. Торжествуя, она принесла эти вещественные доказательства на его суд. Марта писала о нашем совместном будущем и о нашем ребенке!
Мать считала меня слишком маленьким, чтобы поверить, будто обязана мне внуком или внучкой. Ей казалось невозможным сделаться бабушкой в ее возрасте. Собственно, это и было для нее самым веским доказательством, что ребенок – никак не мой.
Порядочность вполне может сочетаться с самыми низменными чувствами. Моя мать, при всей своей глубокой порядочности, не была способна уразуметь, как могла какая-то женщина решиться изменить своему мужу. Уже этот поступок сам по себе представлял для нее такое распутство, что ни о какой любви и речи идти не могло. То, что я был любовником Марты, для моей матери означало, что она наверняка имела и других. Отец-то знал, насколько ложным может быть подобное рассуждение, но он тоже пользовался им, чтобы заронить сомнения в мою душу и принизить Марту в моих глазах. Он намекал мне, что я, дескать, был единственным, кто об этом «не знал». Я отвечал, что на нее клевещут из-за ее любви ко мне. Отец, не желая, чтобы я обратил себе на пользу эти слухи, уверял меня, что они предшествовали не только нашей связи, но даже ее браку.
Сохраняя таким образом пристойный фасад нашего дома, он вдруг терял всякую выдержку, стоило мне там не появиться несколько ночей подряд, и отправлял к Марте горничную с запиской, адресованной мне, приказывая немедля вернуться, иначе мол, он заявит о моем бегстве в префектуру полиции и подаст в суд на г-жу Лакомб за растление несовершеннолетних.
Марта, соблюдая приличия, принимала удивленный вид, отвечая горничной, что передаст мне записку при первой же возможности, как только я появлюсь. Некоторое время спустя я возвращался вслед за горничной, проклиная свой возраст, мешающий мне располагать самим собой. Дома ни отец, ни мать рта не открывали. Я рылся в Кодексе, не находя статей закона, касающихся несовершеннолетних. И я с замечательной беззаботностью отказывался верить, что мое поведение способно привести меня в исправительный дом. Наконец, истрепав понапрасну Кодекс, я принялся за Большой Словарь Ларусса, где раз десять перечитал статью «Несовершеннолетие», так и не обнаружив ничего такого, что касалось бы нас с Мартой.
На следующий день отец опять оставлял меня в покое.
Для тех, кто стал бы искать причины столь странного поведения, я резюмирую его в трех строчках: сначала он позволял мне поступать по моему усмотрению; потом начинал этого стыдиться, угрожал, злясь больше на себя самого, чем на меня; и, наконец, опять устыдившись, теперь уже за свой гнев, снова отпускал поводья.
Г-жу Гранжье по возвращении насторожили коварные вопросы соседей. Притворяясь, будто верят, что я брат Жака, они поведали ей о нашем совместном житье. А поскольку и Марта не могла удержаться, чтобы не упомянуть мое имя или не сообщить, что я сказал и сделал по тому или иному поводу, у ее матери недолго оставались сомнения насчет личности этого самого брата.
Но она еще извиняла Марту, считая, что ребенок (отцом которого она безусловно считала Жака) положит конец этому безрассудству. Г-ну Гранжье она ничего не рассказала, опасаясь скандала. Но отнесла эту скрытность на счет своего душевного величия, которое склоняло ее к тому, чтобы предупредить Марту, дабы та, в свою очередь, была ей признательна. Она без конца изводила свою дочь, лишь бы доказать, что ей все известно, говорила намеками, да так неуклюже, что даже г-н Гранжье наедине с супругой умолял ее поберечь их невинную бедняжку-дочь, чтобы эти бесконечные домыслы не заморочили ей, наконец, голову. На что г-жа Гранжье отвечала иногда простой улыбкой, но так, чтобы дать понять своему мужу, будто их дочь во всем ей призналась.
Такое ее поведение (как и поведение во время первого отпуска Жака) склоняет меня к мысли, что если г-жа Гранжье и не одобряла полностью свою дочь, то единственно лишь ради удовольствия опровергнуть и своего мужа, и своего зятя, а самой оказаться правой в любом случае. В сущности, г-жа Гранжье даже восхищалась Мартой за то, что та обманула своего мужа, на что сама она никогда не могла решиться – то ли из щепетильности, то ли просто из-за того, что случай не подвернулся. Ее дочь как бы отомстила за нее, будучи непонятой, считала она. Она лишь сердилась на нее (в силу своего простоватого идеализма) за то, что она полюбила такого юнца, как я, способного еще меньше, чем кто бы то ни было, понять «женскую утонченность».
Лакомбы, которых Марта навещала все реже и реже, не могли что-либо заподозрить, проживая в Париже. Просто Марта казалась им все более странной, и все меньше нравилась. Их беспокоило будущее. Они задавались вопросом: что станет с этой парой через несколько лет. Все матери на свете ничего так страстно не желают для своих сыновей, как вступления в брак, но никогда не одобряют жен, которых те выбрали. Вот и мать Жака жаловалась на сына за то, что тот выбрал такую жену. Что касается Жаковой сестры, м-ль Лакомб, то ее злословие находило главный довод в том, что Марта, якобы, хранила тайну некоей идиллии, зашедшей достаточно далеко в то лето, когда они с Жаком только познакомились на море. Эта сестрица предрекала самое мрачное будущее, утверждая, что Марта наверняка изменит Жаку, если уже не сделала этого. Злопыхательство жены и дочери вынуждали порой г-на Лакомба, человека порядочного и любившего Марту, выходить из-за стола. Тогда мать и дочь обменивались многозначительными взглядами. Взгляд г-жи Лакомб означал: «Вот, сама видишь, как женщины такого сорта умеют привораживать мужчин». А взгляд м-ль Лакомб: «Именно потому, что я не какая-нибудь там Марта, мне и не удается выйти замуж». В действительности же эта несчастная под тем предлогом, что, мол, «другие времена, другие нравы» и что, мол, браки нынче не заключаются по старинке, заставляла сбегать своих вероятных мужей именно благодаря своей излишней сговорчивости. Ее виды на очередное замужество длились ровно столько, сколько длится курортный сезон. Молодые люди обещали, что как только окажутся в Париже, тотчас же зайдут просить ее руки, но больше не подавали признаков жизни. Главное обвинение этой барышни, которая, похоже, вовсю готовилась остаться старой девой, состояло в том, что Марта слишком уж легко нашла себе мужа. И она утешалась тем, что только такой простофиля, как ее братец, мог позволить подцепить себя.
Однако, каковы бы ни были подозрения обоих семейств, никто и не предполагал все же, что ребенок Марты мог иметь другого отца, нежели Жак. Я был этим весьма раздосадован. Случались даже дни, когда я обвинял Марту в трусости, в том, что она еще не сказала всем правду. Склонный видеть у всех ту же слабость, которая была свойственна только мне, я думал, что раз г-жа Гранжье закрывала глаза, слегка коснувшись самого начала драмы, то она сохранит их закрытыми до самого конца.
Гроза приближалась. Мой отец угрожал переслать некоторые письма г-же Гранжье. Я весьма надеялся, что он исполнит свою угрозу. Потом поразмыслил. Наверняка г-жа Гранжье утаит эти письма от своего мужа. Впрочем, оба были заинтересованы, чтобы гроза так и не разразилась. Я задыхался. Я призывал эту грозу. Нужно было, чтобы отец переслал эти письма непосредственно Жаку.
И вот настал тот день – день гнева, – когда он сказал мне, что дело сделано. Я чуть не бросился ему на шею. Наконец-то! Наконец он оказал мне эту долгожданную услугу – сообщил Жаку именно то, что мне было так важно, чтобы он узнал. Я жаловался в душе на своего отца за то, что он поверил, будто моя любовь настолько слаба. К тому же эти письма положат, наконец, предел Жаковым излияниям, его умилению нашим ребенком. Моя горячка мешала мне понять, насколько этот поступок был бы безумен, невозможен. Я начал прозревать лишь на следующий день, когда отец, уже овладев собой, попытался меня успокоить (как ему казалось), признавшись, что это неправда. Такой поступок он счел бы бесчеловечным. Но в чем состоит человечность, и в чем – бесчеловечность?
Я истощал свои нервные силы в трусости, дерзости, истерзанный тысячью противоречий моего возраста, пытаясь справиться с приключением взрослого мужчины.
Любовь лишила меня чувствительности ко всему, что не было Мартой. Мне и в голову не приходило, что мой отец тоже мог страдать. Я обо всем судил так превратно и мелко, что всерьез решил, будто между нами наконец-то объявлена война. И я попирал свой сыновий долг не столько даже из-за любви к Марте, сколько (осмелюсь в этом признаться) из желания причинить ему боль, помучить.
Больше я не обращал внимания на записки, которые отец посылал к Марте. Именно она упрашивала меня быть рассудительным и почаще бывать дома. Тогда я кричал на нее: «Значит, ты тоже против меня!» Я стискивал зубы, топал ногами. В том, что я прихожу в такое состояние из-за разлуки с нею на каких-то несколько часов, Марта видела признаки страсти. И эта уверенность, что она любима, придавала ей такую твердость, какой я у нее еще никогда не видел. Она не сомневалась, что я все равно буду думать о ней, поэтому и настаивала, чтобы я вернулся домой.
Скоро я подметил, откуда бралось это мужество. И я изменил тактику: делал вид, что поддаюсь на ее уговоры. Тогда она вдруг менялась в лице. Видя меня таким благоразумным (или таким покладистым), она пугалась, не стал ли я ее меньше любить. И тогда она наоборот, просила меня остаться, так как нуждалась в том, чтобы ее успокоили.
Однако как-то раз ничто не помогло. Я к этому времени уже трое суток ногой не ступал в дом моих родителей и убеждал Марту, что проведу у нее еще одну ночь. Чтобы отговорить меня от этого решения, она испробовала всё: ласки, угрозы. Она тоже научилась притворяться. И заявила в конце концов, что если я не вернусь к своим родителям, то она пойдет к своим.
Я ответил, что мой отец ничуть не оценит этот ее красивый жест. «Ну так что ж!» – она тогда не пойдет к своей матери. Она пойдет на берег Марны, простудится и умрет. Так она избавится, наконец, от меня. «Пожалей хотя бы нашего ребенка, – говорила Марта, – не подвергай опасности его жизнь ради собственного удовольствия». Она обвинила меня в том, что я забавляюсь ее любовью, испытывая, есть ли ей какой-то предел. Столкнувшись с таким упрямством, я привел слова моего отца, что она, мол, обманет меня с первым встречным, а я не хочу быть глупцом до такой степени. «Одно единственное соображение мешает мне уступить – ты сегодня же вечером сбежишь к какому-нибудь своему любовнику». Что ответить на такую дикую несправедливость? Она отвернулась. Про себя я упрекнул ее, что она отреагировала даже слишком спокойно. В конце концов я обработал ее так основательно, что она согласилась провести эту ночь со мной. При условии, правда, что это произойдет не у нее, а где-нибудь в другом месте. Она ни за что на свете не хотела, чтобы хозяева могли сказать завтра посланцу моих родителей, что я провел ночь здесь.
Где переночевать?
Мы были словно дети, вставшие на стул и гордые, что на целую голову превосходим взрослых. Нас возвышали обстоятельства, но при этом мы сами не были способны ни на что. И если из-за нашей неопытности некоторые сложные вещи казались нам совсем простыми, то зато простейшие становились неодолимыми препятствиями. Мы бы никогда не решились воспользоваться холостяцкой квартирой Поля. Я был уверен, что ни за что не смогу объяснить привратнице, сунув ей монету, что мы будем туда иногда заглядывать.
Стало быть, нужно было искать ночлег в гостинице. Раньше мне этого делать не приходилось. Я дрожал при одной мысли, что придется переступить ее порог.
Детство ищет оправданий. Вынужденное постоянно оправдываться перед родителями, оно лжет в силу необходимости.
Мне казалось, что я обязан оправдываться даже перед швейцаром заштатной гостиницы. Вот почему, под предлогом, что нам понадобиться белье и некоторые туалетные принадлежности, я заставил Марту собрать чемодан. Мы спросим две отдельные комнаты. Подумают, что мы брат с сестрой. Никогда я не осмелился бы спросить один номер на двоих, особенно учитывая мой возраст (в котором дают себя выставить из игорных заведений), весьма подходящий для всяких оскорблений.
Это путешествие в одиннадцать часов вечера показалось мне бесконечным. Кроме нас в вагоне было еще двое – армейский капитан и его жена, провожавшая его на Восточный вокзал. В поезде было темно и холодно. Марта прижалась лбом к влажному стеклу. И все это ей приходилось терпеть из-за каприза злого мальчишки. Я был достаточно стыдлив, и я мучился, думая, насколько Жак, всегда такой нежный и заботливый, больше меня заслуживал Мартину любовь. И я не мог помешать себе повиниться перед ней вполголоса. Она покачала головой: «Нет, я предпочитаю быть несчастной с тобой, чем счастливой с ним». Вот слова любви, которые ничего, в сущности, не означают и которые неловко пересказывать, но услышанные из любимых уст, опьяняют вас. Мне показалось даже, что я понял ее слова. Однако, что они означали на самом деле? Можно ли вообще быть счастливым с тем, кого не любишь?
И я спрашивал себя, как спрашиваю до сих пор, дает ли нам любовь право отнимать женщину у ее судьбы, может быть и заурядной, но исполненной душевного покоя? «Я предпочитаю быть несчастной с тобой…» – не было ли в этих словах неосознанного упрека? Разумеется, Марта познала со мной (потому что любила) такие мгновения, каких никогда не знавала с Жаком. Но давало ли мне это право быть жестоким?
Мы сошли на Бастильском вокзале. Холод, который я могу сносить, потому что считаю его самой чистой вещью на свете, был под вокзальным навесом грязнее, чем жара в морском порту, но совершенно лишен той веселости. Марта пожаловалась на судороги. Она цеплялась за мою руку. Жалкая парочка – забывшая свою молодость, красоту, стыдящаяся сама себя, словно пара побирушек!
Я считал, что Марта в своей беременности выглядит нелепо, и шел опустив глаза. Я был весьма далек от того, чтобы гордиться своим отцовством.
Мы бродили под ледяным дождем между Бастильским и Лионским вокзалами. Возле каждой гостиницы, лишь бы туда не входить, я изобретал какую-нибудь отговорку. Марте я объяснял, что ищу привокзальную гостиницу – исключительно для приезжающих.
На площади возле Лионского вокзала хитрить стало трудно. Марта велела прекратить эту пытку.
Пока она ждала снаружи, я вошел в вестибюль, сам не зная, на что надеюсь. Меня спросили, не угодно ли мне комнату. Было так легко ответить: да. Но это было бы слишком легко, и я, пытаясь оправдаться, как гостиничный воришка, пойманный с поличным, спросил, не здесь ли проживает г-жа Лакомб? Я задавал этот вопрос краснея, в страхе, что мне ответят: «Да вы смеетесь, молодой человек! Она же на улице». Портье справился по спискам. Должно быть, я ошибся адресом. Я вышел, объяснив Марте, что здесь нет мест и что поблизости мы тоже вряд ли их найдем. Я перевел дух. Я спешил, словно вор, который чуть-чуть не попался.
До этого момента моя навязчивая идея – избегать гостиниц, по которым я таскал Марту, – мешала мне подумать о ней. Теперь я взглянул на нее. Бедняжка! Я еле сдержал свои слезы, когда она спросила меня, где мы будем искать постель. Я стал умолять ее не держать зла на больного и благоразумно вернуться по домам, она – в Ж…, я – к моим родителям. На больного! Благоразумно! Она машинально улыбнулась, слыша эти не ко времени и не к месту сказанные слова.
Мой стыд еще больше драматизировал наше возвращение. Когда после всех своих мучений Марта имела несчастье сказать мне: «Какой ты все-таки был злой», я вспылил, решив, что ей не хватает великодушия. Если бы она наоборот, промолчала, сделала бы вид, что забыла, я бы испугался, что она действительно считает меня больным – душевнобольным. Я бы тогда не успокоился до тех пор, пока не заставил ее сказать, что она ничего не забыла, и что даже если она меня простит, то все равно нельзя допустить, чтобы я так пользовался ее великодушием, и что однажды, устав от моих выходок, она оставит меня одного, потому что усталость одолеет любовь. Когда я заставлял ее говорить с такой энергией, то, хоть сам и не верил в эти угрозы, испытывал сладкую боль, ощущение, сравнимое по силе с тем, что дают «русские горки». Тогда я набрасывался на Марту и целовал гораздо более страстно, чем когда бы то ни было.
– Повтори, что меня бросишь, – говорил я ей, задыхаясь и стискивая в своих объятиях изо всех сил. Покорная, какой не может быть даже рабыня, но один только медиум, она повторяла, чтобы доставить мне удовольствие, слова, в которых сама ничего не понимала.
Эта ночь в поисках гостиниц была переломной, хоть я и мало отдавал себе в этом отчет после стольких других сумасбродств. Но если сам я считал, что можно всю жизнь проковылять таким образом, то Марта, забившаяся в уголок вагона, измученная, ошеломленная, стучащая зубами Марта поняла все. Быть может, она даже увидела за время этой гонки длиною в год в машине с безумным водителем, что у нее не может быть иного выхода, кроме смерти.
На следующий день я нашел Марту в постели, как обычно. Я захотел лечь рядом, но она нежно меня оттолкнула. «Я чувствую себя не очень хорошо, – сказала она. – Уходи, не надо здесь оставаться, а то еще заразишься от меня». Она кашляла, ее лихорадило. Она сказала мне, улыбаясь, чтобы это не выглядело упреком, что простудилась, должно быть, вчера. Но, несмотря на свою растерянность, запретила мне сходить за доктором. «Все это пустяки, – говорила она, – мне только нужно побыть в тепле». На самом деле она не хотела посылать меня к доктору, чтобы не скомпрометировать себя в глазах старого друга семьи. Мне так хотелось избавиться от беспокойства, что Мартин отказ тут же меня успокоил. Но тревоги возобновились, и с гораздо большей силой, как только я собрался уходить к своим родителям. Марта спросила меня, не смогу ли я сделать крюк и отнести записку врачу.
На следующий день, придя к Марте, я столкнулся с ним на лестнице. Я не осмелился расспрашивать его и только смотрел с мучительным беспокойством. Но его степенный вид меня успокоил, хотя с его стороны это была всего лишь профессиональная привычка.
Я вошел к Марте. Но где же она? Спальня была пуста. Марта плакала, спрятавшись с головой под одеялом. Доктор приговорил ее не покидать постель вплоть до родов. Больше того, ее состояние требовало постоянного ухода, поэтому ей было необходимо перебраться к своим родителям. Нас разлучали.
Мы не приемлем несчастья. Одно лишь счастье кажется нам должным. Безропотно принимая эту разлуку, я не проявлял особого мужества. Я попросту еще не понимал. Я в отупении выслушал предписание врача, словно осужденный – свой приговор. Если он при этом ничуть не побледнел, все говорят: «Какое мужество!» Вовсе нет, это всего лишь недостаток воображения. Вот когда его разбудят поутру на казнь, вот тогда он поймет свой приговор. Так и я – до меня дошло, что мы больше не увидимся, только когда к Марте пришли сообщить, что экипаж, присланный доктором, уже прибыл. Он пообещал ей не предупреждать заранее никого из домашних. Марта хотела приехать домой нежданно.
Я велел кучеру остановиться на некотором отдалении от дома Гранжье. Когда он обернулся в третий раз, мы сошли. Ему показалось, что он поймал нас уже на третьем поцелуе, но он ошибался – это был все тот же. Мы расставались, даже не обговорив толком, как будем сообщаться, и почти не прощаясь, словно нам предстояло увидеться снова через какой-нибудь час. В окнах напротив уже появлялись любопытные соседки.
Мать заметила, что у меня красные глаза. Сестры смеялись, потому что я два раза подряд уронил суповую ложку. Пол качался подо мной. Не будучи моряком, я с трудом переносил эту качку. Впрочем, не думаю, что нашел бы лучшее сравнение, нежели с морской болезнью, для того помутнения сердца и ума, в котором я тогда пребывал. Жизнь без Марты казалась мне долгим путешествием. Доберусь ли я когда-нибудь до берега? Ни о чем таком я и не думал; ведь при первых же симптомах этой напасти людям уже плевать, далеко порт или близко. Единственное, чего бы они хотели, это умереть на месте. И лишь через несколько дней боль, уже не такая цепкая, оставила мне время подумать о твердой земле.
Родителям Марты уже не приходилось о чем-либо догадываться. Они теперь знали наверняка. Их уже не удовлетворяло просто утаивать мои письма. Они жгли их перед Мартой, в камине ее комнаты. Ее собственные, нацарапанные карандашом и малоразборчивые, относил тайком на почту ее брат.
Мне больше не приходилось сносить семейные сцены. Мы с отцом возобновили наши дружеские беседы по вечерам, у камелька. За один этот год я сделался чужим для моих сестренок. Теперь им приходилось заново привыкать ко мне, а мне – приручать их. Я брал самую маленькую себе на колени и, пользуясь полумраком, прижимал к себе с такой силой, что она начинала вырываться, наполовину смеясь, наполовину плача. Я думал о своем ребенке, но с грустью. Мне казалось, что невозможно любить его с большей нежностью, чем моя. Но достаточно ли я сам созрел, чтобы ребенок стал для меня кем-то иным, нежели братиком или сестренкой?
Мой отец советовал мне как-нибудь развлечься. Это были советы, внушенные спокойствием. Что мог я еще делать, кроме как ничего не делать? Стоило мне заслышать звонок какого-нибудь проезжающего экипажа, и я уже вздрагивал. В своем вынужденном заточении я ловил малейший знак – знак Мартиных родов.
Напрягая слух, чтобы уловить хоть что-то, имеющее к ней отношение, я услыхал однажды звон колоколов. Это звонили в честь перемирия.
Перемирие, конец войны означали для меня возвращение Жака. Я уже видел его у Мартиного изголовья, что лишало меня малейших надежд. Я был потерян.
Отец вернулся из Парижа. Он хотел, чтобы и я съездил туда вместе с ним. «Грешно будет пропустить такой праздник». Я не решился на отказ. Я боялся показаться чудовищем. К тому же, пребывая в горестном исступлении, я был все же не прочь взглянуть, как веселятся другие.
Хотя, должен признаться, чужая радость ничуть не расшевелила мою собственную. Я счет себя единственным, кто испытывал чувства, которые обычно приписывают толпе. Я искал патриотизма. Быть может, я был несправедлив, но сумел увидеть лишь оживление, словно в неожиданный выходной: кафе, открытые дольше обычного, да военных, с полным своим правом целующих белошвеек. Это зрелище, которое, как я думал, способно огорчить, вызвать ревность или даже развлечь, заразив каким-нибудь возвышенным чувством, лишь нагнало на меня тоску, словно старая дева.
Никаких писем не было в течение нескольких дней. Но вот как-то раз после обеда, когда выпал снег (что случалось нечасто), братья передали мне письмо, принесенное маленьким Гранжье. Это было ледяное послание его матушки. Г-жа Гранжье просила меня зайти к ним как можно скорее. Что ей могло от меня понадобиться? Но это была все-таки какая-то надежда вступить с Мартой в контакт, пусть даже и непрямой. Мои тревоги улеглись. Я воображал себе г-жу Гранжье, грозно запрещающую мне видеться с Мартой и сноситься с нею каким-либо иным способом; воображал и себя самого – понурившего голову, словно нерадивый ученик. Я не чувствовал себя способным взорваться, вогнать себя в гнев. А посему ни единым жестом я не проявлю своей ненависти. Я вежливо поклонюсь напоследок, и дверь за мной затворится. Тогда-то я найду и хлесткие аргументы, и острые, злые слова, которые оставили бы г-же Гранжье о любовнике ее дочери впечатление менее, жалкое, чем от проштрафившегося школяра. Я предвидел всю эту сцену – секунда за секундой.
Когда я вошел в маленькую гостиную, мне показалось, что я вновь переживаю свой первый визит в этот дом. Тогда мое появление здесь означало, что я, быть может, никогда больше не увижусь с Мартой.
Вошла г-жа Гранжье. Мне снова стало ее жалко из-за ее маленького роста; да она еще и пыжилась, стараясь держаться высокомерно. Она извинилась, что понапрасну побеспокоила меня. По ее словам выходило, что ей требовалось выяснить у меня нечто такое, о чем затруднительно было сообщить в письменном виде, но что это нечто тем временем разъяснилось само собой. Эта нелепая таинственность причинила мне больше боли, чем какая угодно настоящая беда.
Неподалеку от их дома я встретил маленького Гранжье, прислонившегося к забору. Ему угодили снежком прямо в лицо. Он хныкал. Я его утешил как мог и расспросил насчет Марты. Он сказал, что Марта звала меня, но что мать и слышать об этом ничего не хотела. Однако отец заявил: «Марте сейчас хуже всего. Я требую, чтобы ей подчинились».
Мне в один миг стала ясна загадочность поведения г-жи Гранжье и все ее мещанское лицемерие. Она вызвала меня, подчиняясь супругу и последней воле умирающей. Но как только опасность миновала и Марта была спасена, как она тут же отменила уговор. Я сожалел, что кризис не продлился чуть дольше, чтобы я успел повидать больную.
Два дня спустя Марта мне написала. О моем неудавшемся визите она даже не упомянула. Без сомнения, его от нее просто скрыли. Марта говорила о нашем будущем каким-то совсем особенным тоном – безмятежным, небесно-ясным, который меня даже немного смутил. Неужели правда, что любовь есть наиболее злостная форма эгоизма? Ведь отыскивая причину своего смущения, я понял, что ревную Марту к нашему ребенку, о котором она теперь говорила больше, чем обо мне самом.







