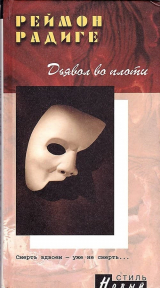
Текст книги "Дьявол во плоти"
Автор книги: Реймон Радиге
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Возгордился я еще и оттого, что моя персона была явно предпочтена красотам окружавшей нас местности, о которых мы с ней не перемолвились и полусловом. Временами родители окликали ее: «Марта! Обернись направо, смотри, как красивы Шеневьерские склоны!» Да еще ее малый братец изредка подходил спросить название цветка, сорванного на ходу. Она уделяла им ровно столько рассеянного внимания, чтобы те не обиделись.
Мы устроили привал на Ормесонских лугах. В своем простодушии я уже сожалел, что зашел слишком далеко и так тороплю события. Будь наша беседа менее чувственной и более естественной, я мог бы сейчас покорить Марту и привлечь благосклонность ее родителей, рассказав об историческом прошлом этой деревни. От чего я воздержался. Я решил, что имею на то глубокие причины, что после всего произошедшего между нами любой разговор, не касающийся нас обоих и наших чувств, способен лишь разрушить очарование. Мне казалось, что между нами произошло что-то очень серьезное. Так оно, впрочем, и было, только я узнал об этом чуть позже, потому что и Марта прервала тогда нашу беседу, по тем же причинам, что и я. Но сразу я этого не понял и воображал себе, что мои слова, обращенные к ней, были полны сокровенного смысла. Мне казалось, что не понять этого объяснения в любви может лишь женщина совершенно бесчувственная. Хотя наверняка и г-н и г-жа Гранжье без малейшего возражения выслушали бы все, что я говорил тогда их дочери. Но я? Смог ли бы я высказать то, что высказал, в их присутствии?
– Сама Марта робости мне не внушает, – убеждал я себя. – Стало быть, именно присутствие ее родителей мешает мне сейчас склониться к ее шее и поцеловать.
Но где-то внутри меня другой мальчишка поздравлял себя с такой помехой.
Этот рассуждал:
– Какая удача, что мы с ней не наедине! Потому что я все равно не осмелился бы на поцелуй, но тогда у меня не было бы никакого оправдания.
Так плутует робость.
Мы сели в поезд на вокзале в Сюси. Имея впереди добрых полчаса ожидания, вся компания рассеялась на террасе кафе. Мне пришлось сносить комплименты г-жи Гранжье. Они меня унижали. Они напоминали ее дочери, что я пока всего лишь школяр, и что выпускные экзамены у меня только через год. Марте захотелось гренадину, и я тоже заказал себе этот напиток, хотя еще сегодня утром счел бы себя оскорбленным, если бы мне его предложили. Отец мой ничего не мог понять. Он всегда разрешал мне пить аперитивы. Я боялся, как бы он не начал подтрунивать над моим благонравием. Что он, впрочем, тут же и сделал, правда, исподтишка, чтобы Марта не догадалась, что гренадин я пью только ради нее.
Прибыв в Ф…, мы распрощались с Гранжье. Напоследок я пообещал Марте занести ей в ближайший четверг свою подшивку «Острого словца» и еще «Лето в аду»[3].
Марта рассмеялась.
– Вот отличное название! Наверняка бы понравилось моему жениху!
– Марта, перестань, – нахмурилась ее мать, которую этот недостаток покорности в дочери постоянно шокировал.
Мой отец и братья проскучали все путешествие. Велика важность!
Счастье эгоистично.
На следующий день в лицее я не испытал потребности рассказать Рене (от которого у меня раньше не было секретов) о своем воскресном приключении. Мне вовсе не хотелось терпеть его насмешки из-за того, что я так и не поцеловал Марту. Но удивляло меня другое – сегодня мне казалось, что Рене не так уж сильно отличается от остальных моих сверстников.
Одаривая своей любовью Марту, я отнимал ее у Рене, у родителей, у сестер.
Я весьма надеялся проявить волю и не навещать Марту раньше назначенного срока. Однако уже во вторник вечером, не имея больше сил ждать, я сумел найти для собственной слабости весьма веские оправдания, которые позволили мне отнести обещанные газеты и книгу, не дожидаясь четверга. Я говорил себе, что в этом нетерпении Марта увидит лишнее доказательство моей любви, а если откажется его в нем увидеть, то я без труда смогу ее переубедить.
Четверть часа я бежал как угорелый, пока не достиг ее дома. Потом, из страха побеспокоить ее во время ужина, решил подождать, и торчал перед решеткой минут десять, весь взмыленный. За это время я надеялся унять свое сердцебиение. Оно же, напротив, только усилилось. Я чуть было не повернул назад, но тут заметил, что из окна соседнего дома за мной с любопытством наблюдает какая-то женщина, желая, видимо, узнать, что я тут делаю, притаившись возле двери. Собственно, она-то и подтолкнула мою решимость. Я позвонил. Я вошел в дом. Я спросил у прислуги, «дома ли мадам». Почти тотчас же в маленькой комнате, куда меня провели, появилась и сама г-жа Гранжье. Я вздрогнул, словно прислуга должна была догадаться, что я спросил «мадам» только ради приличия, а на самом-то деле мне нужна «мадемуазель». Краснея, я попросил г-жу Гранжье простить меня за беспокойство в столь поздний час (словно это был уже час ночи), но, не имея, якобы, возможности зайти в четверг, я осмелился занести книгу и газеты для ее дочери сегодня.
– Вот и превосходно, – заявила г-жа Гранжье. – Марта все равно не смогла бы вас принять. Ее жених выхлопотал себе отпуск на две недели раньше, чем рассчитывал. Он как раз вчера приехал. Так что Марта сегодня ужинает со своими будущими родственниками.
Итак, я ушел, а поскольку (как мне казалось) у меня не было никаких шансов свидеться с нею вновь, я старался больше о ней не думать. И как раз в силу этого думал только о ней.
Однако месяц спустя на Бастильском вокзале, выпрыгнув из своего вагона, я вдруг увидел, как она выходит из соседнего. Оказалось, она выбралась в город для похода по магазинам – накупить всякой всячины ввиду своего скорого замужества. Я уговорил ее пройтись со мной до Генриха IV.
– Кстати, – сказала она, – оказывается, в следующем году, когда вы перейдете во второй, вашим учителем географии будет мой свекор.
Задетый тем, что она заговорила со мной об учебе, словно никакая другая тема не годилась для моего возраста, я ответил ядовито, что это будет весьма забавно.
Она насупила брови. Мне тут же вспомнилась ее маменька.
Тем временем мы подошли к Генриху IV, и я, не желая расставаться с ней на этих словах, которые мне самому казались обидными, решил пропустить урок рисования и вернуться в класс часом позже. Я был счастлив, что в этих обстоятельствах и Марта не проявила благоразумия; она не только не высказала ни единого упрека, а наоборот, казалось даже, что она благодарна мне за такую жертву, ничтожную, в сущности. Я также был ей признателен, что она в обмен не предлагала пройтись с ней за покупками, а просто дарила мне свое время, как я дарил ей свое.
Теперь мы находились с ней в Люксембургском саду; часы Сената только что отзвонили девять. Я окончательно решил не ходить сегодня в лицей. К тому же в моем кармане чудом оказалось больше денег, чем имеет лицеист за целых два года – как раз накануне я продал самые редкие из своих марок на Марочной Бирже, той, что за кукольным театром на Елисейских Полях.
Во время нашей беседы Марта обмолвилась, что обедает сегодня у своих новых родственников. Я решил убедить ее остаться со мной. Пробило половину десятого. Марта вздрогнула. Она еще не привыкла, чтобы ради нее бросали все свои дела, пусть даже всего лишь дела школьные. Но, видя, что я остаюсь, как ни в чем ни бывало, на своем железном стуле, она не решилась напомнить мне, что сейчас я должен сидеть совсем в другом месте – за лицейской партой в Генрихе IV.
Итак, мы остались в неподвижности. Таким, наверное, и должно быть счастье. Какой-то пес выскочил из водоема и стал отряхиваться. Марта встала и потянулась, словно человек, пытающийся согнать сон с отяжелевшего после полуденной дремы лица. Она сделала руками несколько гимнастических упражнений. Я решил, что для начала наших с ней отношений это дурной знак.
– Стулья слишком жесткие, – сказала она, словно извиняясь, что встала.
На ней было фуляровое платье, примявшееся за то время, пока она сидела. Я не смог помешать себе представить оттиск плетеного сиденья на ее коже.
– Ну, идемте, проводите меня по магазинам, раз уж вы решили не идти в класс, – сказала Марта, в первый раз намекая на то, чем я ради нее пренебрег.
Вместе мы посетили многочисленные бельевые отделы, где я всячески мешал ей заказывать то, что нравилось ей, но не нравилось мне, например – розовый цвет, который я терпеть не мог, а она обожала.
После этих первых побед надо было добиться от Марты, чтобы она отказалась от обеда у своих родственников. Не рассчитывая, что она солжет им просто из удовольствия остаться в моем обществе, я подыскивал средство, способное и ее решительно склонить к прогулу. Она мечтала побывать в американском баре, но никогда не осмеливалась попросить об этом своего жениха. Впрочем, тот не был охотником до баров. Так я и нашел свой предлог. Судя по ее отказу, отмеченному печатью явного сожаления, я решил, что смогу ее убедить. Однако через полчаса, израсходовав все свои доводы и ни на чем больше не настаивая, я повез ее в такси к родителям жениха, находясь в состоянии духа приговоренного к смерти, который до последней минуты надеется на какое-нибудь чудо. Дом ее родственников все приближался и приближался, а чудо все не происходило. И тут вдруг Марта, постучав в стекло, отделявшее нас от водителя, попросила его остановиться у почтового отделения.
Мне она сказала:
– Подождите минуточку. Я только позвоню свекрови, что нахожусь от них слишком далеко, чтобы поспеть вовремя.
В течение нескольких последующих минут я изнемогал от нетерпений, но, заметив продавщицу цветов, набрал, одну за одной, целую охапку красных роз. При этом мне не столько хотелось доставить удовольствие Марте, сколько вынудить ее солгать сегодня еще раз, когда она будет объяснять своим родителям, откуда взялись эти розы. Наш тайный уговор во время первой встречи сходить в какую-нибудь рисовальную студию, ее нынешняя ложь по телефону, которую она сегодня же вечером повторит своим родителям, и к которой я добавлю ложь насчет своих цветов – все это доставляло мне удовольствие гораздо более сладостное, чем поцелуй. Ибо, целуя раньше губы девочек, порой без особого удовольствия (не сознавая, что удовольствия нет, потому что нет любви), я и теперь не слишком желал губы Марты. Тогда как участие в заговоре, подобном нашему, приключалось со мной впервые.
Марта вышла с почты – сияющая после своей первой лжи. Я дал шоферу адрес бара на улице Дону.
Она словно гимназистка пришла в восторг от белой куртки бармена, от грации, с какой он встряхивал серебряные сосуды, от странных и поэтичных названий смесей. Время от времени она вдыхала аромат моих роз, с которых пообещала написать акварель и подарить мне на память о сегодняшнем дне. По моей просьбе она показала фотографию своего жениха. Я нашел его красивым. И, чувствуя уже, какое значение она придает моим мнениям, я дошел в своем лицемерии до того, что назвал его даже очень красивым, впрочем, тоном настолько неубедительным, что заставлял предположить, будто говорю так из одной только вежливости. Мне казалось, что это должно заронить сомнения в душу Марты и навлечь на меня ее признательность.
Но после полудня настало время подумать и о главной цели ее поездки. Жених Марты, вкусы которого ей были известны, полностью доверился ей в выборе мебели и прочей обстановки. Однако ее во что бы то ни стало хотела сопровождать собственная мать. Марте едва удалось добиться, чтобы поехать одной, поклявшись, правда, не делать глупостей. Сегодня ей предстояло подобрать мебель для их будущей спальни. Хоть я и пообещал себе не проявлять крайнего удовольствия или неудовольствия, что бы Марта там ни сказала, мне пришлось сделать над собой изрядное усилие и продолжать идти по тротуару спокойным шагом, который теперь никак не согласовывался с ритмом моего сердца.
Поначалу эта обязанность – сопровождать Марту – показалась мне в чем-то даже неловкой. Ведь мне предстояло помочь ей обставить спальню для нее и кого-то другого! Но потом я усмотрел во всем этом способ обставить спальню для нее и для самого себя.
Я так быстро забыл про этого жениха, что если бы через какую-нибудь четверть часа ходьбы мне напомнили, что в этой спальне рядом с ней будет спать другой мужчина, я бы изрядно удивился.
Ее жених отдавал предпочтение стилю Людовика XV.
Дурной вкус Марты проявлялся иначе – ее тянуло к японскому. Мне, таким образом, пришлось сражаться сразу с обоими. Это был бег наперегонки. Догадавшись по первому же слову, куда она клонит, я должен был тут же указать на нечто совершенно противоположное, которое мне, впрочем, так же не нравилось, лишь бы потом притвориться, что уступаю ее капризу, отказываясь от этого предмета ради другого, меньше раздражающего взор.
Она все шептала при этом: «Он ведь так хотел розовую спальню!» Уже не осмеливаясь более признаться мне в собственных пристрастиях, она стала приписывать их своему жениху. И я догадывался, что через несколько дней мы вместе над ними посмеемся.
Однако я не вполне понимал эту ее слабость. «Если она меня не любит, – думал я, – то какой ей смысл уступать, жертвовать и своими вкусами, и вкусами того молодого человека в угоду моим собственным?» Сам я никакого смысла в этом не находил. Наиболее простым было бы признаться себе, что Марта меня любит. Но я был убежден в обратном.
Марта сказала: «Оставим ему хотя бы розовые обои». Подумать только – «оставим ему»! Уже из-за одних этих слов я чуть было не ослабил хватку. Но «оставить ему розовые обои» было равноценно тому, чтобы попросту все бросить. Я стал расписывать Марте, насколько розовые стены будут невыгодно оттенять простую и скромную мебель, которую «мы выбрали», и, все еще опасаясь ее возмущения, посоветовал уж лучше выбелить спальню известкой!
Это ее добило. Впрочем, за этот день Марта так намучилась, что снесла последний удар совершенно безропотно. Она только и смогла вымолвить: «В самом деле, вы правы».
Завершая этот изнурительный день, я поздравил себя со столь удачно предпринятым ходом. Мне удалось превратить (предмет за предметом) этот союз по любви, или скорее, по влюбленности, в союз по расчету – и какому расчету! Ибо как раз расчет-то тут был совершенно ни при чем, и каждый находил в другом лишь те достоинства, которые сулит союз по любви.
Расставаясь со мной в тот вечер, она, вместо того, чтобы избегать отныне любых моих советов, стала просить меня, чтобы я как-нибудь на днях помог ей в выборе остальной обстановки. Я пообещал свою помощь при условии, что она поклянется никогда не рассказывать об этом своему жениху, поскольку единственное, что могло ему помочь примириться с этой мебелью спустя какое-то время (если только он любит Марту), была бы мысль о том, что она выбрана его невестой по доброй воле и к ее же удовольствию, которое он просто обязан с ней разделить.
Когда я вернулся домой, мне показалось, что я прочитал по глазам моего отца, будто он все уже знает насчет моей сегодняшней проделки. Разумеется, он ничего не знал. Да и откуда бы он мог узнать?
– Ладно, чего уж там, – сказала Марта. – Жак наверняка привыкнет к этой спальне.
Ложась спать, я твердил себе, что если она думает о своем замужестве на сон грядущий, то ей теперь придется взглянуть на него несколько иначе, чем в предыдущие дни. Что касается меня, то каким бы ни оказался исход этой идиллии, я был заранее хорошо отомщен – мне представлялась их первая с Жаком брачная ночь в этой суровой спальне – в «моей» спальне!
Утром следующего дня я подстерег на улице почтальона, который должен был принести записку из лицея о моем прогуле. Когда он отдал мне почту, я преспокойно сунул записку в карман, а остальные письма – в наш почтовый ящик у калитки. Прием слишком простой, чтобы не воспользоваться им лишний раз.
Но моему убеждению, пропустить занятия ради Марты означало, что я был влюблен в нее. Я ошибался. Марта была всего лишь предлогом для прогула. Вот доказательство: изведав в ее обществе сладость свободы, мне захотелось вкусить ее вновь, но уже в одиночку. Более того, я хотел найти последователей. Свобода быстро стала для меня наркотиком.
Учебный год уже подходил к концу, а я с ужасом видел, что моя лень, похоже, так и окажется безнаказанной, хотя и весьма надеялся на отчисление: подобного рода драма достойно увенчала бы этот период.
Когда пытаешься жить одной какой-то идеей, видеть во всем лишь то, что страстно желаешь, в конце концов, перестаешь замечать всю преступность своего желания. Конечно, я вовсе не хотел нарочно причинить боль моему отцу, но я хотел того, что наверняка заставило бы его страдать. Занятия в классе и всегда-то были для меня мукой; Марта и свобода привели к тому, что сделали их для меня совершенно невыносимыми. Я вполне отдавал себе отчет, что если меньше стал любить Рене, то это просто оттого, что он напоминает мне о школе. Я мучился при одной мысли, что на следующий год вновь окажусь среди одноклассников с их вздором; из-за этого страха я даже сделался болен по-настоящему.
К несчастью для Рене, не такого ловкого, как я, он чересчур пристрастился к моему пороку. Поэтому, когда он объявил мне о своем отчислении из лицея, я решил, что и меня ожидает та же участь. Надо было как-то сообщить об этом моему отцу еще до получения официального письма – письма слишком важного, чтобы попросту стянуть его.
Дело было в среду. На следующий день занятий у меня не предвиделось. Я дождался, пока отец уедет в Париж, и поставил мать в известность. Перспектива четырех дней томительной тревоги, грозившей ее семейству, обеспокоила ее даже больше, чем сама новость. Потом я ушел на берег реки; Марта сказала, что, может быть, присоединится там ко мне. На месте ее не оказалось. Это была моя удача. Если бы свидание состоялось, я смог бы потом, черпая в нем дурную энергию, противостоять отцу; но теперь грозе предстояло разразиться после целого дня пустоты и изматывающего ожидания. Я возвращался домой, повесив голову, как и подобало. Домой я пришел лишь немного спустя того часа, когда там обычно появлялся отец. Стало быть, он уже наверняка знал. В ожидании вызова я прогуливался по саду. Сестры явно о чем-то догадывались и играли молча. Тут явился один из моих братьев, возбужденный приближением грозы, с приказанием идти в комнату, где прилег отец.
Крики или угрозы еще дали бы мне повод к сопротивлению. Но то, что последовало, было хуже всего. Отец молчал. Потом, без всякого гнева, голосом даже более мягким, чем обычно, сказал мне:
– Ну, что ты теперь намерен делать?
Слезы, которые никак не могли пролиться из моих глаз, отдавались у меня в голове гулом, словно рой пчел. Чьей-то чужой воле я еще мог бы противопоставить свою, пусть и бессильную. Но перед такой кротостью приходилось полностью смирить себя.
– Сделаю все, что прикажешь.
– Нет, не лги мне снова. Я всегда позволял тебе поступать так, как ты хотел. Можешь продолжать. Как бы там ни было, ты наверняка сочтешь своим долгом опять заставить меня раскаяться.
В ранней юности мы, как и женщины, слишком склонны считать, что слезами можно восполнить все. Отец не требовал от меня даже слез. Перед таким великодушием мне становилось стыдно и за настоящее, и за будущее, поскольку я чувствовал: что бы я сейчас ему не сказал, я солгу. «По крайней мере, эта ложь утешила бы его, – думал я, – пока я не стал для него источником новых неприятностей». Хотя нет, опять я пытаюсь лгать самому себе. Единственное, чего мне тогда действительно хотелось, так это выполнять работу не более утомительную, чем прогулка, и которая, как и прогулка, оставляла бы моему сердцу досуг, – чтобы ни на минуту не отвлекаться от Марты. Я притворился, что мне хотелось бы заняться живописью, но что раньше, якобы, я даже не осмеливался об этом и заикаться. Отец опять не имел ничего против. При условии, правда, что я буду изучать дома все то, что должен был бы изучать в школе. Но могу рисовать при этом сколько вздумается.
Пока связи еще не слишком крепки, для того, чтобы потерять кого-то из виду достаточно пропустить одно единственное свидание. Принуждая себя думать о Марте, я думал о ней все реже и реже. С моим сердцем творилось то же самое, что и с глазами, пристально разглядывающими узор обоев, в спальне. Силясь рассмотреть что-то получше, мы порой вообще перестаем его замечать.
Случилось даже нечто совсем невероятное – я вдруг вошел во вкус работы! Тут я не солгал, как сам того опасался.
Теперь, если по какому-нибудь случайному поводу мне доводилось думать о Марте, я думал о ней без любви, с грустью, которую испытываешь, размышляя о чем-то несбывшемся. «Ну да, еще бы, – говорил я себе, – но было бы слишком прекрасно. Но ведь нельзя же одновременно выбрать для кого-то постель и улечься в нее самому».
Вот что удивляло моего отца: письмо о моем отчислении все не приходило. Он даже устроил мне по этому поводу свою первую сцену, полагая, что это я сам его похитил, а затем разыграл перед ним «добровольное» признание, добившись тем самым, чтобы меня простили. В действительности же это письмо попросту не существовало. Хоть я и считал себя отчисленным из лицея, но я ошибался. Так что мой отец ровным счетом ничего не понял, когда в начале каникул мы получили письмо от директора.
Тот осведомлялся, не заболел ли я, и следует ли вносить меня в списки на следующий год.
Я рад был дать, наконец, удовлетворение моему отцу, и эта радость заполнила понемногу душевную пустоту, в которой я пребывал последнее время, ибо мне казалось, что я больше не люблю Марту; но при этом я считал ее все-таки единственной женщиной, достойной моей любви. Это означало, что я по-прежнему ее любил.
В таком расположении духа я пребывал, когда в начале сентября, месяц спустя после уведомления о ее свадьбе, обнаружил, вернувшись домой, записку от Марты, в которой она приглашала меня к себе, и которая начиналась словами: «Я совершенно не понимаю причин вашего молчания. Почему вы не заходите навестить меня? Вы, наверное, уже забыли, что сами выбирали для меня обстановку?»
Марта жила теперь в Ж…, на улочке, что спускалась к самой Марне. Вдоль каждого тротуара насчитывалась едва ли дюжина домов. Я был даже удивлен, когда обнаружил, что ее дом оказался таким большим. В действительности же Марта занимала лишь верхний этаж, а нижний делили между собой хозяева и еще одна пожилая супружеская пара.
Когда я пришел туда на разведку, была уже ночь. Лишь одно единственное окно изобличало присутствие если не людей, то хотя бы огня. Глядя ка это окно, освещенное пламенем, неровным, как набегающие волны, мне почудилось, что начинается пожар. Железная калитка в сад была приоткрыта. Подобная небрежность меня удивила. Я все искал звонок – и не находил. Наконец, поднявшись на крыльцо по трем ступенькам, я решился постучать в стекла нижнего этажа, справа, откуда доносились голоса. Дверь открыла какая-то старая женщина – я спросил у нее, где проживает г-жа Лакомб (таково было новое имя Марты). «Наверху». Я поднялся по лестнице, спотыкаясь, ударяясь обо что-то в темноте и умирая от страха, не случилось ли какое несчастье. Открыла мне сама Марта. Я чуть не бросился ей на шею, подобно людям, едва знакомым между собой, но вместе спасшимся после кораблекрушения. Она ничего не поняла. Ей, наверняка, показалось, что я слегка не в себе, так как первое, что я спросил у нее, было «почему тут огонь?»
– Очень просто. Я ждала вас и потому разожгла камин в гостиной, оливовыми поленьями. Я читала при этом свете.
Войдя в небольшую комнатку, служившую ей гостиной, скудно обставленную мебелью, и которую обивка на стенах и толстые ковры, мягкие, как звериные шкуры, делали еще меньше, превращая чуть ли не в коробку, я был одновременно и счастлив, и несчастлив, словно драматург, который, видя свою пьесу поставленной, слишком поздно замечает в ней множество ошибок.
Марта снова устроилась у камина, вороша угли кочергой и стараясь не смешивать с золой черные не прогоревшие частички.
– Может, вам не нравится запах оливы? Это родители мужа нам прислали. У них имение на юге.
Казалось, Марта извиняется за какую-то мелочь, привнесенную ею без спросу в убранство комнаты, которая целиком была моим произведением. Возможно, эта мелочь разрушала общее впечатление, которая сама она воспринимала с трудом?
Но нет, напротив. Я был просто очарован и этим живым огнем, и тем, как она им наслаждается – совсем как я – ждет, пока совсем не припечет с одного бока, прежде, чем подставить другой. Никогда еще ее спокойное и серьезное лицо не казалось мне таким красивым, как при этом диковатом освещении. Не разливаясь по комнате, этот свет хранил вблизи всю свою первобытную силу. Но стоило чуть удалиться от него, как наступала непроглядная ночь, и передвигаться приходилось ощупью, натыкаясь на мебель.
Марта не знала, что такое быть шаловливой. Она и в веселости оставалась серьезной.
Рядом с нею голос моего рассудка мало-помалу затихал. Она виделась мне уже совсем не такой, как прежде. Именно теперь, когда я был уверен, что разлюбил, я только и начинал любить ее по-настоящему. Я чувствовал себя неспособным ни на какой расчет, ни на какие уловки, ни на что из того, без чего, как мне раньше казалось, любовь не способна обходиться. Я вдруг почувствовал, что и сам стал как-то лучше. Любому другому эта внезапная перемена открыла бы глаза, и только я один по-прежнему не понимал, что влюблен в Марту. Напротив, я усматривал во всем этом лишнее доказательство того, что моя любовь мертва, что на смену ей приходит хорошая, добрая дружба. И с точки зрения этой дружбы я вдруг осознал, насколько любое другое чувство к ней было бы преступным, оскорбляя человека, который ее любит, которому она должна принадлежать, и который не может видеться с нею.
Однако подлинную природу моих чувств должно было бы прояснить для меня нечто совсем иное. Еще месяц назад, когда мы повстречались с ней в Париже, моя пресловутая любовь вовсе не помешала мне критиковать ее: находить бо́льшую часто того, что ей нравилось, безобразным, и детски наивным то, что она говорила. Сейчас, если я не думал так, как она, я уже считал себя неправым. После грубости моих первых желаний теперь меня обманывала именно нежность, свойственная более глубокому чувству. И я вовсе не чувствовал себя способным предпринять хоть что-то из того, что сам же себе наобещал. Я начинал уважать Марту, – потому что начинал любить ее.
Я стал наведываться туда каждый вечер. Но мне даже и в голову не приходило попросить ее показать мне их спальню, и еще меньше – поинтересоваться, как отнесся Жак к подобранной нами обстановке. Я вообще не желал ничего другого, кроме как чтобы вечно длилось это обручение, и чтобы наши тела все так же могли нежиться у камина, и я не смел пошевельнуться из страха, что одного неловкого движения будет достаточно, чтобы спугнуть счастье.
Однако Марта, которая наслаждалась тем же очарованием, считала, что вкушает его в одиночестве. Мою счастливую лень она принимала за безразличие. Думая, что я ее не люблю, она воображала, будто мне быстро прискучит эта тихая гостиная, если она не предпримет ничего, чтобы привязать меня к себе.
Мы молчали. Я видел в этом доказательство счастья.
Наша с Мартой близость казалась мне настолько очевидной, что я был уверен – мы даже думаем одновременно об одном и том же; поэтому говорить с ней мне казалось настолько же нелепым, как беседовать вслух с самим собой. Но бедняжку это молчание угнетало. С моей стороны было бы умнее воспользоваться любым заурядным средством общения – словом или жестом, пусть даже сожалея, что не существует других, более утонченных.
Видя, как я с каждым днем погружаюсь все глубже и глубже в свою блаженную немоту, Марта воображала, что я все больше и больше скучаю. И она чувствовала себя готовой на что угодно, лишь бы меня развлечь.
Она любила дремать у огня, распустив волосы. Вернее, это я считал, что она дремлет. Для нее же это было лишь предлогом обвить руками мою шею и, проснувшись, моргая влажными глазами, сказать мне, что ей приснился грустный сон. Какой именно, она никогда не рассказывала. Сам я пользовался этим мнимым сном, чтобы вдыхать аромат ее волос, шеи, горячих щек, едва-едва их касаясь, чтобы случайно не разбудить, то есть ласкал всеми теми ласками, которые принято считать разменной монетой любви, в то время как это наоборот – самая редкая, прибегнуть к которой может лишь подлинная страсть. Я полагал, что на эти невинные ласки мне дает право моя дружба. Однако я уже начинал всерьез отчаиваться, что подлинное право на женщину даст нам одна лишь любовь. И мне казалось, что я вполне мог бы обойтись без любви, но при этом вовсе не хотел лишиться прав на Марту. Чтобы сохранить их за собой, я был готов отважиться даже на любовь, искренне веря, что сожалею об этом. Я желал Марту, еще сам того не сознавая.
Когда она вот так спала – положив голову мне на руку, я склонялся над ней, чтобы лучше видеть ее лицо, обрамленное отсветами пламени. Это была игра с огнем. Однажды я наклонился слишком низко, не касаясь, правда, ее лица, но это уже не имело значения. Ведь стоит иголке на лишний миллиметр углубиться в запретную зону, и она неизбежно окажется притянутой магнитом. Чья тут вина – иглы или магнита? Так и я вдруг ощутил, что наши губы соприкоснулись. Ее глаза все еще были закрыты, но чувствовалось, что она уже не спит. Я целовал ее, ошеломленный собственной дерзостью, хотя в действительности это именно она притянула меня к себе и прижалась своими губами к моим, когда я нагнулся. Обеими руками она цеплялась за мою шею – так яростно, словно тонула во время кораблекрушения. И я не понимал, хочет ли она, чтобы я спас ее или утонул с нею вместе.
Теперь она сидела; она держала мою голову у себя на коленях, гладила мои волосы и все повторяла нежно: «Тебе надо уйти. Ты не должен больше приходить». Сам-то я не осмеливался говорить ей «ты». Просто когда молчать дольше становилось невозможным, я подолгу подбирал слова, так строил свои фразы, чтобы избежать прямого обращения; поскольку, хоть и не мог «тыкать» ей, но чувствовал, что сказать «вы» для меня было еще менее возможным. Меня жгли собственные слезы. Мне казалось, что упади хоть одна из них на руку Марте, она бы вскрикнула от боли. Я винил себя за то, что сам разрушил очарование, что сошел с ума, прикоснувшись к ее губам, начисто забывая, что это она меня поцеловала. «Тебе надо уйти. Ты не должен больше приходить». Слезы ярости мешались у меня со слезами муки. Так ярость пойманного волка доставляет ему не меньше боли, чем капкан. Если бы я тогда и заговорил, то лишь затем, чтобы проклинать Марту. Мое молчание встревожило ее; она увидела в нем знак согласия. «Раз уж все равно поздно, – заставлял я рассуждать ее в моем воображении (с несправедливостью, быть может, провидческой), – то пусть он хотя бы помучается». Охваченный этим огнем, я дрожал, я стучал зубами. К моему настоящему страданию, которое изгоняло меня из детства, я умудрялся добавлять и свои детские чувства. Я был словно зритель, который не желает уходить, потому что развязка спектакля ему не нравится. Я говорил ей: «Я не уйду. Вы надо мной посмеялись. Я не хочу вас больше видеть».







