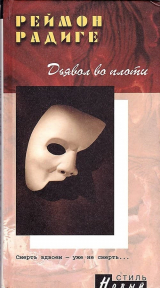
Текст книги "Дьявол во плоти"
Автор книги: Реймон Радиге
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
Дома в моих отлучках никто не сомневался; не были они тайной и в Ж… Мартины домохозяева и пожилая чета с первого этажа уже давно косо посматривали в мою сторону и едва отвечали на мои приветствия.
Утром, в пять часов, стараясь ступать как можно тише, я спускался по лестнице с башмаками в руках и обувался уже внизу. Однажды я столкнулся на лестнице с разносчиком молока. У него в руках были бутылки, у меня башмаки. Он пожелал мне доброго утра с недоброй ухмылкой. Я тут же решил, что Марта пропала. Наверняка он растрезвонит об этом по всему Ж… Но больше всего меня при этом удручал мой собственный нелепый вид. Я мог, конечно, купить у парня его молчание, но не сделал этого – просто не знал, как взяться за дело.
Когда мы увиделись с Мартой днем, я не посмел ей ничего рассказать. Впрочем, к ее репутации этот эпизод уже не мог ничего добавить. Вопрос был давно решен. Молва сделала нас любовниками задолго до того, как это произошло в действительности. Мы-то ни о чем таком даже не догадывались. Но вскоре пришлось прозреть. И вот как-то раз я нашел Марту в совершеннейшем изнеможении. Оказалось, хозяин только что ей рассказал, как уже в четвертый раз подстерег мой уход на рассвете. Он, дескать, сначала отказывался верить своим глазам, но затем был вынужден смириться с очевидностью. Заодно, кстати, и пожилая чета снизу жаловалась, якобы, что мы шумим и днем, и ночью. Марту все это сразило наповал. Она хотела съехать тотчас же. Но нам после этого и в голову не пришло вести себя не так резво во время наших свиданий. На это мы были неспособны. Привычка была усвоена уже слишком глубоко. Только тогда Марта стала понимать кое-что из того, что раньше ее удивляло. Например, ее единственная подруга, которой она дорожила по-настоящему, молодая шведка, вдруг перестала отвечать на ее письма. Я выяснил потом, что какой-то доброхот, заметив нас в поезде обнявшимися, посоветовал ей не встречаться больше с Мартой.
Я заставил Марту пообещать мне, что в случае, если разразится какая-нибудь драма, будь то с ее родителями, будь то с мужем, она проявит твердость. Угрозы домовладельца, кое-какие из долетавших до меня слухов давали мне все основания и бояться, и одновременно надеяться на решительное объяснение между Мартой и Жаком.
Марта умоляла меня заходить к ней почаще, пока Жак будет в отпуске. Она уже рассказывала ему обо мне. Я отказывался – из опасения плохо сыграть свою роль в присутствии другого мужчины, увивающегося вокруг нее. Жакова побывка должна была длиться одиннадцать дней, но при некоторой изворотливости он смог бы добавить к ней еще пару. Я заставил Марту поклясться, что она ежедневно будет писать мне «до востребования». Прежде чем отправиться на почту, я подождал три дня, чтобы наверняка найти там письмо. Их оказалось уже целых четырех. Но получить письма на руки я не смог – не хватило какой-то бумажки, удостоверяющей личность. Мне тем более стало не по себе, что я уже подделал свое свидетельство о рождении, поскольку правила допускали пользование почтой «до востребования» лишь с восемнадцати лет. Я настаивал, заглядывая в окошечко, больше всего желая швырнуть в глаза барышни, выдающей корреспонденцию, горсть молотого перца, завладеть своими письмами и дать тягу. В конце концов, поскольку на почте меня все-таки знали, я сумел договориться, чтобы письма переслали моим родителям.
Решительно, слишком многому мне еще предстояло научиться, чтобы стать мужчиной. Вскрывая письмо от Марты, я с сомнением спрашивал себя, как удалось ей справиться с этой задачей – написать любовное письмо. Я просто забыл, что из всех разновидностей эпистолярного жанра любовное письмо – самая незамысловатая; была бы любовь, а остальное приложится. Я нашел, что Мартины письма восхитительны, не хуже самых изысканных, какие только мне доводилось читать. Хотя ничего такого особенного в них не было, Марта писала о вещах вполне заурядных, да еще о том, какая это мука – жить вдали от меня.
Меня удивляло, что пытка ревностью оказалась гораздо слабее, чем я предполагал. Жак уже начинал казаться мне этаким вечным мужем; я напрочь забыл о его молодости и видел в нем чуть ли не старикашку.
Сам я Марте писем не писал, это было бы слишком рискованно. В сущности, я был этим даже доволен, ибо, воздерживаясь от переписки, не давал пищи смутным опасениям, возникающим перед любым новым предприятием, что окажусь неспособным, что мои письма могут шокировать ее, или показаться наивными.
Моя небрежность привела к тому, что дня через два я оставил валяться на своем рабочем столе одно из Мартиных писем. Оно исчезло. Потом появилось снова. Исчезновение этого письма расстраивало все мои планы: я ведь рассчитывал, воспользовавшись Жаковой побывкой, убедить своих родителей, что окончательно порвал с Мартой. И если раньше я из пустого бахвальства позволял им догадываться, что завел любовницу, то теперь стремился давать как можно меньше доказательств нашей связи. И ведь надо же – когда я почти в этом преуспел, отец вдруг обнаруживает подлинную причину моего благоразумия.
Свой появившийся досуг я использовал, чтобы наверстать пропуски в академическом рисунке, поскольку долгое время все свои этюды обнаженной натуры делал с Марты. Не знаю, догадывался ли об этом отец, но порой он удивлялся некоторому однообразию моих моделей, причем с таким деланным простодушием, что вынуждал меня краснеть. Итак, я вернулся в Гранд-Шомьер, где работал много и усердно, желая обеспечить себе запас рисунков на весь остаток года. Пополнить его я намеревался в следующий Жаков приезд.
Я опять стал встречаться с Рене, сменившим Генриха IV на Людовика Великого. Я заходил туда к нему каждый вечер, закончив свои академические штудии в Гранд-Шомьер. Виделись мы тайком, потому что после истории с его отчислением, и особенно после слухов о нашей с Мартой связи, родители настрого запретили ему мое общество, хоть и почитали меня раньше за добрый пример для их сына.
Рене, которому любовь в любви казалась лишней обузой, подшучивал над моей глубокой страстью к Марте. Не снеся, наконец, его ехидства, я трусливо заявил ему, что моя любовь – это так, легкая интрижка. Его былое восхищение моей особой, которое за последнее время несколько поугасло, сразу же резко возросло.
Я начинал ощущать, что слишком привык к любви Марты. И больше всего меня тяготил вынужденный пост, наложенный на мои чувства. Моя раздражительность была сродни ощущению пианиста, отлученного от инструмента, курильщика, лишившегося сигарет.
Рене, насмехавшийся над моей чувствительностью, был, однако, сам увлечен одной женщиной, которую он любил якобы без любви. Это было грациозное животное, белокурая испанка, выгибавшаяся так ловко, словно всю свою жизнь провела в цирке. Рене, при всей своей беззаботности, оказался весьма ревнив. Он уговорил меня, полусмеясь, полубледнея, оказать ему одну странную услугу. Для того, кто знаком с нравами школяров, эта услуга показалась бы типично школярской причудой. Рене хотел выяснить, не обманывает ли его эта женщина. Мне предстояло, таким образом, попытаться соблазнить ее, чтобы дать потом своему другу отчет – как далеко мне удалось зайти.
Эта услуга меня озадачила. Робость опять стала брать свое, хотя я ни за что на свете не желал показаться робким. Впрочем, дама сама вывела меня из затруднения. Она соблазнила меня с таким проворством, что робость, которая кое-чему мешает, а кое-чему и способствует, помешала мне уважить и Рене, и Марту. Я надеялся, по крайней мере, извлечь из этого удовольствие, но, увы, я был словно курильщик, привыкший к одной марке сигарет. И мне достались, таким образом, лишь угрызения совести из-за Рене, которому я, впрочем, поклялся, что его любовница отвергла все мои домогательства.
По отношению к Марте я никаких угрызений не испытал, хотя и склонял себя к этому. Напрасно я говорил себе, что, устрой она такое со мной, я бы ее никогда не простил. Тщетно. Я ничего не смог с собой поделать. «В конце концов, это разные вещи», – нашел я себе извинение с той замечательной пошлостью, на которую так щедр наш эгоизм. Ведь соглашался же я не писать Марте, но зато если бы она мне не писала, я бы решил, что она меня больше не любит. И вместе с тем эта легкая неверность лишь усилила мою любовь.
Жак ничего не мог понять в поведении своей жены. Марта, обычно довольно разговорчивая, теперь с трудом выдавливала из себя слова. Стоило ему спросить: «Что с тобой?», она отвечала: «Ничего».
По этому поводу г-жа Гранжье устраивала бедняге Жаку всевозможные сцены. Она обвиняла его в нечуткости по отношению к ее дочери и выражала раскаяние, что вообще выдала ее за него. Она решила вновь забрать Марту к себе. Жак согласился. И вот, через несколько дней после своего возвращения он перевез Марту в дом к ее матери, которая, потакая малейшим капризам дочери, лишь поощряла ее любовь ко мне, даже не отдавая себе в том отчета. Марта родилась в этом доме. Здесь каждая вещь, – говорила она Жаку, – напоминает ей о счастливой поре, когда она принадлежала лишь себе самой. Она решила спать в своей девичьей комнате. Жак попытался настоять, чтобы там, по крайней мере, поставили кровать и для него. Чем лишь вызвал первую истерику. Марта ни за что не соглашалась осквернить девственность этой спальни.
Г-н Гранжье находил подобную целомудренность вздорной. Г-жа Гранжье ее оправдывала, внушая и мужу, и зятю, что те ничего не смыслят в тонкостях женского естества. Она была даже польщена тем, что Жак занимает в чувствах ее дочери так мало места. Поэтому все, что Марта отнимала у своего мужа, г-жа Гранжье тотчас же присваивала себе, находя все эти тонкости и щепетильности весьма возвышенными. Таковыми они, впрочем, и были, но по отношению ко мне.
В те дни, когда Марта, по ее собственным словам, чувствовала себя хуже всего, она настаивала на прогулках. Жак хорошо сознавал, что это отнюдь не из удовольствия пребывать в его обществе. На самом деле Марта, никому не осмеливаясь доверить свои письма ко мне, самолично относила их на почту.
Я еще больше поздравлял себя с невозможностью отвечать ей, ибо, появись у меня возможность нарушить молчание, я обязательно вступился бы за бедную жертву, то есть за Жака, узнав, каким пыткам ока его подвергает. Порой меня самого ужасало все то зло, которому я был причиной, а порой – наоборот, я убеждал себя, что Марта еще недостаточно покарала Жака за то, что он похитил у меня ее девственность. Но, поскольку ничто другое, кроме страсти, не способно сделать нас менее чувствительными, я был в общем-то даже доволен, что не могу писать, и Марта, таким образом, продолжала изводить Жака.
Он уехал в отчаянии.
Все решили, что приступы болезненной раздражительности, которыми страдала Марта, вызваны удручающим одиночеством, в котором она пребывала последнее время. Ведь ее родители и муж были единственными, кто еще не знал о нашей связи, а домовладелец не осмелился ничего сообщить Жаку из уважения к мундиру. Г-жа Гранжье уже поздравляла себя с тем, что вновь обрела дочь, и что они заживут вместе, как до ее замужества. Поэтому семейство Гранжье не могло прийти в себя от изумления, когда на следующий день после Жакова отъезда Марта объявила, что возвращается в Ж…
Я встретился там с ней в тот же день. Первое время я даже лениво ворчал на нее за то, что она была такой злюкой. Но когда от Жака пришло первое письмо, меня охватила паника. Он писал, что раз Марта его больше не любит, тем легче ему будет найти свою смерть.
Мне и в голову не приходило увидеть в этом какой-нибудь «шантаж». Я тут же счел себя повинным в чужой смерти, забывая, что сам ее желал. Я сделался еще более непонятливым и несправедливым. Куда бы мы ни свернули, открывалась рана. И напрасно Марта твердила мне, что гораздо более бесчеловечным по отношению к Жаку будет поощрять его надежды; именно я заставлял ее отвечать ему как можно ласковее. Именно я надиктовал его жене те единственные по-настоящему нежные письма, которые он от нее когда-либо получал. Она писала их через силу, плача и брыкаясь, но я грозил ей, что если она не подчинится, то никогда больше меня не увидит. Выходит, что своими единственными радостями Жак оказался обязан угрызениям моей совести.
Я понял, насколько его желание самоубийства было искусственным, потому что надежда все-таки прорывалась в его письмах, которые он присылал в ответ на наши.
И я восхищался собственным благородством по отношению к бедняге Жаку. Хотя действовал так лишь из мелкого эгоизма да из страха стать виновником преступления.
Итак, вслед за драмой настала счастливая пора. Увы! Меня не покидало ощущение, что это продлится недолго. Причиной тому были мой возраст и безволие. Я ни на что не мог решиться окончательно: ни на то, чтобы покинуть Марту, которая, возможно, забыла бы меня и вернулась к супружескому долгу; ни на то, чтобы толкнуть Жака к смерти. Наш союз был предоставлен всецело ходу войны, подписанию перемирия и окончательному возвращению войск. Если Жак прогонит свою жену, она достанется мне. Если же нет, то я не чувствовал себя способным отбить ее силой. Наше счастье было всего лишь замком из песка. Разве что не было определено точное время прилива, но я надеялся, что он начнется как можно позже.
Теперь именно очарованный Жак защищал Марту от матери, недовольной ее возвращением в Ж… Это возвращение лишь подлило масла в огонь, возбудив в г-же Гранжье некоторые подозрения. Другим поводом для подозрений стало упорное нежелание Марты завести прислугу; это возмущало не столько даже ее собственную семью, сколько свекра со свекровью. Но что они могли поделать даже все вместе против Жака, ставшего нашим союзником благодаря доводам, которые я внушил ему при посредничестве Марты?
И вот тут весь Ж… открыл по ней огонь.
Хозяева подчеркнуто избегали говорить с ней. Никто больше не здоровался. Только лавочники, соблюдая интересы своего ремесла, держались не так надменно. Поэтому Марта, испытывая порой потребность перекинуться с кем-нибудь словом, стала подолгу застревать в лавках. Но стоило ей, уйдя за покупками, задержаться минут на пять, как я уже места себе не находил, воображая ее под трамваем. А помчавшись со всех ног на поиски, находил преспокойно беседующей с молочницей или кондитером. В ярости, что позволил нервическому беспокойству овладеть собой до такой степени, я сразу же по выходе из лавки взрывался. Я обвинял ее в том, что у нее низменные вкусы, раз она находит удовольствие в беседах с лавочниками. И все лавочники, чьи разглагольствования я столь бесцеремонно прерывал, дружно меня возненавидели.
Придворный этикет довольно прост, как и все, что благородно. Но протокольные тонкости поведения маленьких людей – настоящая загадка. В первую очередь их мания выстраивать всех и вся по ранжиру основывается на возрастном старшинстве. Ничто бы их не шокировало больше, чем почтительный реверанс пожилой герцогини какому-нибудь юному принцу. Можно только догадываться, с какой злобой зеленщица или булочник воспринимали вмешательство такого молокососа, как я, в их доверительные отношения с Мартой. Ради одних только этих отношений они сыскали бы ей тысячу извинений.
У хозяев был сын двадцати двух лет. Он тоже приехал в отпуск. Марта пригласила его к чаю.
Вечером к нам донесся шум голосов: это родители запрещали ему видеться с их постоялицей. Меня, привыкшего к тому, что отец никогда мне ничего не запрещал, больше всего поразила покорность этого олуха.
На следующий день, когда мы проходили через сад, он там что-то копал. Наверняка это было наказание. Не сумев скрыть смущение, он отвернулся, чтобы не здороваться с нами.
Все эти выходки угнетали Марту. Она, правда, была достаточно умна и влюблена и понимала, что счастье основывается отнюдь не на суждениях соседей; но она была похожа на тех поэтов, которые, зная, что истинная поэзия – вещь «проклятая», все-таки страдают порой от нехватки одобрения, которое сами же и презирают.
Муниципальные советники всегда играют какую-нибудь роль в моих приключениях. Г-н Марен, живший этажом ниже, непосредственно под Мартиной квартирой, старик с седоватой бородой и благородной осанкой, был отставным муниципальным советником Ж… Уйдя от дел перед самой войной, он, тем не менее, был еще не прочь послужить отечеству, если под руку подворачивался подходящий случай. Пока же он удовлетворялся тем, что порицал политику местных властей. Жили они с женой замкнуто, принимая и нанося визиты только под Новый Год.
Однако, вот уже несколько дней подряд внизу творилась какая-то суматоха, привлекавшая наше внимание тем более, что в Мартиной спальне был слышен малейший шум, доносившийся с первого этажа. Явились полотеры. Советникова служанка с помощью хозяйской служанки полировала в саду столовое серебро и снимала окись с медных светильников.
Через молочницу мы узнали, что Марены готовят званый обед с сюрпризом. Г-жа Марен лично сходила пригласить мэра, а заодно выпросить у него восемь литров молока. Дескать, не разрешит ли он молочнице приготовить из него крем?
Разрешение было даровано и, когда день настал, (дело было в пятницу), к назначенному сроку явились пятнадцать именитых граждан с супругами, каждая из которых была основательницей какого-нибудь общества вспоможения кормящим матерям или попечительского совета по уходу за ранеными, который и возглавляла, являясь одновременно членом всех остальных. Хозяйка дома, чтобы «задать тон», принимала гостей, стоя перед дверью. Благодаря все тому же таинственному предлогу, светский раут был обращен в пикник. Все приглашенные дамы проповедовали бережливость, поэтому изобретали особые рецепты. Каждая принесла с собой что-нибудь на десерт – пирожки без муки, варенье из лишайников и тому подобное. Каждая вновь прибывшая говорила г-же Марен: «Это, конечно, не Бог весть что, но, думаю, стоит попробовать…» Что касается самого г-на Марена, то он собирался воспользоваться этим приемом, дабы подготовить свое «возвращение на политическую арену».
Однако обещанным сюрпризом были, оказывается, мы с Мартой. На этот счет меня просветил, проболтавшись из сочувствия, один мой знакомый, приятель по вагону, чьи родители оказались в числе приглашенных. Так что сами судите, насколько я был ошеломлен, узнав, что любимым развлечением четы Маренов было подслушивать, пристроившись вечерком под Мартиной спальней, звуки наших ласк.
Как видно, они не только сами вошли во вкус, но и решили поделиться своим удовольствием с общественностью. Разумеется, Марены, как люди почтенные, делали это под предлогом борьбы за нравственность. Цвет местного общества был для того и созван, чтобы разделить их благородное негодование.
Итак, все приглашенные были в сборе. Г-жа Марен знала, что я нахожусь у Марты, и велела поставить стол прямо под спальней. Она сгорала от нетерпения. Ей хотелось бы сию же минуту взмахнуть дирижерской палочкой и объявить начало представления. Благодаря словоохотливости моего молодого попутчика, выдавшего семейную тайну из юношеской солидарности и желания проучить собственных родителей, мы с Мартой хранили молчание. Я, правда, не осмелился раскрыть ей причину этого сборища. Мне представлялось напряженное лицо г-жи Марен, глаза, устремленные на стрелки часов, гости, теряющие терпение. Наконец, около семи вечера приглашенные пары стали расходиться несолоно хлебавши, тихонько обзывая Маренов между собой обманщиками и сходясь во мнении, что г-н Марен в свои семьдесят с лишним лет неисправимый карьерист: желая снова пролезть в советники, он сулит вам горы золотые, а нарушает свои обещания, даже не дождавшись, пока будет избран. Что же касается его супруги, то все дамы увидели с ее стороны лишь желание разжиться даровым десертом. Мэр городка в качестве почетного гостя посетил собрание всего на несколько минут. Но и этих нескольких минут (вкупе с восемью литрами молока) оказалось достаточно, чтобы поползли слухи о его более чем коротком знакомстве с дочерью Маренов – школьной учительницей. В свое время ее брак и так наделал немало шуму, показавшись обществу недостойным ранга учительницы; она вышла замуж за местного полицейского.
Я в тот вечер не успокоился, пока не заставил Маренов выслушать то, чем они собирались попотчевать других. Марту даже удивила моя запоздалая пылкость. Не имея больше сил сдерживаться и рискуя вызвать упреки, я все-таки рассказал ей о подлинной цели этого приема. Мы вместе хохотали до слез.
Быть может, г-жа Марен оказалась бы более снисходительной, если бы мы послужили ее планам. Но провала она нам простить не могла. Правда, свою ненависть ей пришлось затаить, так как средств утолить ее она не имела, а на анонимные письма не решалась.
Был месяц май. Я все реже встречался с Мартой у нее дома, ночуя там только в тех случаях, если мне удавалось изобрести для своих родителей какую-нибудь отговорку насчет раннего утра. Мне это удавалось раза два в неделю. Неизменная удача любого моего вымысла меня даже удивляла. Но на самом деле отец мне просто не верил. С беспечной снисходительностью он на все закрывал глаза, при условии, что ни братья, ни прислуга ничего не будут знать. Мне, таким образом, достаточно было сказать, что я уйду в пять часов утра, как в тот раз, когда я гулял якобы в Сенарском лесу. Только мать больше не собирала мне корзинку.
Мой отец сначала долго все терпел, потом вдруг, ни с того ни с сего, налетал на меня и бранил за лень. Эти сцены быстро разражались и так же быстро затихали, подобно накатывающим волнам.
Ничто так не поглощает, как любовь. Мы ленимся не потому, что ленивы, но потому, что влюблены. Любовь стыдливо сознает, что единственная вещь, способная отвлечь нас от нее, – это работа. И она видит в работе свою соперницу. А никакого соперничества она выносить не способна. Но любовь – благотворная лень, словно весенний дождь, несущий полям плодородие.
Если юность глуповата, значит, она слишком мало ленилась. Просчет всех наших образовательных систем в том, что они обращены к посредственности, в силу ее подавляющего большинства. Для пытливого ума лень просто не существует. Больше всего я узнавал именно в те долгие дни, которые стороннему наблюдателю показались бы совершенно пустыми. Я следил за своим неискушенным сердцем, как какой-нибудь выскочка следит за своими жестами во время званого обеда.
Когда я не ночевал у Марты (а таких дней становилось все больше и больше), мы прогуливались с ней после обеда вдоль Марны, часов до одиннадцати. Я отвязывал отцову лодку, Марта гребла, а я лежал, пристроив голову у нее на коленях. Это ей мешало. И толчок весла, нечаянно меня задевший, напоминал, что эта прогулка не продлится всю жизнь.
Любовь заставляет нас делиться своим блаженством. Поэтому даже самая холодная любовница становится вдруг ласковой, целует нас в шею, изобретает тысячи уловок, чтобы привлечь наше внимание именно в тот момент, когда мы усаживаемся, скажем, писать письмо. Никогда мне так не хотелось поцеловать Марту, как в тот миг, когда какая-нибудь работа отвлекала ее от меня. Никогда мне так не хотелось коснуться ее волос, растрепать их, как в тот миг, когда она начинала причесываться. В лодке я приставал к ней, мешал грести, покрывал поцелуями, чтобы она бросила свои весла, а лодку сносило течением, покуда она не запутается, не застрянет среди травы и водяных лилий – белых и желтых. Марта считала это проявлениями страсти, неспособной сдерживать себя; тогда как это было просто желание помешать чему бы то ни было, кроме любви. Потом мы прятали лодку в прибрежных зарослях. Страх перевернуться или быть обнаруженными лишь усиливал наслаждение от наших шалостей.
В общем, я ничуть не тяготился враждебностью домовладельцев, сделавших затруднительным мое пребывание у Марты.
У меня появилась своего рода навязчивая идея – обладать Мартой так, как ею никогда не смог бы обладать Жак. Например, поцеловать укромный уголок ее кожи и заставить поклясться, что ничьи губы, кроме моих, к нему не прикоснутся. Скорее всего, меня к этому влекла обыкновенная похоть. Признавался ли я в этом самому себе? Ведь каждая любовь проходит через свою собственную юность, зрелость, старость. Не наступила ли для меня эта последняя пора, когда просто любви, любви безо всяких ухищрений уже недостаточно? Поскольку мое сладострастие, хоть и основывалось на привычке, от тысячи этих мелочей, нарушающих привычку, только оживлялось. Так наркоман ищет экстаза не в увеличении доз, которые быстро становятся смертельными, но в изобретении нового ритма: либо принимая свое зелье в иные часы, либо чем-то подменяя его, чтобы обмануть организм.
Я так любил этот левый берег Марны, что частенько перебирался на противоположный, лишь бы полюбоваться им со стороны. Правый, не такой низкий и влажный, облюбовали себе огородники, тогда как мой, левый, был словно создан для прогулок. Мы привязывали нашу лодку к дереву, забирались на какое-нибудь поле и ложились среди хлебов. Поле колыхалось под вечерним ветерком. Мы приминали колосья в своем укрытии, жертвуя их удобствам нашей любви – так же, как мы жертвовали ей Жака.
Меня не покидало ощущение, что скоро все кончится, и оно, словно какой-то новый запах, обостряло все мои желания. Отведав более грубых удовольствий, больше похожих на те, которые испытывают с первой встречной без малейшей любви, я стал находить все остальные пресными.
Я стал ценить спокойный, целомудренный сон, блаженство лежать одному в постели на свежих простынях. Свое нежелание ночевать у нее я объяснял Марте как меру предосторожности. Она восхищалась силой моей воли. Опасался я также и раздражения, которое способна вызвать у нас женщина, когда, будучи прирожденной комедианткой, воркует иногда поутру таким ангельским голоском, словно только что с небес спустилась.
Я упрекал себя за свои придирки, за свое притворство, изводя себя дни напролет вопросом: стал ли я любить Марту больше или меньше, чем до сих пор? Моя любовь усложняла и запутывала все. Я превратно понимал ее слова, считая, что придаю им более глубокий смысл, я пытался толковать ее молчание. Всегда ли я ошибался? Порой некий толчок, который невозможно описать словами, предупреждает нас, что мы попали в точку. Мои радости и тревоги становились все сильнее и сильнее. Лежа рядом с Мартой, я все чаще испытывал желание лежать одному, в доме своих родителей, и это заставляло меня предчувствовать невозможность нашей совместной жизни. И в то же время я не мог представить своего существования без Марты. Я начинал понимать, в чем состоит кара за прелюбодеяние.
Я злился на Марту за то, что она позволила мне, еще до начала нашей любви, обставить дом Жака на мой собственный лад. Эта мебель стала мне тем более отвратительна, что выбирал я ее не ради собственного удовольствия, но ради неудовольствия Жака. Я корил себя за это не переставая. Я сожалел, что не дал Марте сделать выбор самостоятельно. Наверняка он сначала не понравился бы мне, но зато потом какое утешение – привыкать к нему ради своей любви к ней. И я ревниво завидовал Жаку, которому достанется это удовольствие.
Марта наивно смотрела на меня, широко открыв глаза, когда я говорил ей с горечью: «Надеюсь, когда мы станем жить вместе, то избавимся от этой мебели». Она уважала все, что я говорил, поэтому не осмеливалась перечить, полагая, что я просто забыл, что сам ее выбрал. Но про себя она горько сетовала на мою короткую память.
В первых числах июня Марта получила от Жака письмо, где тот говорил, наконец, не только о своей любви. Он, оказывается, болен. Его эвакуировали в Бурж, в госпиталь. Не то чтобы я обрадовался, что он заболел, но сам факт, что у него еще имелось, что сказать, меня как-то успокаивал. Завтра или послезавтра его поезд должен был проследовать через Ж…, и он умолял Марту встретить его на вокзале. Марта показала мне это письмо. Она ждала моих приказаний.
Любовь превратила ее в рабыню. Перед лицом такой предупредительной угодливости мне трудно было что-либо приказывать или запрещать. Я промолчал, разумея под этим свое согласие. Да и мог ли я запретить ей взглянуть на своего мужа в течение каких-то нескольких секунд? Она тоже хранила молчание. Поэтому, полагая, что мы достигли на этот счет некоего молчаливого уговора, я не пошел к ней на следующее утро.
Через день, утром, в дом к моим родителям рассыльный принес записку, которую обязался передать лично мне в руки. Записка была от Марты. Она писала, что будет ждать меня на берегу Марны, и умоляла прийти туда, если я сохранил хоть каплю любви к ней.
Я бросился бежать сломя голову и бежал, пока не достиг скамейки, на которой Марта меня поджидала. Ее спокойное приветствие, столь мало похожее на стиль записки, враз меня охладило. Я уж было решил, что она меня разлюбила.
Оказалось, позавчера Марта поняла мое молчание как враждебный отказ. Никакого молчаливого уговора между нами она попросту не заметила. И вот, после долгих часов тоски и отчаяния, она вдруг видит меня живым и здоровым, как ни в чем не бывало, а ведь ей казалось, что только болезнь или смерть могли помешать мне явиться вчера на свидание. Я был ошеломлен и не смог скрыть этого. Я попытался объяснить ей свою сдержанность, как уважение к ее супружескому долгу в отношении заболевшего Жака. Она поверила мне едва ли наполовину. Я был раздражен. С языка чуть не сорвалось: «И это в первый раз, когда я не солгал тебе…» Мы вместе плакали.
Но такого рода запутанные и изматывающие шахматные партии могут длиться до бесконечности, если один из игроков не внесет туда хоть какие-нибудь правила. В сущности, отношение Марты к своему мужу было далеко не лестным. Я целовал ее, баюкал на руках. «Молчание, – говорил я ей, – у нас не получилось». Мы поклялись не скрывать друг от друга даже самые свои сокровенные мысли. Поклявшись, я слегка пожалел Марту, которая верила, что такое возможно.
На вокзале в Ж… Жак сначала искал Марту глазами, потом, когда поезд проходил мимо их дома, увидел закрытые ставни. В своем письме он умолял успокоить его. Он просил навестить его в Бурже. «Ты должна поехать», – говорил я ей, стараясь, чтобы она не уловила упрека в этой простой фразе.
– Я поеду, – отвечала она, – если ты поедешь со мной.
Это было бы уже чересчур бессовестным. Но, поскольку все ее слова и поступки, даже самые шокирующие, выражали любовь, я быстро переходил от гнева к благодарности. Сначала взрывался, потом успокаивался. Растроганный ее наивностью, я мягко отговаривал ее, как малого ребенка, который требует луну с неба.







