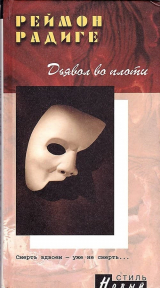
Текст книги "Дьявол во плоти"
Автор книги: Реймон Радиге
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Поскольку, не желая возвращаться к своим родителям, я не хотел видеть и Марту. Пожалуй, я готов был выгнать ее из ее же собственного дома!
Но она рыдала: «Какой же ты ребенок! Неужели ты не понимаешь, что я прошу тебя уйти, потому что люблю тебя!»
Я с ненавистью ответил ей, что прекрасно все понимаю – у нее есть муж, который сейчас на фронте, и есть долг перед ним.
Она качала головой: «Пока мы с тобой не встретились, я была счастлива, я верила, что люблю своего жениха, я даже прощала ему, что он не слишком меня понимает. Это ты заставил меня понять, что я его не люблю. И мой долг вовсе не в том, что ты думаешь. Не в том, чтобы не лгать моему мужу, а чтобы не лгать тебе. Уходи, но только не думай, что я злая. Скоро ты сам меня позабудешь. Я не хочу стать несчастьем твоей жизни. Я плачу, потому что слишком стара для тебя».
Это признание в любви было самым что ни на есть возвышенным ребячеством. И какие бы страсти потом не довелось мне испытать, никогда больше не смогу я пережить это трогательное волнение при виде восемнадцатилетней девушки, плачущей, что она слишком стара.
Вкус первого поцелуя меня разочаровал, словно плод, отведанный впервые. Ведь наибольшее удовольствие мы находим отнюдь не в новизне, а в привычке. Но несколько минут спустя я уже настолько привык к губам Марты, что даже не знал, как смогу теперь без них обойтись. И это в то самое время, когда она собиралась лишить их меня навеки!
В тот вечер Марта проводила меня до самого дома. Чтобы сильнее чувствовать свою близость к ней, я шагал, забравшись к ней под накидку, и обнимал за талию. Она больше не говорила, что мы не должны видеться, наоборот, ей становилось грустно при одной мысли, что через несколько мгновений нам предстоит расстаться. Она заставила меня поклясться в тысяче всяких глупостей.
Перед домом моих родителей я не захотел позволить Марте возвращаться одной и проводил ее обратно, до самой калитки. Не сомневаюсь, что эти ребячества так никогда бы и не кончились, потому что Марте опять захотелось меня проводить. Я согласился, но лишь при условии, что она оставит меня на полдороге.
К ужину я явился с получасовым опозданием, чего раньше со мной не случалось. Свою задержку я объяснил, сославшись на поезд.
Ничто больше не тяготило меня. По улице я теперь двигался с такой же легкостью, как и в своих снах.
Отныне все, к чему я так страстно стремился будучи еще ребенком, следовало похоронить окончательно. С другой стороны, надобность быть благодарным портит удовольствие от подаренных игрушек. Да и какую ценность в детских глазах может иметь игрушка, которая сама себя дарит? Я был опьянен страстью. Марта была моя, причем не я, а она сама мне это сказала. Я мог прикасаться к ее лицу, целовать ей глаза, руки, мог одевать ее или сломать – все что угодно, по своему желанию. В своем исступлении я даже кусал ее – туда, где кожа не была прикрыта платьем, чтобы ее мать заподозрила у нее любовника. Если бы я мог, я бы поставил там свои инициалы. Мое детское дикарство заново открывало древний смысл татуировки. И сама Марта говорила мне: «Да, да, укуси меня, пометь, я хочу, чтобы все знали».
Если бы я смог, я бы целовал и ее груди. Но я не осмелился попросить ее об этом, думая, что она и сама сумеет мне их предложить, как совсем недавно – свои губы. За эти несколько дней я так привык к их вкусу, что уже не мог представить себе лучшего лакомства.
Мы вместе читали при свете огня. Часто она бросала туда письма, которые ее муж каждый день присылал с фронта. По сквозившей в них тревоге можно было судить, что послания самой Марты делались все более редкими и все менее нежными. Я не мог смотреть без чувства неловкости, как они горят. На какое-то короткое мгновение огонь ярко вспыхивал, озаряя все вокруг. А я, в сущности, вовсе не желал видеть яснее.
Марта, которая теперь часто меня спрашивала, правда ли, что я полюбил ее с первой нашей встречи, упрекала меня, что я ничего не сказал ей об этом до свадьбы. Она утверждала, что не вышла бы тогда замуж, так как если и испытывала к Жаку на первых порах что-то вроде любви, то за время их затянувшегося, благодаря войне, обручения эта любовь стерлась мало-помалу из ее сердца. В общем, когда она выходила за Жака, она уже больше не любила его. Она лишь надеялась, что в течение этих двух недель отпуска, предоставленных Жаку, в ее чувствах к нему произойдет какая-нибудь перемена.
Он был неловок. Тот, кто любит, всегда раздражает чем-нибудь того, кто не любит. А Жак и прежде любил ее больше, чем она его. Его письма были жалобой страдающего человека, но который ставит свою Марту слишком высоко, чтобы счесть ее способной на измену. И поэтому он обвинял во всем только себя, умоляя лишь объяснить ему, какое зло мог причинить ей ненароком: «Рядом с тобой я чувствую себя таким неотесанным и грубым, что каждое мое слово, наверное, ранит тебя». Марта отвечала ему просто, что он ошибается, что она его ни в чем не упрекает.
Было тогда самое начало марта. Весна выдалась ранняя. В те дни, когда Марта не сопровождала меня в Париж, она ждала моего возвращения с уроков рисунка, лежа в халатике на голое тело перед камином, где по-прежнему горели оливовые поленья – подарок мужниных родителей. Она, кстати, попросила их обновить запас. Не знаю, что за робость меня сдерживала. Скорее всего, просто страх решиться на то, чего никогда прежде не делал. Я думал о Дафнисе. Ведь Хлоя уже получила свои несколько уроков, а Дафнис все не осмеливался попросить, чтобы и его приобщили к этому знанию. В сущности, не почитал ли я Марту скорее за некую девственницу, отданную сразу же после свадьбы какому-то незнакомцу, который в течение двух недель неоднократно брал ее силой?
Вечерами, лежа один в своей постели, я мысленно призывал Марту, злясь на себя за то, что хоть и считал себя мужчиной, но не был им в достаточной степени на самом деле и до сих пор не сделал ее своей любовницей. Каждый раз, отправляясь к ней, я твердо обещал себе не уходить, пока этого не случится.
На мой день рождения в марте 1918 года, когда мне исполнилось шестнадцать лет, она преподнесла мне в подарок (умоляя при этом не сердиться на нее) халат, похожий на ее собственный. Она хотела, чтобы я надевал его, когда бываю у нее. Я так обрадовался, что чуть было не назвал этот халат своим «претекстовым одеянием»[4] – и это я-то, который отродясь не выдумывал каламбуров! Ведь мне казалось, что единственной причиной, сковывавшей до сих пор мое вожделение, был страх показаться смешным: я постоянно чувствовал себя одетым, в то время как Марта таковою не была. Сначала я захотел тотчас же его надеть, но затем покраснел и передумал, сообразив, что в ее подарке содержался невысказанный упрек.
С самого начала нашей любви Марта дала мне ключ от своей квартиры, чтобы мне не приходилось ждать ее в саду, если по случаю она отлучалась в город. Разумеется, я мог воспользоваться этим ключом и не с такой невинной целью. Я ушел от Марты, пообещав ей зайти завтра, чтобы вместе пообедать. По про себя решил вернуться сегодня же вечером, как только будет возможно.
За ужином я объявил родителям, что собираюсь завтра предпринять вместе с Рене далекую прогулку в Сенарский лес. Для этого я должен, якобы, выйти из дому в пять часов утра. Поскольку в это время весь дом еще будет спать, никто потом не сможет сказать наверняка, в котором часу я ушел, и ночевал ли вообще.
Едва я поделился своим проектом с матерью, как она захотела самолично собрать мне корзинку со снедью в дорогу. Я был сражен и подавлен. Эта корзинка сводила на нет всю романтичность и возвышенность моего подвига. И мне, который заранее упивался испугом Марты, представляя, как неожиданно появлюсь в ее спальне, приходилось теперь думать о взрыве ее хохота при виде Прекрасного Принца с хозяйственной корзиной в руках. Напрасно говорил я матери, что Рене обо всем позаботится – она и слышать ни о чем не хотела. Упорствовать далее значило вызвать подозрения.
То, что приносит несчастье одним, могло бы составить счастье других. Пока мать собирала корзину, которая губила мою первую ночь любви, я видел полные зависти глаза моих братьев. Я уже подумывал было, не отдать ли ее им тайком, но передумал – как только все будет съедено, они могут выдать меня, или из страха быть выпоротыми, или из удовольствия подложить мне свинью.
Итак, приходилось смириться, потому что никакая уловка не казалась мне достаточно надежной.
Я поклялся себе не двигаться с места раньше полуночи, да и то лишь когда удостоверюсь, что родители заснули. Я пытался читать. Но поскольку на ратуше часы уже пробили десять часов, и родители наверняка легли, ждать дольше я оказался не в силах. Родительская спальня располагалась на втором этаже, моя – на первом. Ботинки надевать я не стал, чтобы перелезть через ограду как можно тише. Держа их в одной руке, а корзину, ставшую весьма хрупким предметом из-за положенных в нее бутылок, в другой, я с великими предосторожностями открыл маленькую дверь, ведущую из кладовой наружу. Моросило. Тем лучше – дождь приглушит любой шум. Заметив, что свет в спальне родителей еще не погашен, я чуть было не повернул назад, в постель. Но я зашел уже слишком далеко, чтобы идти на попятный. Из-за дождя предосторожность со снятием ботинок оказалась излишней. Пришлось надеть их снова. Далее следовало перелезть через ограду, исхитрившись при этом, чтобы не зазвонил колокольчик у ворот. Еще с вечера, сразу же после ужина я позаботился приставить к стене садовый стул, чтобы облегчить себе бегство. По верху стены шел ряд черепиц, которые из-за дождя сделались скользкими. Одну из них я все-таки зацепил, и она со стуком упала. От этого стука страх мой удесятерился. Оставалось спрыгнуть со стены на улицу. Я зажал ручку корзины в зубах, прыгнул и угодил в лужу. Я оставался в ней, наверное, целую минуту, задрав глаза к окну родителей, проверяя, не заметили ли они чего-нибудь. Но в окне никто не появился. Я был спасен.
К Марте я направился вдоль реки, потому что рассчитывал спрятать корзину где-нибудь в прибрежных кустах. Война сделала это предприятие небезопасным – в единственном месте, где рос кустарник и где возможно было укрыть мою ношу, стоял часовой, охраняя мост через Марну. Я долго колебался, бледнея, как подрывник, закладывающий динамитный патрон. Наконец, я все-таки избавился от своей провизии.
Калитка была закрыта. Я воспользовался ключом, который всегда оставляли в почтовом ящике, потом пересек маленький садик и на цыпочках поднялся по ступеням крыльца. Прежде чем ступить на лестницу, ведущую наверх, я опять снял свои ботинки.
Марта ведь такая нервная! Быть может, она даже лишится чувств, увидев меня в своей спальне. Я дрожал; я никак не мог попасть ключом в замочную скважину. Наконец, я медленно повернул ключ, в страхе, как бы скрежет никого не разбудил. В прихожей наткнулся на подставку для зонтиков, но свет включать не стал, из опасности спутать выключатель с кнопкой звонка. Ощупью добрался до спальни. И остановился, все еще готовый сбежать. А вдруг Марта меня никогда не простит? Или вдруг я сейчас узнаю, что она обманывает меня с другим мужчиной?
Я открыл дверь. Прошептал:
– Марта?
Она ответила:
– Чем так пугать меня, лучше бы ты пришел утром. Тебе что, дали отпуск на неделю раньше?
Она приняла меня за Жака!
Однако, хоть я и понял, какой прием был бы ему уготован, я понял также, что Марта кое-что от меня утаила. Оказывается, Жак должен приехать через неделю!
Я зажег свет. Она продолжала лежать, повернувшись к стене. Было так просто сказать: «Это я», но я этого не сделал. Я поцеловал ее в шею.
– У тебя все лицо мокрое. Вытрись.
Только тут она обернулась. И вскрикнула.
В одну секунду ее настроение изменилось, причем она даже не дала себе труда хоть как-то объяснить мое ночное появление:
– Бедненький мой, ты же заболеешь! Быстро раздевайся.
Она сбегала в гостиную оживить огонь в камине, вернулась и, поскольку я так и не пошевелился, предложила:
– Хочешь, я тебе помогу?
Я всегда раньше опасался этого момента – из страха показаться смешным; теперь я благословлял дождь, благодаря которому в моем раздевании появлялся оттенок материнской заботы. Марта тем временем все суетилась – уходила, приходила, вновь уходила – на кухню, взглянуть, согрелась ли вода для моего грога. И, наконец, нашла меня в постели, голым, наполовину спрятавшимся под пуховиком. Она заворчала на меня – глупо, мол, оставаться голышом, и что надо бы растереть меня одеколоном.
Потом открыла шкаф и бросила мне пижаму. Пижама Жака! И я опять подумал о возвращении этого солдата, вполне возможном, раз сама Марта в него поверила.
Я был в постели. Марта легла рядом. Я попросил ее погасить свет, поскольку даже в ее объятиях опасался своей робости. Темнота прибавила бы мне духу. Марта мягко возразила:
– Нет, я хочу видеть, как ты заснешь.
При этих словах, исполненных такой прелести, я опять почувствовал смущение. Я увидел в них трогательную нежность женщины, которая всем рисковала, чтобы стать моей любовницей, и, догадываясь о моей болезненной робости, соглашалась, чтобы я просто заснул рядом с ней. А я в течение четырех месяцев твердил ей о своей любви, но ни разу еще не дал ей того доказательства, на которое так щедры мужчины, и которое подчас заменяет им любовь. Я погасил силой.
Опять меня охватили недавние сомнения, которые я уже испытал, прежде, чем войти в дом. Но ожидание любви длилось не долее ожидания перед дверью. Впрочем, мое воображение рисовало себе такие восторги сладострастья, достичь которых все равно бы не сумело. К тому же для первого раза я чересчур опасался походить на мужа и оставить у Марты неприятные воспоминания о первых мгновениях нашей любви.
Итак, она оказалась счастливее меня. Но тот миг, когда мы разомкнули наши объятия и я увидел ее дивные глаза, вполне компенсировал мне собственную неловкость.
Ее лицо преобразилось. Я даже удивлялся, что не могу коснуться сияющего ореола, который и вправду обрамлял ее лицо, как на старинных картинах из жизни святых.
Мои недавние страхи исчезли. Им на смену пришли другие.
Ибо я понял, наконец, всю силу этого акта, на который моя робость до сих пор не могла решиться, и теперь трепетал от мысли, что Марта принадлежала своему мужу гораздо больше, нежели хотела признаться.
Правда, по-настоящему оценить то, что я только что впервые изведал, мне было еще невозможно; для этого требовался опыт каждодневных радостей любви.
А пока мнимое наслаждение принесло мне новую муку – ревность.
Я злился на Марту, так как видел по ее благодарному лицу, чего стоят плотские узы. И я проклинал мужчину, который пробудил ее тело раньше меня. И я понимал теперь, насколько был глуп, почитая Марту за девственницу. В любое другое время желать смерти ее мужу было бы всего лишь детской химерой. Но теперь это желание становилось почти таким же преступным, как если бы я убил сам. Зарождением своего счастья я был обязан войне, от нее же ждал и окончательной развязки. Я надеялся, что она послужит моей ненависти словно какой-нибудь анонимный убийца, совершающий наше преступление вместо нас.
И вот мы вместе плачем. Марта укоряет меня за то, что я не помешал ее замужеству. «Но тогда, – думаю я, – разве оказался бы я в этой постели, которую сам выбрал? Она бы жила у своих родителей; она никогда не принадлежала бы Жаку, но ведь и мне бы она тоже не принадлежала. Не будь его, ей не с кем было бы меня сравнивать, и, кто знает, может она стала бы сожалеть, надеясь на что-то лучшее. У меня ведь нет ненависти к самому Жаку. Мне ненавистна уверенность, что мы всем обязаны человеку, которого обманываем. Но я слишком люблю Марту, чтобы считать наше счастье преступным».
Мы вместе плачем – плачем о том, что мы всего лишь дети, и располагаем столь немногим. Похитить Марту? Но ведь она и так не принадлежит никому, кроме меня; похитить ее – означает похитить ее у себя самого, потому что нас наверняка бы разлучили. И мы уже предвидим, что конец войны будет и концом нашей любви. Мы оба знаем это, напрасно Марта клянется все бросить и последовать за мной хоть на край света. Я по натуре своей вовсе не склонен к бунту, и плохо себе представляю, становясь на ее место, эту безумную выходку. Наконец, она объясняет мне, почему считает себя чересчур старой: оказывается, через пятнадцать лет жизнь для меня только начнется, и меня полюбят женщины, которым будет столько же лет, сколько ей теперь. «Я смогу только страдать, – добавляет она. – Если ты меня бросишь, я от этого умру. А если останешься, то из жалости. И я буду мучиться, видя, как ты жертвуешь ради меня своим счастьем».
Несмотря на все свое возмущение, я злился на себя, что не смог показать ей достаточной убежденности в обратном. Но Марта ничего другого и не требовала. Даже самые слабые мои доводы казались ей убедительными. Она отвечала: «Да, да, конечно, я как-то об этом не подумала. Я верю тебе, я чувствую, что ты меня не обманываешь». Но сам я перед лицом ее страхов не чувствовал свою совесть вполне спокойной. Поэтому мои утешения были довольно вялыми, будто я разубеждаю ее только из вежливости. Я говорил: «Нет, вовсе нет, ты просто глупенькая». Увы, я слишком ценил молодость, чтобы не сознавать: я действительно охладею к Марте, когда ее молодость увянет, а моя еще только расцветет.
Хотя мне и казалось, что моя любовь приняла уже окончательную форму, это был всего лишь черновой ее набросок. Она слабела при малейшем препятствии.
Итак, безумства наших душ утомили нас этой ночью гораздо сильнее, чем безумства нашей плоти. Нам казалось, что изнуряя одно, мы тем самым даем передышку другому. На самом деле это нас добивало. Пели петухи, чем дальше, тем больше. Собственно, они пели, не переставая, всю ночь. Я только тогда впервые и заметил эту поэтическую ложь – будто петухи поют на восходе солнца; что было ничуть не удивительно, ведь отрочество еще не знакомо с бессонницей. Но Марту это открытие так поразило, что не оставалось никаких сомнений – с ней это в первый раз. И она никак не могла понять, почему я прижимаю ее к себе с такой силой; ведь ее удивление доказывало мне, что с Жаком она не коротала ночей до рассвета.
Все эти страхи и восторги заставляли меня принимать нашу любовь за нечто исключительное. Мы искренне верили, что никто до нас ничего подобного не испытывал, не зная еще, что любовь подобна поэзии, и что даже самые заурядные любовники мнят себя первооткрывателями.
Я говорил Марте (ничуть, впрочем, в это не веря): «Ты меня бросишь, ты полюбишь других», а она меня убеждала, что уверена в себе. Я со своей стороны, тоже мало-помалу убеждал себя, что останусь ей верен даже когда она сделается не так молода. Но в конце концов моя лень поставила наше вечное счастье в полную зависимость от ее энергии.
Сон застиг нас в совершенной наготе. Проснувшись и увидев Марту раскрытой, я испугался, как бы она не озябла. Я потрогал ее тело. Оно пылало. Вид ее спящей плоти пробудил во мне безмерное сладострастие. Минут через десять оно показалось мне нестерпимым. Я поцеловал Марту в плечо. Она не проснулась. Второй поцелуй, уже не такой целомудренный, подействовал на нас словно звон будильника. Она вздрогнула, протирая глаза, и принялась осыпать меня поцелуями, словно любимое существо, только что виденное во сне мертвым и найденное по пробуждении в собственной постели. Ей же напротив, казалось, что она спит и видит меня во сне.
Было уже одиннадцать часов. Мы пили свой шоколад, когда вдруг раздался звонок. Я тотчас же подумал о Жаке: «Лишь бы у него оказалось с собой оружие». Смерть меня всегда страшила, но тут я даже не поколебался. Напротив, я был бы даже рад, если бы это оказался Жак, при условии, что он убьет нас. Любое другое решение казалось мне смехотворным.
Спокойно смотреть смерти в лицо имеет цену лишь когда мы делаем это в одиночку. Смерть вдвоем – уже не смерть, даже для самых неверующих. Горько ведь терять не жизнь саму по себе, а то, что наполняет ее смыслом. И сели вся наша жизнь – в любви, то какая разница, жить вместе, или вместе умереть?
В любом случае, я не успел ощутить себя героем, поскольку, прикидывая, что Жак может убить меня одного или одну Марту, я взвешивал собственный эгоизм.
Так как Марта не сдвинулась с места, я уже подумал было, что ошибся, и что звонок к соседям. Но тут звонок раздался снова.
– Тише, не двигайся! – прошептала она. – Это, наверное, моя мать. Я совершенно забыла, что она собиралась зайти после мессы.
Я был счастлив стать свидетелем еще одной ее жертвы. Если любовница или друг опаздывают на свидание хоть на несколько минут, я уже вижу их мертвыми. Приписывая беспокойство такого рода ее матери, я наслаждался и им самим, и тем, что стал ему причиной.
Мы услышали, как садовая калитка захлопнулась после некоторого шушуканья (по-видимому г-жа Гранжье справлялась у обитателей первого этажа, не видели ли те сегодня утром ее дочь). Марта посмотрела в щель между ставнями и сказала: «Точно, это она». Больше я не смог противиться этому желанию – тоже взглянуть на удаляющуюся г-жу Гранжье, с молитвенником в руке, обеспокоенную необъяснимым отсутствием дочери. Уходя, она еще раз обернулась к закрытым ставням.
Теперь, когда мне больше нечего было желать, я почувствовал, что становлюсь несправедливым. Меня, например, огорчало, что Марта могла солгать своей матери без всякого зазрения совести, и я доходил в своей придирчивости даже до того, что упрекал ее вообще за способность лгать. Однако любовь, которая по сути своей есть не что иное, как эгоизм на двоих, все жертвует себе и живет именно за счет лжи. Искушаемый тем же демоном, я упрекал ее и за то, что она скрыла от меня скорый приезд мужа. До этого я еще как-то обуздывал свой деспотизм, не чувствуя себя вправе помыкать Мартой. Хотя и теперь в моей жестокости случались периоды затишья, и я стонал: «О, скоро ты поймешь свою ошибку, я такая же скотина, как и твой муж». «Но он вовсе не скотина», – возражала она. «Ах так! – начинал я с новой силой, – значит, ты обманываешь нас обоих! Признайся, что ты его любишь, и радуйся – через неделю сможешь изменять мне с ним!»
Она кусала себе губы, плакала: «Что я тебе такого сделала, почему ты стал вдруг таким злым? Умоляю, не губи первый день нашего счастья!»
– Видимо, не очень-то ты меня любишь, раз для тебя это первый день счастья.
Удары такого рода ранят в первую очередь того, кто их наносит. Ничего подобного я про нее, конечно, не думал, но мне почему-то было необходимо это высказать. Просто я не умел объяснить Марте, что моя любовь росла, и эти дикие выходки были всего лишь признаком ее переходного возраста. Это было что-то вроде линьки, вроде ломки голоса: любовь становилась страстью. Я и сам страдал от этого, и умолял Марту забыть мои нападки.
Хозяйская служанка просунула письма под дверь. Марта подняла их. Два были от Жака. Словно в ответ на мои опасения, она сказала: «Сделай с ними, что хочешь». Мне стало стыдно. Я попросил, чтобы она прочла их мне, но потом сохранила для себя. Однако Марта, повинуясь одному из тех внезапных порывов, которые толкают нас к наихудшим сумасбродствам, разорвала одно письмо в клочки. Оно рвалось с трудом – видимо, было длинным. Этот поступок дал повод к новым упрекам. Я злился и ка ее выходку, и на угрызения совести, которых ей было не миновать. Несмотря ни на что, я добился от нее, чтобы она не трогала второе письмо, и забрал его себе. А про себя подумал, что Марта, судя по этой сцене, попросту злючка. Вняв моим уговорам, она его все-таки прочла. Но, если поступок с первым письмом еще можно было объяснить внезапным порывом, то в случае со вторым это объяснение уже не подходило. Едва пробежав его глазами, она воскликнула: «Само небо награждает нас-за то, что мы его не разорвали! Жак пишет, что на его участке всех отпускников задерживают. Раньше, чем через месяц, он не приедет!»
Одна лишь любовь извиняет такие промахи вкуса.
Кстати, этот муж своим отсутствием начинал раздражать меня больше, чем если бы находился здесь и его следовало бы всерьез опасаться. Вместе с письмом нас словно посетил его призрак. Мы позавтракали поздно. Около пяти часов пошли прогуляться к реке. Марта страшно удивилась, когда я на глазах у часового вытащил из кустов свою корзинку. Вся эта история ее изрядно позабавила. Я больше не боялся показаться смешным. Мы шли, переплетя пальцы и тесно прижавшись друг к другу, даже не отдавая себе отчета, что кое-кому такое поведение могло показаться вызывающим. В это первое солнечное воскресенье гуляющих в соломенных шляпах высыпало, как грибов после дождя. Люди, знавшие Марту, не осмеливались с ней здороваться, вида нас вдвоем. Но она, в простодушии своем ничего не подозревая, приветствовала их первая. Наверняка это казалось им оскорбительной дерзостью. Она выспрашивала у меня подробности моего ночного побега. Сначала она смеялась, потом ее лицо сделалось серьезным, и она изо всех сил стиснула мне пальцы, благодарная за тот риск, которому я подвергал себя ради нее. Мы завернули к ней домой, чтобы избавиться от корзинки. Сказать по правде, я уже продумывал, не соорудить ли из этой провизии посылку, чтобы отправить ее на фронт – это казалось мне достойной концовкой моего приключения. Но такой финал был бы все-таки слишком шокирующим, поэтому я хранил его про себя.
Марта хотела пройтись по берегу Марны до Лa Варенна. Мы пообедали напротив Острова Любви. Я предложил сводить ее в музей Французского Экю – первый в моей жизни музей, который я посетил еще ребенком, и который произвел на меня неизгладимое впечатление. Я взахлеб расписывал его Марте, как нечто совершенно замечательное. Но даже когда мы самолично убедились, что это не музей, а посмешище, я не захотел признать своего заблуждения. «Как же! А резцы самого Фюльбера? А остальное?» Я ведь во все это верил. И я оправдывался, убеждая Марту, что хотел всего лишь невинно над ней подшутить. Она не верила, потому что не в моих привычках было над кем-либо подшучивать. Честно говоря, эта неудача навела меня на грустные размышления. Я говорил себе: «Быть может, и любовь Марты, в которую я сейчас так верю, обернется потом грубой подделкой, как музей Французского Экю!»
А все потому, что я часто сомневался в ее любви. Порой я задавал себе вопрос: а не был ли я для нее всего лишь развлечением от нечего делать, случайным капризом, от которого она могла избавиться в любой момент, стоило лишь окончиться войне? Но ведь бывают минуты, – говорил я себе, – когда глаза, губы не могут лгать. Однако, даже наименее щедрый человек может, напившись допьяна, сердиться, если вы отказываетесь принять от него в подарок часы или кошелек. При этом он так же искренен, как если бы был трезв. Люди лгут чаще всего именно в те моменты, когда, якобы, не могут солгать. Так что верить женщине, когда она «не может солгать», все равно, что верить пьяной щедрости какого-нибудь скряги.
Мое ясновидение было всего лишь более опасной формой моей же наивности. Сам себя я считал не таким наивным, каким был на самом деле, правда, в несколько ином роде. Ведь наивности не избегает ни один возраст. Причем наивность старости вовсе не значит – наименьшая. Она просто другая. Мое пресловутое ясновидение лишь напускало туману, заставляя меня сомневаться в Марте. И даже не столько в ней, сколько в себе самом, потому что я считал себя недостойным ее. Будь у меня тогда хоть в тысячу раз больше доказательств ее любви, я бы все равно не стал от этого менее несчастным.
Я слишком хорошо знал ценность того, в чем никогда не признаются любимым из страха показаться смешными, чтобы не предположить и у Марты того же удручающего целомудрия, что и у меня самого. И я страдал из-за невозможности проникнуть в ее душу.
Я вернулся домой в половине десятого вечера. Родители спросили меня о прогулке. Я с воодушевлением принялся расписывать им Сенарский лес, папоротники высотой в два моих роста, а также Брюнуа, очаровательную деревушку, где мы перекусили, как вдруг моя мать прервала меня насмешливо:
– Кстати, Рене заходил сегодня, часа в четыре. И очень удивлялся, узнав, что пошел с тобой в дальнюю прогулку.
Я покраснел с досады. Это мое приключение (как и многие другие, впрочем) лишний раз убеждало меня, что я отнюдь не создан для лжи, как бы тщательно я ее не готовил. Меня всегда на ней поймают. Мои родители ничего больше не добавили, удовлетворившись этим скромным триумфом.
Отец, впрочем, стал невольным пособником моей первой любви. Пожалуй, он ее даже поощрял, радуясь тому, что я в своем раннем созревании так или иначе самоутверждаюсь. Раньше он всегда боялся, что я попаду в руки какой-нибудь дурной женщины. И он был доволен, что меня полюбила девушка вполне порядочная. Лишь в одном случае он захотел бы вмешаться, – если бы Марта решила развестись.
Что до моей матери, то она отнеслась к нашей связи вовсе не так добродушно, как отец. Она была ревнива. И смотрела на Марту глазами соперницы. Она даже находила ее антипатичной, не отдавая себе отчета, что и любая другая женщина, удостоившаяся моей любви, вызвала бы у нее те же чувства. Впрочем, ее гораздо больше моего отца занимало всякое «что-люди-скажут». Она удивлялась, как это Марта решилась скомпрометировать себя с мальчишкой моего возраста. К тому же она воспитывалась в Ф…, а во всех этих пригородных местечках по мере удаления от рабочих окраин начинают свирепствовать те же страсти, та же жажда сплетен, что и в глухой провинции. Зато близкое соседство с Парижем придаст всем толкам и пересудам гораздо большую развязность. Каждый должен здесь держаться своего круга и соблюдать приличия. Именно потому, что я завел любовницу, муж которой солдат, я увидел, как мои товарищи мало-помалу отвернулись от меня, по приказу своих родителей, разумеется. Причем в строго иерархическом порядке: от сына нотариуса до сына нашего садовника. Мою мать подобные меры задевали, мне же они казались почестями. Она считала, что я гублю себя ради какой-то сумасшедшей. Наверняка она не раз попрекала отца, что сначала он свел нас с Мартой, а потом на все закрыл глаза. Но при этом полагала, что именно ему надлежит что-то предпринять. А поскольку отец помалкивал, она тоже хранила молчание.
Все свои ночи я проводил у Марты. Я приходил к ней в половине одиннадцатого, а уходил утром, часов в пять или шесть. Через стены я больше не лазил. Я удовлетворялся тем, что открывал дверь своим ключом; хотя и подобная простота требовала некоторых забот. Чтобы колокольчик никого не разбудил, я с вечера оборачивал его язычок ватой. Возвращаясь поутру, я ее снимал.







