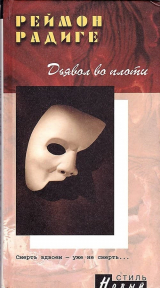
Текст книги "Дьявол во плоти"
Автор книги: Реймон Радиге
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Annotation
«Дьявол во плоти» (1920) – первый и наиболее значительный роман скандально известного французского писателя и поэта Реймона Радиге (18.VI. 1903—12.XII.1923), при жизни удостоенного титула «очарованного принца французской литературы». Роман семнадцатилетнего автора основан на отчасти автобиографическом материале и повествует об удивительно красивой и драматичной любви 16-летнего мальчика и взрослой девушки. Отличающийся исключительным психологизмом и написанный ясным живым языком роман Радиге предназначается для самой широкой читательской аудитории.
Реймон Радиге
От переводчика
notes
1
2
3
4
Реймон Радиге
Дьявол во плоти

Я навлеку на себя немало упреков. Но что тут поделаешь? Разве моя вина, что за несколько месяцев до объявления войны мне исполнилось всего двенадцать лет? А ведь тревоги и волнения, выпавшие мне на долю той смутной порой, были такого свойства, каких в том возрасте обычно не испытывают. Но, поскольку нет на свете такой силы, что состарила бы нас вопреки природе, то стоит ли удивляться, что я, переживая это приключение, которое и зрелому-то человеку недешево бы обошлось, вел себя именно как ребенок? Тут я не одинок. Сверстники мои тоже сохранят об этой поре иные воспоминания, нежели взрослые. Так что пусть все те, кого я все-таки раздосадую, просто представят себе, чем была война дня многих и многих юнцов вроде меня: четырьмя годами Больших Каникул.
Мы жили в Ф…, на берегу Марны. Совместного обучения полов родители мои, в общем, не одобряли. Но что в том проку? Чувственность, которая рождается вместе с нами и проявляется на первых порах еще вслепую, выиграла и там, где, казалось, должна была проиграть.
Я никогда не был мечтателем. То, что качалось мечтой другим, более легковерным, мне самому виделось не менее реальным, чем сыр кошке, несмотря на закрывающий его стеклянный колпак. Правда, колпак все-таки существует. Но уж зато стоит ему разбиться – кошка своего не упустит, даже если его разбили сами хозяева и порезали себе руки при этом.
Лет до двенадцати никаких влюбленностей за собой я не припоминаю, кроме увлечения одной девочкой, по имени Кармен, которой я отправил с другим мальчишкой, гораздо младше меня, письмо, где как смог, выразил свою любовь. Эта любовь казалась мне достаточным основанием, чтобы требовать свидания. Письмо ей передали утром, перед самыми уроками. Надо сказать, что я удостоил своим выбором единственную девочку в школе, похожую на меня – она была чистенькая и ходила на занятия с младшей сестренкой, как я – с братишкой. Чтобы оба этих малолетних свидетеля помалкивали, я предполагал их поженить или что-то в этом роде. Поэтому к собственному письму добавил еще одно, якобы от брата, адресованное м-ль Фоветте. Брату я свои хлопоты объяснил тем, что это исключительная удача – наткнуться сразу ка двух девчонок подходящего возраста, да еще с такими редкими именами.
Кармен, кстати, действительно оказалась ребенком из приличной семьи, в чем я с грустью и убедился, когда, пообедав дома с родителями (которые меня баловали и многое спускали с рук), вернулся в класс.
Едва мои однокашники расселись по местам, а сам я, на правах первого ученика, доставал из шкафа, скрючившись наверху, книги для устного чтения, как в класс неожиданно вошел директор. Ученики встали. Директор держал в руке письмо. Ноги мои подкосились, книги рассыпались. Я кинулся их подбирать. А директор тем временем о чем-то тихонько переговаривался с учителем. Ученики с первых парт уже начали оборачиваться в мою сторону, так как уловили в их шепоте мое имя. Я стоял в дальнем конце класса ни жив ни мертв и пунцовел. Наконец, директор подозвал меня и, дабы подвергнуть изощренной казни, не вызвав при этом (как ему казалось) подозрений, у моих одноклассников, поздравил с тем, что мне удалось написать письмо в целых двенадцать строк и без единой ошибки. Он еще поинтересовался, сам ли я его написал, а потом предложил прогуляться с ним в его кабинет. До кабинета мы, впрочем, так и не дошли. Он выбранил меня прямо во дворе, под проливным дождем. Но что больше всего меня смутило и поколебало мои нравственные устои, так это его утверждение, будто я совершил два равно тяжких преступления – скомпрометировал юную особу (чьи родители, собственно, и передали ему мое послание) и похитил листок почтовой бумаги. Он грозился отослать этот листок ко мне домой. Я умолял его не делать этого. Он уступил, предупредив, правда, что исполнит угрозу при первом же рецидиве с моей стороны. Он, дескать, не сможет скрывать долее мое дурное поведение.
Эта смесь робости и дерзости в моем характере больше всего вводила в заблуждение моих родителей, поскольку в школе я хоть и ленился, но многое схватывал на лету и слыл хорошим учеником.
Я вернулся в класс. Учитель иронически назвал меня Дон Жуаном, чем я был до крайности польщен, в особенности потому, что это было имя из произведения, знакомого мне, но незнакомого моим однокашникам. И дальнейшем его неизменное «Как дела, Дон Жуан?» и моя понимающая ухмылка в ответ сильно расположили класс в мою пользу. А может, стало известно, что я подрядил карапуза из младших классов отнести письмо «какой-то девке», как выражаются школяры на своем грубом жаргоне. Этого малыша, кстати сказать, звали Мессаже[1]. Не могу утверждать, что выбрал его из-за фамилии, но она, по крайней мере, внушила мне доверие.
Еще в час пополудни я умолял директора не выдавать меня отцу, а в четыре уже умирал от желания рассказать ему все самому. Так что отнесем это признание на счет моего чистосердечия. Зная наверняка, что отец не рассердится, я даже восхищался мыслью, что он прознает, наконец, о моих подвигах.
Итак, я совершил признание, добавив с гордостью, что директор пообещал мне (как взрослому!) полное соблюдение тайны. Отцу захотелось узнать, не сочинил ли я этот любовный роман от начала и до конца. Он навестил директора. Во время визита он как бы между прочим завел речь и о том, что сам считал вздорной выдумкой. «Как? – воскликнул директор, изумленный и уязвленный. – Он сам вам все рассказал? Но он же умолял меня молчать, говорил, что вы его убьете!»
Я простил директору его ложь. Она лишь усугубила мое упоение собственной мужественностью. Одним выстрелом я убил сразу двух зайцев: приобрел уважение товарищей по классу и подмигивания учителя. Директор затаил злобу. Но бедняга еще не знал, что отец, неприятно удивленный его двуличием, уже решил забрать меня из этой школы, дав, правда, закончить учебный год.
Было тогда начало июня. Мать, не желая допустить, чтобы это решение могло повлиять на мои награды, решила приберечь новость напоследок и объявить о ней уже после раздачи грамот и венков. Когда же день настал, директор, который конфузливо побаивался последствий своего вранья, пошел на явную несправедливость, присудив мне – единственному из всего класса – золотой венок, хотя его заслуживал еще один мальчик, удостоенный всего лишь похвального листа. Плохой расчет: заведение потеряло на этом обоих своих лучших учеников, так как родитель похвального листа тоже забрал своего отпрыска из школы.
Ученики вроде нас служили приманкой – чтобы тянуть за собой остальных.
Мать сочла меня слишком юным, чтобы ходить в лицей Генриха IV. При этом она имела в виду – ездить туда на поезде. Я, таким образом, оставался дома на целых два года и должен был заниматься самостоятельно.
Я сулил себе сплошные удовольствия, потому что, успевая сделать за четыре часа столько же, сколько мои бывшие одноклассники за два дня, большую часть времени мог предаваться праздности. Я в одиночестве прогуливался по берегу Марны, с которой мы так сжились и так к ней привыкли, что сестренки потом и Сену называли «Марной». Я даже залезал в отцову лодку, несмотря на все его запреты; весла я, правда, не трогал, но избегал признаться самому себе, что боюсь грести не потому, что мне это отец запретил, но потому, что просто боюсь. В 1913 и 1914 годах здесь были проглочены сотки две книг. Причем вовсе не из тех, что считаются плохими, скорее уж – наилучшими, если не по духу, то по содержанию. И лишь гораздо позже, уже в том возрасте, когда отрочество с пренебрежением глядит на книжки из «Розовой библиотеки», я вдруг приохотился к этому детскому чтиву, оценив все его наивное обаяние. Но тогда ни о чем подобном я и слышать не хотел.
Ущербность такого времяпрепровождения, с отдыхом и занятиями вперемешку, привела к тому, что весь год превратился для меня в какие-то обманчивые каникулы. Однако каким бы пустяком не казались мне самому мои ежедневные труды, я все-таки продолжал работать и тогда, когда другие бездельничали. Этот пустяк был для меня чем-то вроде огрызка пробки на веревочке, за которым кошка охотится всю свою жизнь, хотя, конечно же, предпочла бы просто наесться до отвала.
Приближались настоящие каникулы, но меня это очень мало заботило, потому что режим мой от этого ничуть не менялся. Кошка по-прежнему смотрела на сыр под колпаком. Но вот пришла война. Она вдребезги разбила колпак. У хозяев нашлись дела поважнее, чем стеречь шкодливых кошек. И кошка возрадовалась.
Сказать по правде, каждый тогда чему-нибудь да радовался во Франции. Детвора со своими учебниками и похвальными листами толпилась у афиш. Нерадивые ученики вовсю пользовались смятением, воцарившимся в их семьях.
Каждый день после обеда мы ходили на вокзал в Ж…, в двух километрах от дома, глядеть на проходящие военные поезда. Мы рвали по дороге охапки колокольчиков и бросали их солдатам. Дамы в рабочих халатах наливали красное вино во фляги и котелки, и целые литры его расплескивались по перрону, усыпанному цветами. От всего этого у меня осталось впечатление, как от фейерверка. И никогда больше не видел я столько пролитого вина, столько увядших цветов. И нам, как и остальным, пришлось увить окна нашего дома цветными лентами.
Вскоре мы перестали ходить в Ж…. Мои братья и сестры уже ворчали на войну. Они находили, что та слишком затянулась. Летом они привыкли вставать поздно, а тут им приходилось выбегать за газетами аж в шесть часов. Да и то сказать – убогое развлечение! Но в двадцатых числах августа эти юные чудовища вновь ощутили прилив надежды. Теперь, вместо того, чтобы сразу вылезать из-за стола, где засиделись взрослые, они предпочитают остаться и послушать отца, толкующею об отъезде. Ни на какой транспорт, конечно, рассчитывать не приходится. Весь долгий путь предстоит проделать на велосипедах. Братья подтрунивают над младшей сестренкой – колеса ее велосипедика едва ли достигают сорока сантиметров в диаметре. «Вот как бросим тебя одну на дороге!» Сестренка ревет в голос. Но зато с каким рвением надраиваются машины! Они и мою предлагают починить. Они встают чуть свет, чтобы разузнать новости. И пока все вокруг удивляются, я неожиданно обнаруживаю подлинный исток этого патриотизма: поездка на велосипедах. К самому морю! К морю гораздо более прекрасному и далекому, чем когда бы то ни было. Они бы и Париж сожгли, лишь бы уехать поскорее. То, что ужасало всю Европу, превратилось для них в единственную надежду.
Так ли уж отличается детский эгоизм от нашего? Летом в деревне мы проклинаем дождь, который призывают земледельцы.
Редко бывает, чтобы какой-нибудь катаклизм разразился без предвещавших его знамений. Австрийское покушение, громкое дело Кайо, все это накаляло атмосферу, делало ее удушливой и благоприятной для всяческих сумасбродств. Так что одно мое военное впечатление предшествует собственно ной не.
И вот каким образом.
Мы, то есть я с братьями, постоянно потешались над одним из наших соседей – презабавным человечком, карликом с белой бородкой и в неизменном колпачке, муниципальным советником по фамилии Марешо. Все его звали запросто: папаша Марешо. Хоть мы и жили буквально дверь в дверь, но наотрез отказывались с ним здороваться, отчего он так страшно бесился, что однажды, когда терпение лопнуло, подстерег нас и, преградив путь, зашипел: «Вот как, вот как, с муниципальными советниками, значит, больше не здороваются?» Мы спаслись бегством. Начиная с этого момента военные действия были объявлены. Но что мог против нас какой-то муниципальный советник? Каждый раз, возвращаясь из школы, братья походя звонили в его звонок, с тем большей дерзостью, что советниковой собаки (которой лет было столько же, сколько и мне в ту пору) можно было ничуть не опасаться.
Накануне 14 июля[2] я пошел встречать братьев из школы. Каково же было мое изумление, когда перед садовой решеткой Марешо я увидел настоящую толпу. Само их жилище пряталось в глубине сада за подстриженными липами. Оказалось, в два часа пополудни их молодая служанка сошла с ума, залезла на крышу и отказывается оттуда слезать. Перепуганные Марешо, пытаясь укрыться от скандала, заперлись дома и наглухо затворили ставни, отчего драматизм этого безумства на крыше только усиливался, ибо дом выглядел совершенно необитаемым. Люди вокруг кричали, негодуя на хозяев, которые ничего не предпринимают, чтобы спасти несчастную. Она же бродила, качаясь, по черепице, но при этом не выглядела пьяной. Я бы так там навсегда и остался, но тут явилась наша собственная служанка, посланная моей матерью, с приказанием немедля заняться делом. Иначе меня грозились лишить праздника. Я ушел с тоской в душе, моля Бога, чтобы безумная все еще оставалась там, когда я пойду за отцом на станцию.
Она не покинула свой пост, но теперь редкие прохожие, возвращавшиеся из Парижа, торопились домой к обеду, чтобы не пропустить начало торжеств, и уделяли ей разве что минуту рассеянного внимания.
Впрочем, до этого момента рехнувшаяся служанка проводила лишь более-менее публичную репетицию. Настоящему ее дебюту суждено было состояться, как и положено, вечером, при свете праздничных гирлянд, превратившихся по этому случаю в рампу. Огни были зажжены одновременно и на улице, и в саду, поскольку Марешо, именитые граждане, как-никак, не осмелились, вопреки своему притворному отсутствию, отменить иллюминацию. Этот зловещий дом, по крыше которого разгуливала, словно по палубе расцвеченного флагами корабля, безумная женщина с развевающимися волосами, был фантастичен уже сам по себе; впечатлению еще больше способствовал голос этой несчастной – нечеловечески гортанный, и вместе с тем исполненный какой-то кротости, – от которого мороз продирал по коже.
Пожарные нашей маленькой дружины числились «добровольцами», то есть весь день они занимались собственными делами, не имеющими к шлангам и помпам ровно никакого отношения. То были: молочник, кондитер, слесарь и так далее, которые, по окончании трудов своих, могли взяться и за тушение пожара, если бы тот еще не погас сам собой к тому времени. С момента объявления мобилизации они превратили себя еще и в некое таинственное ополчение, и принялись устраивать всякие дозоры, учения и ночные обходы. В конце концов, эти бравые ребята добрались и сюда и храбро протолкались сквозь толпу.
От сборища отделилась какая-то женщина, оказалось – супруга другого муниципального советника, соперника Марешо, и в течение нескольких минут жалобно причитала над судьбой несчастной служанки. Потом обратилась к старшине и порекомендовала: «Попытайтесь взять ее лаской. Бедняжке и так несладко приходится в этом доме. Мало того, что ее бьют, ее еще и грозятся выгнать. Вы ей скажите, что если это с ней из-за страха потерять место, то я готова взять ее к себе. Я даже удвою ей жалованье».
На толпу эти шумные проявления человеколюбия произвели посредственный эффект. Дама явно всех раздражала. У людей на уме было теперь одно: захват. Пожарные в количестве шести душ перелезли через ограду, окружили дом и стали карабкаться на стены. Но стоило одному из них достигнуть крыши, как толпа, словно дети на представлении куколь-пою театра, дружно завопила, предупреждая жертву об опасности.
– Да замолчите же вы! – кричала человеколюбивая дама, но это лишь подлило масла и огонь. «Вон он! Вон он!» – бесновалась публика. В ответ на эти призывы безумная, вооружившись черепицей, запустила ее прямо в каску пожарного, только что достигшего конька крыши. Пятеро других тотчас же ретировались.
В то время как владельцы тиров, каруселей и балаганов на Ратушной площади горько сетовали, видя столь малое количество посетителей, и это в такую ночь, когда выручка просто обязана быть обильной, самые отчаянные сорванцы толпились на лужайке, взбирались на окрестные крыши, лишь бы не упустить подробностей охоты. Безумная что-то говорила, обращаясь к толпе, с глубокой смиренной грустью в голосе, которая придавала ему такую убедительность, что заставляла верить, будто лишь его обладатель прав, а все остальные заблуждаются.
Сорванцы, что предпочли это зрелище всем прочим увеселениям, были не прочь, тем не менее, разнообразить свои восторги. Трепеща, как бы сумасшедшую не поймали в их отсутствие, некоторые из них все же убегали прокатиться разок другой на карусели. Другие, более последовательные, рассевшись по ветвям деревьев, словно во время Венсенского парада, довольствовались тем, что жгли бенгальские огни и взрывали петарды.
Можно было только догадываться, как тосковали Марешо, запертые в собственном доме посреди этого грохота и искр.
Муниципальный советник, супруг человеколюбивой дамы, произнес, взгромоздившись на подножие решетки, краткую речь, обличающую малодушие хозяев. Ему зааплодировали.
Решив, что аплодисменты предназначаются ей, безумная принялась раскланиваться, зажав в каждой руке по нескольку черепиц, которыми швырялась всякий раз, как замечала отблеск на чьей-нибудь каске. Своим нечеловеческим голосом она благодарила собравшихся за то, что ее, наконец, поняли. Мне представилось, что это пиратская капитанша, оставшаяся в одиночестве на своем идущем ко дну корабле.
Наскучив представлением, толпа стала потихоньку рассеиваться. Мне хотелось остаться здесь, с отцом, но мать, чтобы удовлетворить детскую потребность в головокружении, решила отвести своих младших к каруселям и «русским горкам». Честно говоря, такую потребность я и сам испытывал, и даже острее, чем братья. Мне всегда нравилось ощущение, когда сердце вдруг замирает, а потом начинает колотиться быстро и неровно. Но это зрелище, исполненное такой глубокой поэзии, находило во мне гораздо более живой отклик. «Какой ты бледненький», – сказала мать. Я отговорился, что это из-за бенгальских огней. Это они мол, придают мне зеленоватый оттенок.
– Боюсь все-таки, что он чересчур разволновался, – пожаловалась мать отцу.
– По́лно, – ответил тот. – Его ничем не проймешь. Способен глазеть на что угодно, кроме обдирания кролика.
Отец сказал это лишь ради того, чтобы я мог остаться. На самом-то деле он знал, что зрелище меня завораживало. И я чувствовал, что он тоже не остался к нему равнодушен. Я попросил его взять меня к себе на плечи, чтобы лучше видеть. Хотя меня попросту не держали ноги. Я едва-едва не терял сознание.
На лужайке к тому времени оставалось человек двадцать. И тут мы услышали трубный глас. Это был сигнал к началу факельного шествия. Безумную внезапно осветила сотня факелов, словно вспыхнул, затмевая приглушенные огни рампы, магний фотографа, запечатлевшего новую звезду. И она, замахав руками в знак прощения, решив, наверное, что настал конец света или что ее сейчас схватят, бросилась с крыши вниз, с жутким треском проломила навес над крыльцом и распласталась на каменных ступенях. До этого момента я еще как-то держался, хотя в ушах звенело и дыхание перехватывало. Но когда до меня донеслись людские выкрики: «Жива! Еще жива!», я свалился с плеч моего отца, окончательно потеряв сознание.
Когда я пришел в себя, отец отнес меня на берег Марны. Мы оставались там до самой глубокой ночи, в молчании, лежа в траве.
А по дороге домой мне почудилось, что я вижу за решеткой белый силуэт – призрак безумной служанки! Привидение оказалось папашей Марешо. В своем полотняном колпаке он горестно созерцал постигший его разгром: пробитый навес, истоптанную лужайку, помятые кусты и свой загубленный престиж.
Я потому так настаиваю на этом эпизоде, что он полнее, нежели любой другой, передает всю странность той военной поры. И потому еще, что даже больше, чем его внешняя живописность, меня поразила скрытая в нем поэзия.
К нам докатилась пушечная пальба. Бои шли совсем рядом, неподалеку от Мо. Рассказывали, что наши уланы попали в плен всего в пятнадцати километрах от нашего дома, под Ланьи. А моя тетка не переставая твердила о своей подруге, сбежавшей в первые же дни войны, предварительно закопав в саду каминные часы и запас консервов. Сам я допекал отца, уговаривая его как-нибудь исхитриться и взять с собой наши старые книги – их мне было горше всего потерять.
В конце концов, когда мы совсем уже было приготовились к бегству, из газет стало ясно, что все это ни к чему.
Мои сестренки теперь ходили в Ж…, относить корзинки груш раненым. Своим прекрасным, но несбывшимся планам они нашли некоторое возмещение, хоть и убогое, надо заметить: когда они добирались до Ж…, в их корзинках было уже почти пусто.
Я должен был поступить в лицей Генриха IV, но отец предпочел подержать меня за городом еще годик. Единственным моим развлечением в ту унылую зиму стало бегать поутру к нашей газетной торговке, чтобы наверняка заполучить номер «Острого словца» – газетки, выходившей по субботам, которая меня забавляла.
Но вот пришла весна, которую оживили мои первые опыты волокитства. Под предлогом сбора пожертвований я теперь частенько прогуливался, нарядно одетый, рука об руку с какой-нибудь юной особой. Я держал кружку с прорезью, она – корзиночку с поощрительными значками. Уже со второго захода собратья подучили меня извлекать выгоду из этих внеурочных занятий, когда мне на руки подкидывали очередную девчушку. Отныне мы старались набрать как можно больше денег с утра, относили в полдень свою жатву даме-распорядительнице, и на весь оставшийся день уходили к Шеневьерским косогорам, где предавались всяческим шалостям. Тогда же у меня впервые завелся друг. Мне нравилось ходить за пожертвованиями с его сестрой. Это был вообще первый раз, когда я смог поладить с другим мальчишкой, таким же, впрочем, скороспелым, как и я сам. Я даже восхищался его пригожестью и нахальством. Наше общее презрение к сверстникам сблизило нас еще больше. Мы почитали себя единственными среди них, кто понимает, что к чему; более того, нам казалось, что лишь мы с ним достойны женского внимания. Мы мнили себя настоящими мужчинами. По счастью, нашей дружбе не грозила разлука. Рене уже учился в лицее Генриха IV, а я, приступая к регулярным занятиям, должен был попасть как раз в его класс – третий. Ради меня Рене принес даже исключительную жертву: хотя ему не нужно было учить греческий, он убедил своих родителей записать его на курс. Таким образом, мы смогли бы проводить вместе все учебное время. Но, поскольку в первый год он греческий пропускал, то теперь ему приходилось заниматься с репетитором. Его родители ничего в толк не могли взять. Ведь ранее они избавили его от греческого по его же собственной просьбе. Пришлось им приписать этот неожиданный поворот моему благотворному вниманию; и если остальных приятелей Рене они просто терпели, то я был единственным, кто удостоился их одобрения.
Впервые ни один день каникул не был мне в тягость. Я познал, наконец, то, чего не избегает познать никто в этом возрасте, и мое опасливое высокомерие растаяло в одночасье, подобно ледышке, стоило лишь кому-то взяться за меня способом, который бы меня самого устраивал. Наше общее превосходство над сверстниками разом покрыло половину того расстояния, которое предстояло одолеть нашей гордости.
В день возобновления занятий Рене стал для меня настоящим проводником. С ним все превращалось в удовольствие, и я, который раньше без нужды и шагу не желал ступить, вдруг полюбил проходить пешком, да еще два раза в день, расстояние, отделявшее Генриха IV от Бастильского вокзала, где мы садились на наш поезд.
Так прошли три года, без других привязанностей и без других надежд, кроме как приволокнуться в четверг за девочками, которых родители моего друга поставляли нам без всякой задней мысли, невинно приглашая друзей своего сына и подруг своей дочери отведать наши любимые лакомства, которые мы, впрочем, тут же и похищали друг у друга под предлогом игры в фанты.
С наступлением погожих дней отец любил выводить нас, меня и братьев, в дальние пешие прогулки. Больше всего нам нравилось добираться до Ормесона по берегу Мор-бра – речушки в метр шириной, текущей через поля, заросшие цветами, которые я нигде больше не встречал и название которых не помню. Стоит там забрести ненароком на зыбкую почву у самой воды, и нога утопает по самую щиколотку среди пучков кресс-салата и мяты. А по весне речушка несет в себе тысячи бело-розовых лепестков – цвет боярышника.
В одно апрельское воскресенье 1917 года мы, как это нам нередко случалось, сели на поезд, идущий в Ла Варенн, чтобы оттуда пешком дойти до Ормесона. Отец сказал мне, что в Ла Варенне нас будут поджидать некие приятные люди, по фамилии Гранжье.
Про этих Гранжье я уже немного знал, так как видел имя их дочери, Марты, в каталоге одной художественной выставки. А еще раньше мои родители в разговоре обмолвились, что ожидают визит какого-то г-на Гранжье. Вскоре тот и сам явился, с папкой, набитой произведениями его восемнадцатилетней дочери. Марта тогда была нездорова. Ее отец хотел сделать ей сюрприз – пристроить эти акварели на благотворительную выставку, где председательницей была моя мать. Акварельки были так себе, вполне посредственные, чувствовалась рука прилежной ученицы, из тех, что высовывают кончик языка и мусолят кисточки.
Гранжье встретили нас на перроне ла вареннского вокзала. И г-н и г-жа Гранжье были примерно одного возраста, что-то около пятидесяти. Но при этом г-жа Гранжье выглядела старше своего мужа. Приземистая, совсем не элегантная, она не понравилась мне с первого взгляда.
Потом, уже во время прогулки я заметил, что она часто хмурилась, отчего ее лоб покрывался складками, на разглаживание которых уходило не меньше минуты. Чтобы оттолкнуть меня от себя окончательно, и чтобы при этом я не мог упрекнуть себя в несправедливости, ей не хватало лишь вульгарной манеры разговаривать. Правда, тут она меня разочаровала.
Что касается ее мужа, то он выглядел славным малым, этаким отставным унтер-офицером, в котором солдаты души не чают. Но куда подевалась Марта? Я содрогался при мысли, что мне придется совершить прогулку, не имея другого общества, кроме ее родителей. Оказалось, она должна подъехать следующим поездом. «Всего через какую-нибудь четверть часа, – уточнила г-жа Гранжье. – Просто не успела собраться вовремя. Ничего, зато привезет с собой братишку».
Когда поезд прибыл на станцию, Марта стояла на подножке вагона. «Дождись, пока поезд остановится!» – крикнула ее мать. Неосторожность дочери меня очаровала.
Ее платье и шляпа, очень простые, обличали весьма малое почтение к мнению посторонних. Она держана за руку мальчугана лет одиннадцати – своего младшего брата – бледного ребенка с волосами альбиноса, в каждом движении которого сквозила болезненность.
Во время прогулки мы с Мартой возглавляли шествие. Мой отец его замыкал, шагая между старшими Гранжье.
Что касается моих братьев, то они явно скучали со своим новым товарищем, которому из-за его худосочия бегать не разрешалось.
Поскольку я похвалил Марте ее акварели, она мне ответила просто, что это всего лишь ученические работы. Сама она не придаст им никакого значения. Лучше уж она покажет мне свои «стилизованные» цветы. На первый взгляд я рассудил за благо не сообщать ей, что нахожу этот сорт растений нелепым.
Из-за полей своей шляпы она не могла меня толком рассмотреть. Зато я смотрел на нее во все глаза.
– Вы не очень похожи на свою матушку, – заметил я ей.
С моей стороны это был настоящий мадригал.
– Да, мне уже говорили, – сказала она. – Но вот подождите, когда будете у нас, я покажу вам мамины девичьи фотографии. Там я на нее очень похожа.
Я опечалился этим ответом и взмолил Бога, чтобы он не сподобил меня лицезреть Марту в возрасте ее маменьки.
Желая преодолеть натянутость, вызванную столь тягостным ответом, и не понимая, что тягостным он мог показаться только мне, ибо Марта, по счастью, отнюдь не смотрела на свою мать моими глазами, я брякнул:
– Зря вы так причесались. Гладкие волосы вам бы больше пошли.
Я даже оторопел от собственной дерзости. Никогда раньше не доводилось мне говорить подобное женщине. Я подумал: а что сейчас у меня-то самого творится на голове?
– Можете у мамы спросить, обычно я так плохо не причесываюсь, – (как будто ей была нужда передо мной оправдываться!) сказала она. – Это все из-за спешки – боялась, как бы на поезд не опоздать. К тому же, я ведь и не собиралась снимать шляпу.
«Что же это должна быть за девушка, – думал я, – если соглашается терпеть выговор от какого-то мальчишки из-за нескольких растрепавшихся прядей?»
Я попытался угадать ее литературные пристрастия и был счастлив выяснить, что она читала и Верлена, и Бодлера; и был даже очарован тем, как именно она любит того же Бодлера, хотя сам я любил его несколько иначе. Я усмотрел в этом некий бунт. Родителям все-таки удалось привить ей свои вкусы. Хоть и мягко, Марта пеняла им за это. Ее жених рассказывал ей в своих письмах, что́ прочел сам, и некоторые книги советовал, а некоторые запрещал. «Цветы зла» он ей запретил настрого.
Неприятно удивленный, что она обручена, я тут же возликовал, что в итоге она ослушалась своего солдафона, тупого настолько, чтобы бояться Бодлера. Я догадывался, и был несказанно доволен, что такой жених должен частенько шокировать Марту. Когда чувство первой досады миновало, я даже поздравил себя с его ограниченностью, тем более, что, окажись он потоньше и распробуй прелесть «Цветов зла», я бы всерьез опасался за их будущность. Она виделась мне такой же, как в «Смерти влюбленных». Потом я спрашивал себя, чтобы тогда со мной самим сталось и при чем тут я.
Жених, оказывается, запрещал ей также уроки академического рисунка. Сам я их сроду не посещал, но тут же вызвался отвести ее в студию, добавив, что постоянно там занимаюсь. Тотчас же испугавшись, как бы моя ложь не выплыла наружу, я упросил ее ничего не говорить моему отцу. Он, дескать, не знает, что ради этого я пропускаю уроки гимнастики. Сказать по правде, мне просто не хотелось, чтобы она подумала, будто меня не пускают в Гранд-Шомьер из-за голых женщин. Этот крошечный секрет, связавший нас обоих, наполнил меня блаженством, и я, робкий по природе, уже вообразил, что приобрел над ней тираническую власть.







