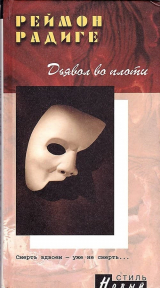
Текст книги "Дьявол во плоти"
Автор книги: Реймон Радиге
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Я пытался втолковать ей, насколько будет безнравственным, если я поеду с ней. Чем меньше ярости оскорбленного любовника содержалось в моем ответе, тем он был убедительнее. В первый раз она услыхала из моих уст слово «нравственность». Оно пришлось как нельзя более кстати, потому что Марта, будучи от природы вовсе не злой, наверняка испытывала, как и я, приступы сомнений относительно «нравственности» нашей любви. И если бы я не произнес это слово, она могла меня самого заподозрить в безнравственности, ибо, несмотря на весь свой бунт против пресловутых буржуазных предрассудков, у нее самой их вполне хватало. Больше того, предостерегая ее в первый раз, я тем самым как бы доказывал, что до сих пор мы ничего предосудительного не совершали.
Марта понимала теперь, насколько невозможным становилось это скабрезное подобие свадебного путешествия. Хотя и сожалела о нем.
– По крайней мере, позволь мне не ездить.
Слово «нравственность», брошенное мимоходом, делало из меня теперь чуть ли не ее духовника. И я воспользовался этой новой властью, словно деспот, упивающийся своим всемогуществом, ибо власть особенно заметна, когда сочетается с несправедливостью. Поэтому я ответил ей, что не вижу ничего дурного, если она откажется от поездки в Бурж. Я привел доводы, которые окончательно ее в этом убедили: она чересчур устанет от этой поездки, а Жак и без того скоро поправится. Казалось, эти доводы оправдывали ее, если не в глазах самого Жака, то, по крайней мере, в отношении его родителей.
Пытаясь направлять Марту в нужную мне стороны, я мало-помалу переделывал ее по собственному образу и подобию. Вот в чем я обвинял себя, а значит и в том, что умышленно разрушал наше счастье. Марта походила на меня все больше и больше, она становилась по-настоящему моим творением. Это меня и восхищало, и злило. Я видел в этом сходстве залог нашего взаимопонимания, но также и причину будущей катастрофы. В самом деле, ведь я понемногу внушал ей и собственную неуверенность, а это значило, что когда настанет час принять какое-то решение, она не сможет принять никакого. Я чувствовал, что у нее, как и у меня, опускаются руки, когда волны подмывают наш песчаный замок, в то время как другие дети просто старались строить подальше.
Следствием такого духовного сходства становится и сходство физическое. Взгляд, походка – посторонние часто принимали нас за брата с сестрой. Этот зародыш сходства существует во всех нас, любовь только развивает его. Случайный жест или какая-нибудь нотка в голосе выдают даже самых осторожных любовников. У сердца свои резоны, которых рассудок не признает, но это потому лишь, что рассудок менее рассудителен, чем сердце. Безусловно, все мы Нарциссы, мы любим и ненавидим лишь собственный образ; но, как и Нарциссу, любой другой нам попросту безразличен. Это инстинкт сходства. Именно он ведет нас по жизни, приказывая время от времени: «Стой!» – перед пейзажем, женщиной, стихотворением. Мы не можем восхититься кем или чем-либо, не получив этот приказ. Инстинкт сходства – это единственная линия поведения, в которой нет ничего искусственного. Но в обществе, пекущемся о морали, лишь грубым натурам прощают пристрастие к себе подобным. Так что некоторые мужчины, преследующие, скажем, исключительно блондинок, чаще всего даже не сознают, что сходство тем глубже, чем менее оно явно.
В течение нескольких дней Марта казалась рассеянной, но не печальной. Будь она рассеянной и печальной, я бы еще мог объяснить это озабоченностью – ведь приближалось пятнадцатое июля, день, когда ей надлежало присоединиться к родителям Жака и к самому выздоравливающему Жаку на одном из ла-маншских курортов. В разговоре со мной Марта больше молчала, вздрагивая порой при звуках моего голоса. Она терпела нестерпимое – визиты мужниной родни, публичные унижения, горькие недомолвки собственной матери, добродушие отца, который хоть и намекал на любовников, но сам в них не верил.
Почему она терпела все это? Не было ли это следствием моих же попреков, что она, дескать, любому пустяку придаст слишком большое значение? Она выглядела даже счастливой, но я не понимал причин этого счастья, которое казалось мне странным и от которого она сама, похоже, испытывала беспокойство. В свое время я посчитал ребячеством, что Марта в моем собственном молчании усмотрела безразличие; теперь я обвинил ее в том, что, раз она молчит, значит меня не любит.
Марта не осмеливалась сказать мне, что беременна.
Узнав эту новость, я хотел выглядеть счастливым. Но сначала она меня просто ошеломила. Никогда раньше мне не приходило в голову, что придется нести ответственность за что бы то ни было. И вот на меня свалилась ответственность за наихудшее. И я бесился тем больше, что не мог отнестись к этому просто и естественно, как и подобало настоящему мужчине. Марта призналась мне лишь после того, как я ее к этому вынудил. Она боялась, как бы этот миг, который должен был нас еще сильнее сблизить, не разлучил окончательно. Но я изображал на лице такой восторг, что ее страхи рассеялись. Уроки буржуазной морали были усвоены ею слишком глубоко – этот ребенок означал для нее, что Бог не только не покарал нас ни за какое преступление, но даже наоборот – благословлял нашу любовь.
В то время как Марта видела в своей беременности лишнее доказательство, что я ее никогда не брошу, меня эта беременность приводила в уныние. Мне казалось невозможным, несправедливым иметь в этом возрасте ребенка, который станет обузой нашей юности. В первый раз я поддался страхам материального свойства: а что будет, если наши семьи от нас отвернутся?
Я уже начинал любить этого ребенка, но именно из-за любви я его и отталкивал. Боясь ответственности, я не хотел обречь его на трагическое существование. Я и сам на него был бы не способен.
Инстинкт – наш поводырь. И он ведет нас прямиком к погибели. Еще вчера Марта боялась, что ее беременность отдалит нас друг от друга; сегодня, когда она любила меня сильнее, чем когда бы то ни было, ей казалось, что и моя любовь должна возрасти соответственно. Еще вчера я отталкивал этого ребенка, сегодня я начинал его любить и ради него отнимал часть своей любви у Марты, точно так же, как в самом начале нашей связи мое сердце одаривало ее тем, что отнимало у других.
Теперь, прикасаясь губами к Мартиному животу, я целовал уже не ее, а своего ребенка. Увы! Марта переставала быть моей любовницей. Она становилась матерью.
Я уже никогда не смог бы вести себя с нею так, словно мы были одни. Теперь с нами постоянно находился свидетель, которому мы обязаны были давать отчет в своих поступках. Я с трудом переносил эту внезапную перемену, ответственной за которую считал Марту, и, однако, чувствовал, что извинял бы ее еще меньше, если бы она мне солгала. Но в какие-то минуты мне казалось, что Марта все же солгала, ради того, чтобы еще чуть-чуть продлить нашу любовь, но что этот ребенок не мой.
Словно больной, который вертится с боку на бок и никак не может найти покоя, так и я не знал, ка какой бок повернуться. Я чувствовал, что больше не люблю прежнюю Марту, и что мой сын будет счастлив не иначе, как считая Жака своим отцом. Конечно, такая уловка огорчила бы меня. Приходилось отказываться от Марты. С другой стороны, напрасно я мнил себя мужчиной, дело было слишком серьезное, чтобы чваниться этим до такой степени и почитать возможным столь глупое (а я-то считал – столь мудрое) существование.
Ведь Жак вернется рано или поздно.
А вернувшись после вынужденного отсутствия, обнаружит свою супругу (как и многие другие солдаты, обманутые в силу исключительности обстоятельств) печальной, покорной и ничем не выдающей своего беспутства. Но этот ребенок сможет быть оправдан в его глазах лишь в том случае, если Марта пойдет на близость с ним во время его выздоровления. Моя трусость на это уповала.
Из всех наших сцен эта не была ни самой странной, ни самой мучительной. Я даже удивился, встретив столь слабое сопротивление. Объяснение этому я нашел позже. Просто Марта не осмеливалась раньше признаться, что Жаку удалось-таки одержать над ней победу во время своего последнего отпуска, и рассчитывала теперь, сделав вид, что подчиняется мне, уклониться от близости с ним в Гранвиле под предлогом своего болезненного состояния. Все это сложное построение отягощалось датами, мнимость совпадения которых не замедлит обнаружиться во время родов, уже ни для кого не оставляя сомнений. «Подумаешь! – говорил я себе. – У нас еще есть время. Наверняка Мартины родители побояться скандала. Они упрячут ее куда-нибудь в деревню и попридержат новость».
Время ее отъезда приближалось. Со своей стороны я мог его только приветствовать. Для меня в этом был шанс. Я рассчитывал излечиться от Марты в ее отсутствие. Но если бы мне это даже не удалось, если бы моя любовь оказалась слишком незрелой, чтобы оборваться самой по себе, я знал, что найду Марту по-прежнему такой же верной.
Она уехала двенадцатого июля, в семь часов утра. Я оставался у нее в Ж… всю предыдущую ночь. Направляясь к ней, я поклялся себе, что не сомкну глаз до самого утра. Я обеспечу себе такой запас наслаждений, что не буду нуждаться в Марте до скончания дней своих.
Не прошло и четверти часа, как мы легли, а я уже заснул словно убитый.
Обычно в присутствии Марты мой сон был беспокойным. Первый раз я спал подле нее так же крепко, как и в одиночестве.
Когда я проснулся, она уже была на ногах. Разбудить меня раньше у нее не хватило духу. До поездки оставалось не больше получаса. Я был в ярости, что так бездарно упустил последнее время, которое мы могли провести вместе. Марта тоже плакала, что уезжает. Однако, я предпочел бы потратить оставшиеся минуты на что-нибудь иное, кроме упоения нашими слезами.
Марта оставляла мне ключ и просила заходить к ней в ее отсутствие: думать о ней и писать ей письма, сидя за ее столом.
Я поклялся себе не провожать Марту до Парижа. Но желание ее губ сделалось вдруг таким нестерпимым, что я не смог его победить. Я оправдывался тем, что она уезжает, что это, мол, «в последний раз». Но, как бы не хотелось мне любить ее меньше в угоду собственной трусости, я знал, что последнего раза не будет, пока сама она того не захочет.
На Монпарнасском вокзале, где она должна была сесть в поезд вместе с родителями Жака, я целовал ее, отбросив уже всякое смущение. Я оправдывал себя тем, что если нас вдруг застанет врасплох внезапно появившаяся мужнина родня, то произойдет, наконец, решительная развязка.
Вернувшись в Ф…, где я привык жить лишь в ожидании свиданий с Мартой, я попытался как-нибудь рассеяться. Копался в саду, пробовал читать, играл в прятки с сестренками, чего мне не случалось делать уже лет пять, наверное. Вечером, чтобы не возбудить подозрений, надо было, чтобы я пошел прогуляться. Обычно дорога до Мартиного дома мне давалась легко. Но в этот раз я тащился еле-еле; камешки впивались в ноги, сердцебиение учащалось. Лежа в лодке, я пожелал себе смерти – в первый раз. Но умереть я был так же неспособен, как и жить, поэтому оставалось рассчитывать на милосердие какого-нибудь душегуба. Я сожалел, что нельзя умереть просто так – от тоски или муки душевной. Мало-помалу голова моя пустела с шумом воды, вытекающей из ванны. Последний, долгий всхлип – и она опустела окончательно. Я заснул.
Разбудил меня холод июльской зари. Продрогнув до костей, я вернулся домой. Дома творился переполох, все было нараспашку. В прихожей меня встретил отец, весьма сурово. Оказалось, ночью матери стало плохо. Отправили горничную разбудить меня, – чтобы я сбегал за доктором. Мое отсутствие, таким образом, было установлено официально.
Я выдержал бурную сцену, восхищаясь про себя чуткости доброго судьи, который из тысячи проступков, достойных наказания, выбрал единственный, в котором не было вины, чтобы позволить преступнику оправдаться. Впрочем, оправдываться я и не собирался.
Я позволил отцу думать, что опять таскался в Ж…, и, когда он запретил мне выходить из дому после ужина, я даже поблагодарил его в душе. Его бессознательное пособничество оказалось мне весьма кстати, лишая повода шататься по вечерам в одиночку.
Я ждал почтальона. В этом теперь состояла вся моя жизнь. Я был неспособен даже на малейшее усилие, чтобы забыть.
Марта подарила мне нож для разрезания бумаги, чтобы я, вскрывая ее письма, пользовался им. Но был ли я в состоянии им воспользоваться? Я был для этого слишком нетерпелив. Я просто рвал конверты. Всякий раз я стыдливо обещал себе не прикасаться к письму хотя бы четверть часа. Посредством этой методы я надеялся в дальнейшем вернуть себе власть над самим собой и научиться носить ее письма в кармане нераспечатанными. И всякий раз откладывал исполнение этого плана на завтра.
Однажды, разозлившись на собственную слабость, я в припадке ярости разорвал одно письмо в клочки, даже не распечатав. Но едва обрывки разлетелись по саду, как я кинулся подбирать их, ползая на четвереньках. В письме оказалась фотография Марты. Я всегда был суеверен, и любой пустяк истолковывал в трагическом смысле, а тут вдруг своими руками разорвал ее лицо. Я увидел в этом предостережение самого неба. Страхи мои поутихли лишь после того, как я потратил битых четыре часа на склеивание письма и портрета. Никогда раньше мне не доводилось тратить столько усилий. Но страх, что с Мартой может случиться какое-нибудь несчастье, подстегивал меня все время, пока длилась эта нелепая работа, изнурявшая глаза и нервы.
Врачи порекомендовали Марте морские купания. Я, не переставая ругать самого себя за злонравие, запретил их ей. Мне не хотелось, чтобы кто-либо, кроме меня, мог видеть ее тело.
Впрочем, поскольку Марте в любом случае предстояло провести в Гранвиле целый месяц, я поздравил себя, что рядом с нею будет Жак. Я вспоминал его фотографию в белом костюме, которую Марта показала мне в день выбора мебели. Ничто меня так не пугало, как молодые люди на пляже. Я заранее считал их более красивыми, более сильными и элегантными, чем я сам.
Муж защитит ее от них.
Порой, в приступе нежности, словно пьяница, который лезет целоваться со всеми подряд, я мечтал написать Жаку, признаться ему, что был любовником его жены и, в силу этого своего звания, препоручить Марту его заботам. Иногда я даже завидовал Марте: ведь ее обожали одновременно и я, и Жак. Так разве не обязаны мы вдвоем позаботиться о ее счастье? И, как бывают «снисходительные мужья», так и я во время своих приступов чувствовал себя снисходительным любовником. Я хотел познакомиться с Жаком поближе, объяснить ему, почему мы не должны ревновать друг к другу. Но потом, после этого короткого затишья, на меня снова вдруг накатывала волна ненависти.
В каждом своем письме Марта упрашивала меня почаще заходить к ней на квартиру в Ж… Эта ее настойчивость напоминала мне одну мою весьма благочестивую тетушку, которая меня постоянно упрекала за то, что я не навещаю бабушкину могилу. Но во мне нет инстинкта паломничества. Эти нудные обязанности ограничивают и принижают как любовь, так и смерть.
Будто нельзя думать об умершей нигде, кроме кладбища; будто нельзя себе представлять отсутствующую любовницу нигде, кроме как в ее спальне. Я не пытался растолковать это Марте, но просто лгал ей, что бываю у нее, как лгал своей тетке, что бываю на кладбище. Правда, мне довелось-таки заглянуть к Марте, но при обстоятельствах более, чем странных.
Как-то раз я повстречал на железной дороге ту Мартину приятельницу, молодую шведку, которой ее доброжелатели отсоветовали встречаться с Мартой. Мое вынужденное отшельничество побудило меня обратить внимание на детские прелести этой маленькой особы.
Я предложил ей заглянуть завтра потихоньку в Ж…, чем-нибудь полакомиться. Я скрыл от нее отсутствие Марты, чтобы не спугнуть ее, и даже добавил, что та будет страшно рада ее видеть. Я поклясться готов, что и сам тогда не знал, чего ради все это затеваю. Я действовал точь-в-точь как дети, которые, завязывая знакомство, стремятся удивить друг друга. И я был вовсе не прочь увидеть удивление или даже гнев на ангельском личике Свеи, когда придется сообщить ей, что Марта в отъезде.
Да, без сомнения, это было детское желание удивляться, потому что хоть я сам и не нашелся сказать ей что-нибудь удивительное, зато она вовсю пользовалась экзотичностью ситуации и удивляла меня на каждом шагу. Нет ничего восхитительнее, чем эта внезапная близость между двумя людьми, плохо понимающими друг друга. Она носила на шее маленький золотой крестик с синей эмалью, поверх довольно безобразного платья, которое я перекраивал в своем воображении по своему вкусу. Настоящая живая кукла. Я уже чувствовал, как во мне растет желание возобновить нашу встречу, но уже не в вагоне, а в каком-нибудь более подходящем для этого месте.
С ее обликом молоденькой монастырской воспитанницы несколько не вязались повадки, усвоенные в училище Пижье, где, впрочем, она занималась всего один час в день – французским и машинописью. Она показала мне свои упражнения, отпечатанные на машинке; чуть не каждая буква была ошибкой, отмеченной преподавателем на полях. Она достала из ужасной сумочки, очевидно собственного изготовления, портсигар, украшенный графской коронкой, и предложила мне сигарету. Сама она не курила, но держала этот портсигар ради своих курящих подруг. Она рассказывала мне о шведских обычаях – об Иоанновой ночи, о черничном варенье, а я делал вид, будто тоже о них наслышан. Потом она вытащила из сумочки фотографию своей сестры-близняшки, полученную накануне из Швеции: та красовалась верхом на лошади, совершенно нагая, но в цилиндре их дедушки на голове. Я покраснел как рак; они с сестрой были так похожи, что я всерьез решил, будто она смеется надо мной, показывая свой собственный портрет. Меня охватило такое желание поцеловать эту шалунью, что я кусал себе губы. Должно быть в этот момент у меня было довольно зверское выражение лица, потому что я вдруг заметил испуг в ее глазах, ищущих стоп-кран.
Она приехала к Марте на следующий день в четыре часа. Я сказал ей, что Марта отлучилась в Париж, но скоро вернется. Я даже добавил: «Она запретила мне отпускать вас до своего возвращения». В своей хитрости я рассчитывал признаться лишь когда будет уже слишком поздно.
К счастью, она была сладкоежка. Мое же собственное сластолюбие приняло совершенно невозможную форму: не желая ни торта, ни мороженого с малиной, я желал сам стать тортом и мороженым, которых она касалась своими губами. Мои при этом кривились в непроизвольной гримасе.
Я желал Свею не как сластолюбец, но как сластена. Мне даже не слишком нужны были ее губы. Мне хватило бы ее щек.
Я говорил, тщательно выговаривая каждый слог, чтобы ей было легче понимать. Но, возбужденный этим кукольным пиршеством, я нервничал, а из-за невозможности говорить быстро все больше помалкивал, хотя тоже испытывал потребность в болтовне и детских признаниях. Я склонял ухо к самому ее ротику. Я впитывал ее лепет.
Я чуть не насильно заставил ее выпить ликеру. Потом мне стало ее жалко, словно опьяневшую птичку.
Я надеялся, что ее опьянение послужит моим планам, потому что для меня мало значило, отдаст ли она мне свои губы по доброй воле, или же нет. Конечно, вся неуместность этой сцены в Мартиной гостиной была мне очевидна, но ведь я желал Свею, как желают какой-нибудь сладкий плод, поэтому убеждал себя, что наша любовь ничуть не пострадает и у любовницы не будет повода для ревности.
Я взял ее руку в свои, которые казались мне теперь ужасно неуклюжими. Мне хотелось раздеть ее и убаюкать. Она прилегла на диване. Я встал, склонился над ней, прикоснулся губами к ее затылку, там, где начинались волосы, еще по-детски пушистые. Я отнюдь не заключил по ее молчанию, что мои поцелуи ей приятны; просто она не умела оскорбиться, а никакого вежливого способа остановить меня по-французски не находила. Я впивался в ее щеки, и мне казалось, что из них вот-вот брызнет сладкий сок, как из персика.
Наконец, я добрался по ее губ. Она терпеливо сносила мои ласки, словно маленькая мученица – зажмуривая глаза, сжимая губы. Единственный жест отказа, который она позволила себе, было слегка качать головой слева направо, справа налево. Сам я не заблуждался на этот счет, но губам моим в этом движении чудился ответный поцелуй. Я вел себя с ней так, как никогда с Мартой. Это сопротивление, которое и сопротивлением-то по-настоящему не было, тешило одновременно и мою дерзость, и мою лень. И я был достаточно наивен, чтобы считать, будто дело и дальше так пойдет, и что взять ее силой не составит мне большого труда.
Я никогда не раздевал женщин, скорее наоборот – это они меня раздевали. И вот я взялся за это предприятие – неловко, начав с чулок и туфелек. Я целовал ее икры, маленькие ступни. Но стоило мне попытаться расстегнуть ей корсаж, как Свея принялась отбиваться, будто чертенок, не желающий спать, и которого укладывают силой. Она колотила меня, пинала ногами. Я ловил эти ноги на лету, прижимал к себе, целовал. В конце концов наступило пресыщение. Я остановился, как останавливается гурман, отведавший слишком много крема и сластей. Теперь можно было в рассказать ей о моей хитрости, и о том, что Марта сейчас в отъезде. Я заставил ее пообещать, что она не проболтается Марте о нашем свидании, когда они встретятся. В том, что мы с Мартой были любовниками, я открыто ей не признался, но оставил возможность догадаться об этом из моих слов. Когда же, насытившись ею, я спросил из вежливости, увидимся ли мы еще когда-нибудь, то наслаждение тайной заставило ее ответить: «До завтра».
Больше я на квартире у Марты не появлялся. И, кто знает, может, и Свея больше не приходила туда звонить в закрытую дверь. Я ведь сознавал все-таки, насколько достойным порицания было мое поведение с точки зрения расхожей морали. Но разве не сила обстоятельств придала Свее такую ценность в моих глазах? Случись это не в Мартиной комнате, а в каком-нибудь другом месте, разве возникло бы у меня столь сильное влечение к ней?
Но угрызений совести я не испытывал. И маленькая шведка стала мне безразлична не потому, что я вспомнил о Марте, а потому просто, что я высосал из нее всю сладость.
Несколько дней спустя пришло письмо от Марты. В конверте оказалось еще одно – от ее домовладельца в Ж…, который уведомлял ее, что не позволит превратить свой дом в дом свиданий, как бы я не старался, приводя туда женщин и пользуясь для этого ключом, который она мне доверила. От себя Марта добавляла, что имеет теперь прямое доказательство моей неверности. Больше я ее не увижу. Конечно, она будет страдать, но уж лучше страдать, чем быть дурой.
Я знал, что все это пустые угрозы, и что мне достаточно будет написать ей в ответ какую-нибудь ложь, а в крайнем случае и правду, чтобы свести их на нет. Но меня задело, что, говоря об окончательном разрыве, Марта не грозилась покончить с собой. Я обвинил ее в холодности. Я решил, что ее письмо недостойно каких бы то ни было объяснений. Поскольку, окажись я сам в подобной ситуации, то хотя бы ради приличия прибегнул к подобной угрозе (разумеется, всерьез о самоубийстве не помышляя). Неистребимый отпечаток возраста и школярства: я был убежден, что некоторые виды лжи буквально требуются от нас кодексом страсти.
Итак, передо мной в моем любовном ученичестве предстала новая задача – обелить себя в глазах Марты и обвинить ее самое в том, что она домохозяину верит больше, чем мне. Я объяснял Марте, насколько ловок оказался этот новый маневр Маренов и их приспешников. Да, действительно, Свея заходила проведать ее, и как раз в тот момент, когда я писал ей письмо, сидя за ее столом. Если я и открыл ей дверь, то потому только, что заметил ее из окна, и, зная, как эту девушку пытались отдалить от Марты, не мог допустить, чтобы она подумала, будто ее лучшая подруга сердится на нее из-за этой мучительной разлуки. Ведь она, без сомнения, пришла тайком и ценой бесчисленных трудностей.
Таким образом, я мог объяснить Марте, что чувства Свеи по отношению к ней остались неизменными. И я завершал письмо, расписывая, какое это было удовольствие, говорить о ней, о Марте, с ее ближайшей подругой.
Эти новые хлопоты заставили меня проклинать любовь, которая принуждает нас отчитываться в наших поступках; тогда как я предпочел бы вообще никому не давать отчета – ни другим, ни самому себе.
Однако, рассуждал я, должно быть любовь сулит весьма большие выгоды, если все мужчины так охотно жертвуют ей свою свободу. Я хотел стать поскорее настолько сильным, чтобы суметь обходиться вообще без любви, и чтобы не жертвовать ни одним из своих желаний. Я еще не знал, что одно рабство стоит другого, и что лучше уж быть рабом своего сердца, чем своих страстей.
Как пчела собирает мед и наполняет им соты, так и влюбленный наполняет свою любовь любым, даже случайным своим желанием, охватившим его на улице. И все это он обращает во благо своей любовнице. Я тогда еще не открыл для себя этот закон, который склоняет к верности даже неверные натуры. Ведь когда мужчина, соблазнившись, вожделеет к какой-нибудь девице, то он переносит свой пыл на ту, которую любит. И его вожделение, пылкое тем более, чем менее удовлетворенное, заставит эту женщину думать, что никогда ранее она не была так любима. Разумеется, она обманута, зато мораль спасена – так рассуждают люди. Но именно такие рассуждения и ведут к распутству. Так что пусть не обвиняют слишком поспешно тех мужчин, которые способны изменить своим любовницам в самом разгаре своей любви; пусть не обвиняют их в легкомыслии и распущенности. Просто им претят эти уловки, им и в голову не приходит смешивать свое счастье и свои удовольствия.
Марта ожидала, что я буду оправдываться. Теперь она умоляла простить ей ее упреки. Что я и сделал, с некоторыми оговорками, правда. Она написала хозяину, не без иронии, чтобы он принял к сведению, что вполне может такое случиться, что я в ее отсутствие приму одну-другую из ее подруг.
Когда Марта вернулась – в последних числах августа – она перебралась из Ж… в дом своих родителей, которые оставались пока на курорте. Эта новая для меня обстановка, где Марта провела всю свою жизнь, послужила мне чем-то вроде возбуждающего средства. Куда только подевались усталость чувств и желание спать в одиночестве. Я ни одной ночи теперь не проводил в доме своих родителей. Я горел, я спешил, словно люди, знающие, что должны умереть молодыми, и потому живущие взахлеб. Я хотел насытиться Мартой раньше, чем ее изуродует материнство.
Эта девичья комнатка, куда она не допускала Жака, стала нашей спальней. Лежа на ее узкой кровати, я любил останавливать свой взгляд на ее фотографии в платье первопричастницы. Я заставлял ее подолгу глядеть на другое фото, где она была запечатлена еще младенцем, чтобы наш собственный ребенок стал похож на нее. Я в восхищении бродил по этому дому, который был свидетелем ее рождения и расцвета. Забираясь в чулан, я прикасался к ее колыбели, которая, как я надеялся, еще послужит нам. Я заставлял Марту вытаскивать ее детские панталончики и распашонки – реликвии семейства Гранжье.
Я ничуть не жалел о квартире в Ж…, где никогда не было уюта, которым дышит даже самый неказистый семейный очаг. Зато здесь, напротив, о Марте мне напоминал любой предмет обстановки, о который она в раннем детстве стукалась головкой.
Мы расхаживали по саду почти нагишом, словно по какому-нибудь необитаемому острову, и стеснялись при этом ничуть не больше дикарей. Мы валялись на лужайке или нежились в тени, под зеленым сводом из жимолости, дикого винограда и вьюнков. Рот ко рту лакомились лопнувшими от зрелости сливами, горячими от солнца, которые я подбирал в траве. Мой отец никогда не мог добиться от меня, чтобы в занимался нашим садом, как мои братья. Но за садом Марты я ухаживал охотно. Я рыхлил землю, выпалывал сорняки. Вечером, после дневного зноя, утоляя жажду земли и цветов, я испытывал пьянящую гордость мужчины, удовлетворившего вожделение женщины. Раньше я находил доброту, добро несколько простоватыми. Теперь я понимал всю их силу. Цветы, распустившиеся благодаря моим заботам, куры, сыто дремлющие в тени, после того, как я бросил им зерна – какая доброта, скажете вы? Какой эгоизм! Увядшие цветы, худые куры привнесли бы грусть на наш остров любви. Так что вода и зерно предназначались больше мне самому, чем цветам и курам.
Я этом обновлении чувств я забывал и презирал все свои недавние открытия. Мне казалось, что в этом семейном доме нет места ни похоти, ни сладострастию; хотя на самом деле он просто пробуждал во мне сладострастие несколько другого рода. Таким образом, эти конец августа и начало сентября стали для меня последней порой безмятежного счастья. Я больше не плутовал, не изводил ни себя, ни Марту. Я больше не видел перед собой препятствий. В шестнадцать лет я рисовал себе такую жизнь, какую желают лишь в зрелом возрасте: я хотел, чтобы мы жили в деревне. Там мы бы вечно оставались молодыми.
Лежа рядом с Мартой на лужайке и щекоча ей лицо стебельком травы, я обстоятельно растолковывал ей, какой будет наша новая жизнь. Надо заметить, что со времени своего возвращения с курорта Марта подыскивала для нас квартиру в Париже. И когда я объявил ей, что желаю жить в деревне, она сказала: «Я не осмеливалась тебе это предложить. Боялась, что ты заскучаешь один со мной и захочешь обратно в город». «Как же плохо ты меня знаешь!» – ответил я.
Я хотел поселиться неподалеку от Мандра, куда мы с ней ходили гулять и где выращивают розы. Мы пошли туда после того, как, поужинав по случаю в Париже, сели однажды на последний поезд. Вот тогда я и почувствовал впервые аромат этих роз: в привокзальном дворе грузчики перетаскивали огромные благоухающие коробки. Еще в детстве я слышал об этом розовом поезде, который проходит в тот час, когда дети уже спят.
Марта отвечала: «Розы цветут только раз в году. А потом? Ты не боишься, что в остальное время Мандр покажется тебе безобразным? Не лучше ли выбрать место не такое красивое, но где красота распределена более равномерно?»
Узнаю себя в этом. Желание два месяца в году наслаждаться цветением роз заставляло забыть про десять остальных. Да и сам тот факт, что я выбрал именно Мандр, был лишним подтверждением всей эфемерности нашей любви.
Я часто не обедал дома и, под предлогом прогулок или приглашений в гости, оставался с Мартой.
Однажды я нашел у нее какого-то молодого человека в мундире авиатора. Это оказался ее двоюродный брат. Марта, которой я никогда даже не говорил «ты» при посторонних, встала и, подойдя ко мне, поцеловала в шею. Ее кузен улыбнулся, видя мое смущение. «Ты можешь ничего не опасаться, милый. Поль все знает, я ему рассказала». Я был смущен, но все-таки рад, что Марта призналась своему брату, что любит меня. Этот парень, обаятельный и легкомысленный, которого заботило лишь, чтобы мундир не сидел слишком по-уставному, казалось, забавлялся нашей любовью. Он решил, что мы сыграли славную шутку с Жаком, которого он презирал за то, что тот не был ни летчиком, ни завсегдатаем баров.







