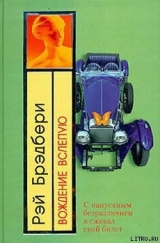
Текст книги "Вождение вслепую"
Автор книги: Рэй Дуглас Брэдбери
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Зрители, ахнув, вытаращили глаза. В ярком неразвернутом коконе кружилась нарядная Бабочка.
А древний шатер сдался. Как шерстистый мамонт, лишенный станового хребта, он сгибался, уступая желанию лечь на бок и уснуть.
На манеже униформисты придерживали канат, который рывками поднял Улыбку, и Зубы, и Голову, и Тело отважной крепышки на пятнадцать, а затем и на двадцать футов вверх; ассистенты теперь в ужасе следили за ней взглядами. Шесты готовы были подломиться, а брезентовые полотнища грозили в любую минуту рухнуть и отнять у людей их убогую жизнь. Взгляды униформистов то и дело обращались к распорядителю, который щелкал хлыстом и выкрикивал: «Выше!», как будто путь был открыт до небес. Теперь гимнастка находилась почти под самым куполом, а шесты дрожали, гнулись, перекашивались. Оркестр тянул одну ноту, словно призывая злой ветер. И ветер подул. Ближе к ночи действительно налетел суховей с гор Санта-Ана, взметнул полог шатра, чтобы позволить ночи заглянуть внутрь, и дохнул на нас мощным дыханием топки, с пылью и кузнечиками, а потом скрылся бегством.
Брезент загудел. По толпе пробежал озноб.
– Выше! – командовал доблестный распорядитель. – Финал! Великая Лукреция! – Потом торопливо прошипел: – Люси, vamanos– что следовало понимать так: Господь тебе не поможет, Люси. Вниз!
Но она лишь нетерпеливо отмахнулась, извернулась, и по ее низкорослому и мускулистому, как у Микки Руни, [24]24
Микки Руни (р. 1920) – американский киноактер и телеведущий.
[Закрыть]телу пробежала дрожь. Она распахнула крылья, превратившись в настырную осу, разрывающую путы, и закружилась еще быстрее, сбрасывая шелковые одеяния. Оркестр заиграл «танец семи покрывал», а она срывала покров за покровом – красный, синий, белый, зеленый! Чередой поразительных метаморфоз она заворожила наши глаза, устремленные вверх.
– Madre de Dios, [25]25
Матерь Божья (исп.)
[Закрыть]Лукреция! – кричал распорядитель.
Ибо брезент вздымался и опускался. Каркас шатра стонал. Рабочие манежа, стиснув зубы, зажмурились, чтобы не видеть этого воздушного безумия.
Люси-Лукреция хлопнула в ладони. Раз! – и, откуда ни возьмись, у нее в руках оказались мексиканский и американский флаги. Взмах!
По этому знаку оркестр заиграл мексиканский национальный гимн (четыре такта) и закончил двумя тактами Фрэнсиса Скотта Кея. [26]26
Фрэнсис Скотт Кей (1779–1843) – американский композитор, автор государственного гимна США.
[Закрыть]
Публика била в ладоши и вопила! Если повезет, эта миниатюрная динамо-машина сорвется на землю, вместо того чтобы обрушить шатер на наши головы! Ole!
Униформисты – все трое – выпустили канат из рук.
Падая, гимнастка пролетела верных десять футов, прежде чем они сообразили: она работает без сетки. Рабочие манежа снова ухватились за дымящийся канат. По цирку поплыл запах обожженной кожи. От их ладоней разгорался дьявольский огонь. А они смеялись от боли.
Когда игрушечная гимнастка ударилась о мягкую пыльную арену, ее улыбка была еще прикреплена к пряжке. Малышка потянулась, отстегнула пряжку и поднялась на ноги, размахивая двумя яркими флагами перед обезумевшей толпой.
Освободившись от ста десяти фунтов крепких мускулов, шатер как будто вздохнул. Через многочисленные прорехи в серовато-коричневой парусине шатра я видел тысячи звезд, мерцающих в честь праздника. Цирк выгадал для себя еще один день жизни.
Преследуемая волной рукоплесканий, Улыбка помчалась вдоль отмели из опилок впереди своей маленькой хозяйки и скрылась за кулисами.
А теперь – заключительный номер.
Теперь – тот номер, который преобразит вашу жизнь, перевернет души, лишит рассудка – своей красотой, ужасом, силой, мощью и фантазией!
Так объявил публике один из униформистов!
Он помахал тромбоном. Музыканты с бьющим через край энтузиазмом заиграли триумфальный марш.
Стреляя из пугача, на арену вышел укротитель львов.
Он был одет в белый охотничий шлем для сафари, а также блузу и краги в стиле Клайда Битти [27]27
Клайд Битти (1903–1965) – американский дрессировщик, исполнитель опасных номеров с хищными животными.
[Закрыть]и ботинки, как у Фрэнка Бака. [28]28
Фрэнк Бак (1888–1950) – американский путешественник, ловец диких животных и актер; снимался в приключенческих фильмах.
[Закрыть]
Щелчки его черного хлыста и пистолетные выстрелы разбудили публику. В воздухе висело облако густого дыма.
Однако ни тень от белого шлема, ни прикрытие грозных приклеенных усов не помешали мне узнать лицо продавца билетов, которое час назад маячило у входа, и глаза распорядителя арены.
Прогремел еще один выстрел. Бах!
И глазам зрителей открылась прятавшаяся до поры до времени в дальней части шатра круглая клетка для аттракциона со львом – с нее сдернули яркий брезентовый чехол.
Униформисты вытянули из-за кулис деревянный ящик, внутри которого, как мы определили по запаху, томился бедняга-лев. Ящик придвинули вплотную к задней стене клетки. Открылась какая-то дверца, и в клетку впрыгнул укротитель, который тут же захлопнул за собой дверцу и выстрелил из пугача в сторону открывшейся заслонки ящика со львом.
– Лео! Andale! – приказал укротитель.
Публика подалась вперед.
А лев… не шевельнулся.
Он спал в своем тесном переносном ящике.
– Лео! Vamanos! Andale! Presto! [29]29
Живо! (исп.)
[Закрыть]– Укротитель ткнул кнутом в дверцу ящика и покрутил, будто переворачивал мясо на вертеле.
Взметнулась густая желтая грива, послышалось раздраженное ворчание.
– Бах! – снова раздался выстрел пугача над самым ухом глухого старого льва.
Рык был тихим, но безошибочно узнаваемым.
Зрители расцвели улыбками и устроились поудобнее.
Внезапно в двери клетки показался Лео. Он замигал, ослепленный ненавистным светом. Это был…
Самый дряхлый из всех львов, которых мне доводилось видеть. Можно было подумать, он сбежал ненастным декабрьским днем из питомника, где содержатся списанные в расход звери из Дублинского зоопарка. Его морда, исполосованная бесчисленными морщинами, походила на разбитое окно. Некогда золотистая шерсть наводила на мысли о старой позолоте, которая от долгого лежания под дождем пошла потеками.
Лев, как мы сразу поняли, был слаб глазами – он досадливо моргал и щурился. Большая часть его зубов выпала – наверно, во время поглощения овсянки, полученной в то утро на завтрак. Все ребра выпирали наружу из-под чесоточной шкуры, которая напоминала ковровую дорожку, вытоптанную сотнями укротителей.
У него уже не осталось ярости. Он выдохся. Только одно могло помочь этому зверю. Выстрел из пистолета в левую ноздрю… б-бах!
– Лео.
Аррр! – вырвалось у льва. Ах! – выдохнула публика. Барабанщик изобразил дробный раскат грома.
Лев сделал шаг. Укротитель сделал шаг. Напряжение росло!
И тут случилось непредвиденное…
Лев открыл пасть и зевнул.
И в этот миг случилось нечто еще более непредвиденное…
Маленький мальчик, не старше трех лет, обманув бдительность матери, выскользнул из-за столика для почетных гостей и побежал по опилкам к зловещей железной клетке. Шатер содрогнулся от криков: Нет! Назад!Но прежде чем кто-нибудь успел шевельнуться, малыш, заливаясь смехом, ухватился за железные прутья.
Ох! – выдохнули все разом.
Что было страшнее всего – ребенок тряхнул не просто два прута, но всю клетку.
Малейшее движение крошечных коричневато-розовых кулачков грозило опрокинуть эту хлипкую конструкцию вместе с хищником.
Только не это! – беззвучно заклинали зрители, которые чуть не падали со скамеек, пытаясь мимикой и жестами привлечь внимание малыша.
Подняв кнут и пистолет, замер в испарине укротитель.
Лев закрыл глаза и сделал выдох через беззубую пасть.
Мальчонка тряхнул прутья клетки еще один раз, который мог оказаться роковым.
В этот миг его отец решительным броском выскочил на манеж, сгреб малыша в охапку, закрыл полой своего выходного пиджака и отступил к ближайшему зрительскому столику.
Уф-ф-ф! – Публика обмякла в облегчении; лев рявкнул, двинулся по кругу за собственным хвостом и взгромоздился на облупленную тумбу, чтобы спокойно присесть.
Только теперь потревоженная клетка перестала дрожать.
Б-бах! Цирковой пистолет выстрелил прямо в огромную желто-флегматичную морду. Зверь издал настоящий вопль ярости и спрыгнул с тумбы! Укротитель ринулся наутек. Лев бросился в погоню. Укротитель добежал до двери клетки; лев не отставал. Публика визжала. Распахнув дверь, укротитель резко развернулся, еще раз стрельнул из пугача – бабах! – в львиную морду, выскочил наружу и – дзинь! – с лязгом запер дверь, а потом сорвал с головы парик, швырнул пистолет оземь, сломал рукоять хлыста и улыбнулся такой улыбкой, которая покорила нас всех!
Львиный рык! Его издала толпа. Зрители повскакали со своих мест. Каждый ревел не хуже льва!
Представление закончилось.
Снаружи, по обеим сторонам от выхода, грянули две разные мелодии в честь обычного вечера, когда под ногами чернели арбузные косточки, клубилась пыль и скакали кузнечики; публика расходилась по домам, а мы с приятелем еще долго сидели в побитом молью шатре, пока не остались почти одни, и сквозь прорехи смотрели, как все новые и новые звезды выстраиваются в созвездия, неся по ночному небу свои безымянные огоньки. Шатер хлопал крыльями в извечной буре горячих оваций. Не говоря ни слова, мы покинули цирк вместе с последними зрителями.
У выхода мы обернулись, чтобы окинуть взглядом пустую арену и спускающийся из-под купола длинный канат с серебряной пряжкой, которая ожидала, когда же ее снова возьмет к себе Улыбка.
Мне в руку кто-то сунул лепешку-тако; я поднял глаза. Передо мной стояла маленькая циркачка, которая гарцевала на немощных верблюдах, жонглировала пивными бочонками, отрывала билеты и каждый вечер взлетала в поднебесье купола, чтобы превратиться из мотылька в яркую бабочку. Ее Улыбка оказалась совсем близко, глаза подозревали во мне охальника, но находили друга. Мы оба держались за одну и ту же лепешку. Наконец подарок перешел ко мне. Я отправился дальше, унося его с собой.
Из фонографа с шипеньем вырывался мотив «La Galondrina». В нескольких шагах стоял укротитель; у него со лба текли капли пота, складываясь в гирлянду огоньков на рубашке цвета хаки. Он истово дул в трубу и не заметил, как я прошел мимо.
Прошагав под запыленными деревьями, мы свернули за угол, и цирк-шапито скрылся из виду.
Всю ночь дул горячий ветер, унося из Мексики сухую землю. Всю ночь по оконным стеклам нашего бунгало стучал дождь из кузнечиков.
Мы ехали на север. Не одну неделю спустя я все еще выбивал из одежды теплую пыль и вытаскивал дохлых кузнечиков из пишущей машинки и дорожной сумки.
Даже теперь, по прошествии двадцати девяти лет, когда выдается тихая ночь, я слышу, как горячий ветер с гор Санта-Ана доносит издалека две мелодии, гремящие у входа в цирк-шапито: одну играет маленький живой оркестрик, а другую – икающая пластинка. Я просыпаюсь в одиночестве, сажусь на кровати и понимаю, что все это пригрезилось.
Кто там, под дождем?
Someone in the Rain, 1997 год
Переводчик: Е. Петрова
Почти все осталось, как прежде. Поскольку дорожные сумки с невысохшими дождевыми каплями на боках уже перекочевали в гулкий, волглый домик, а машина, еще не остывшая, еще хранящая запах двухсотмильной поездки к северу – из Чикаго в штат Висконсин, – была накрыта брезентом, можно было предаться размышлениям. Прежде всего, ему очень повезло, что удалось забронировать тот же самый домик, который снимали родители еще двадцать лет назад, чтобы привезти сюда их с братом Скипом. В этих стенах каждый шаг, каждый голос по-прежнему отдавался гулким эхом. Почему-то сейчас он сбросил ботинки, чтобы походить босиком: наверно, по той простой причине, что так ему было приятно. Закрыв глаза, он присел на кровать и слушал, как по тонкой кровле барабанит ливень. Приходится, конечно, делать поправку на обстоятельства. Во-первых, деревья стали выше. Как только на трассе замаячил, сквозь дождь и поднимавшийся от капота пар, указатель на Лейк-Лон, сразу стало ясно: что-то здесь по-другому, но только сейчас, прислушиваясь к порывам ветра, он понял, что именно тут изменилось. Конечно же, деревья. За двадцать лет они вытянулись, кроны разрослись вширь. Ну, и трава, конечно: хотя, если уж быть совсем точным, трава была та самая, на которой еще в тот приезд он валялся после купания в озере, ощущая, как мокрый купальный костюм холодит бедра и цыплячью грудь. По инерции подумалось: сохранился ли тот же запах в общественной уборной на территории кемпинга? Раньше там пахло латунью, карболкой, стариками, что приволакивают ноги, и простым мылом.
Дождь прекратился. Время от времени он еще напоминал о себе крупными каплями, которые падали с деревьев на крышу, а небо своим цветом, плотностью и предвестием напоминало порох. Время от времени оно лопалось посредине и озарялось вспышкой, но прореха тут же затягивалась.
Линда пошла в уборную, до которой было совсем недалеко – всего-то пробежать среди кустов, деревьев и оштукатуренных домиков, правда, сейчас еще и по лужам, подумал он, и среди зарослей, которые отряхивались, как испуганные собачонки, и обдавали тебя фонтаном холодных, пахнущих свежестью брызг. Хорошо, что она ненадолго вышла. Он хотел кое-что поискать. Прежде всего инициалы, которые сам вырезал на подоконнике пятнадцать лет назад, в последний приезд, в конце лета 1932-го. Он бы никогда такого себе не позволил, если бы кто-нибудь был рядом, но теперь, оставшись в одиночестве, он подошел к окну и провел рукой по деревянной поверхности. Она была безупречно ровной.
Ну, что ж, подумал он, наверно, это было другое окно. Нет. Комната была именно эта. И домик тот же самый, вне всякого сомнения. Он почувствовал внезапную досаду на плотников: явились сюда и заровняли все поверхности наждачной бумагой, отменив бессмертие, которое он обеспечил себе в ту дождливую ночь, когда, загнанный в дом грозой, занялся резьбой по дереву. Сделав дело, он себе сказал: сюда год за годом будут приезжать люди и все они будут это видеть.
Он потер рукой безразличный подоконник.
В дверях появилась Линда.
– Ну и дыра! – вскричала она. На ней не было сухого места, в волосах блестели дождевые капли, по лицу сбегали струйки. Она посмотрела на него со скрытым укором. – Значит, это «Страна чудес». Когда ее построили? Само собой разумеется, домики должны быть с удобствами, но куда там! До туалета не так далеко, но я минуты две не могла нашарить выключатель, а после этого пять минут пыталась выгнать огромную ночную бабочку, чтобы спокойно помыть руки!
Огромная ночная бабочка. Расправив плечи, он улыбнулся.
– Держи. – Он протянул ей полотенце. – Вытри лицо и руки, тебе сразу полегчает.
– Пришлось бежать среди кустов – посмотри, что с моим платьем: хоть выжимай. Господи! – Она уткнулась в полотенце, но не умолкала.
– Мне тоже нужно в одно место, – сказал он, выглядывая за дверь и улыбаясь своим мыслям. – Я мигом.
– Если не вернешься через десять минут, вызову береговую охрану.
Дверь хлопнула.
Он шел очень медленно, дыша полной грудью. Не пытался спрятаться от дождя и чувствовал, как ветер дергает обшлага его брюк. Он поравнялся с домиком, где в то лето жила его двоюродная сестра Мэрион с отцом и матерью. Не сосчитать, сколько раз им выдавался случай улизнуть среди ночи, чтобы посидеть у озера на мокрой траве, рассказывая страшные истории. Им становилось до того страшно, что Мэрион просила непременно взять ее за руку, а потом даже поцеловать, но это были краткие, невинные поцелуи отрочества, скорее прикосновения, просто жесты, спасение для одиноких душ. Сейчас он вспомнил даже запах этой Мэрион – вспомнил, как от нее пахло, когда она еще не пропиталась никотином и дешевыми духами. На самом деле лет десять назад, если не больше, она перестала считаться его родственницей – по сути дела, с тех пор, как они стали взрослыми. Но сейчас она вернулась сюда в своей первозданности. Да, Мэрион уже вошла в пору зрелого возраста, как, в некотором смысле, и он сам. Но запах зрелости совсем не так притягателен.
Он дошел до мужской уборной и – о чудо! – увидел, что там все осталось без изменений.
Ночная бабочка оказалась тут как тут.
Это было большое, мохнатое серовато-белое существо, похожее на привидение: оно с шорохом крыльев билось о единственную голую лампу, подвешенную к потолку. Выходит, бабочка, надеясь на его возвращение, двадцать лет вздыхала и билась о стекло во влажном ночном воздухе. Он вспомнил, как увидел ее в самый первый раз, когда ему было восемь лет: сверху обрушился настоящий призрак, задев его лицо жуткими напудренными крылами и оглашая воздух молчаливыми стонами.
Он тогда с воплем выскочил из кабинки и не разбирая дороги понесся по темной августовской траве. Возвращаться в уборную он, конечно, не стал, а вместо этого забежал за дом и там облегчился, выпустив из себя распирающую боль. Потом он старался сходить в уборную засветло, чтобы не столкнуться с напудренным чудищем.
Теперь он смотрел на ту же самую Ночную Бабочку.
– Привет, – сказал он. – Заждалась?
Невероятная глупость, но до чего же приятно позволить себе быть глупым. Ему не понравилось выражение лица Линды. Он прекрасно знал: чем больше поводов у него будет уйти с ее глаз, тем лучше для него. Между прочим, и на сигаретах можно сэкономить, если держаться от нее подальше. Но действовать нужно с оглядкой.
«Не сбегать ли мне за бутылочкой виски, дорогая?»; «Схожу-ка на причал – надо купить мотыля»; «Дорогая, Сэм приглашает меня играть в гольф». Линда была совершенно не приспособлена к такой погоде. Вот и теперь она уже немного скисла.
Бабочка задела его щеку.
– Здоровенная, гадина! – сказал он, внезапно ощутив, как по спине пробежали мурашки, точь-в-точь как в первый раз. Вот уже много лет он не испытывал страха, но тут позволил себе совсем немножко, в свое удовольствие, испугаться белой шуршащей бабочки. Теперь она кружила у электрической лампы. Ополоснув руки, он рискнул заглянуть в кабинку, чтобы проверить загадочные письмена, которые разглядывал в детстве. Тогда это были заклинания, странные, непостижимые. Теперь – ничто.
– Все ясно, – сказал он. – Слова. Стишки. Серость.
Краем глаза он увидел свое размытое, нечеткое отражение в зеркале и отметил, что на лицо легла тень разочарования. В нацарапанных на стене словах не оказалось и следа той волшебной силы, которой он их когда-то наделял. Прежде это были золотые магические формулы. Теперь – короткие, вульгарные пощечины хорошему вкусу.
Он помедлил, чтобы докурить сигарету, оттягивая, насколько можно, возвращение к Линде.
Когда он появился в дверях, Линда окинула его взглядом:
– Это выходная рубашка. Зачем расхаживать в ней под дождем? Разве трудно было набросить плащ?
– Ничего страшного, – сказал он.
– Так и простудиться недолго. – Она распаковывала сумку, выкладывая вещи на кровать. – Господи, кровать-то какая жесткая.
– Было время – я спал на ней безмятежным сном, – сказал он.
– Не иначе как я старею, – сказала она. – Мне теперь подавай ложе из взбитых сливок.
– Ты приляг, – предложил он. – До ужина три часа.
– Когда прекратится этот дождь? – спросила она.
– Понятия не имею. Думаю, сегодня, в крайнем случае – завтра. Зато листва свежая. Какой чудный воздух после дождя, благодать!
Но он покривил душой. В этих краях дожди порой не прекращались неделями. Раньше это не было помехой. Под колючими струями он сбегал к серому, подернутому рябью озеру, а небо над головой, как вылепленное из серой глины, то и дело содрогалось, выпуская на свободу грозу, и раскалывалось слепяще-голубым электрическим разрядом. Гром сбивал с ног. Барахтаясь в озере, он держал голову высоко над поверхностью, но в воде было тепло и уютно, потому что там не донимали дождевые иголки, потому что можно было разглядывать павильон, в котором вечерами устраивались танцы, и еще корпуса с просторными, полутемными холлами, где бесшумно сновали коридорные, и, конечно, снятый родителями домик, оробевший под раскатами августовского грома, а самому при этом плавать по-собачьи, брызгаясь сколько душе угодно, и прятаться от ледяного воздуха. Неохота было вылезать на берег, хотелось так и качаться в теплой воде до восторженного посинения. Линда прилегла на кровать.
– Господи, матрац называется! – сказала она. Не касаясь ее, он вытянулся рядом.
Дождь припустил опять, деликатно стучась в домик. Стало темно, как ночью, однако ощущение было совершенно особое, потому что часы показывали всего четыре пополудни, но уже опустилась тьма, а над этой тьмой еще стояло солнце – просто уму непостижимо.
В шесть часов Линда заново накрасила губы.
– Надеюсь, хотя бы кормят здесь сносно, – сказала она.
Дождь лил не переставая, стучал и молотил по крыше, будто упавший с небес вечный шторм.
– Что будем делать вечером? – поинтересовалась Линда.
– Может, сходим потанцевать? Здесь есть павильон, построенный в двадцать девятом году, еще до кризиса – обошелся в миллион долларов, – говорил он, затягивая узел галстука, а сам возвращался на восемнадцать лет назад.
Мысленно он был сейчас на улице, под мокрыми деревьями, вместе с Мэрион и Скипом. Кутаясь в плащи, которые шуршали, как целлофан, они с мокрыми лицами бежали под дождем через детскую площадку с горками, вдоль обнесенной столбиками аллеи, прямиком к павильону. Детям вход был воспрещен. Им оставалось топтаться снаружи, прижимаясь носами к окнам, и смотреть, как взрослые заказывают вино, смеются, усаживаются за столики, потом встают, выходят на площадку для танцев и кружатся под музыку, которая снаружи слышалась глухо, будто бы через подушку. Мэрион замирала от восторга, когда ей на лицо падали цветные отблески. «Когда я вырасту, – сказала она, – приду сюда танцевать».
В мокрой тьме с карнизов павильона им на головы низвергались дождевые струи. А музыка играла «Нашел я любовь в Авалоне», «Старинный Монтерей» и прочее.
Поглазев с полчаса и промочив ноги, они начинали хлюпать носами и чувствовали, как дождь затекает за ворот; тогда они поворачивались спиной к теплым огням павильона и под угасающую музыку молча плелись назад, в сторону своих домиков.
Кто-то постучался в дверь.
– Это Сэм! – раздался голос. – Ну, как вы там? Готовы? Ужинать пора!
Они пригласили его войти.
– Как будем добираться до главного корпуса? – спросила Линда. – Неужели пешком? – Она выглянула за порог.
– Почему бы и нет? – сказал ее муж. – Это же здорово. Ведь если подумать, мы совершенно перестали двигаться, то есть, я хочу сказать, перестали ходить пешком – в соседний квартал и то ездим на машине. Нет, правда, наденем плащи – и вперед. Что скажешь, Сэм?
– Я не возражаю, а ты как, Линда? – громогласно спросил Сэм.
– Пешком? – жалобно переспросила она. – Всю дорогу? В такой дождь?
– Оставь, пожалуйста, – сказал ей муж. – Дождик-то пустяковый.
– Ну, что ж поделаешь, – сказала она.
У выхода зашуршали плащи. Он много смеялся, шлепал жену пониже спины, помог затянуть пояс.
– От меня пахнет, как от надувного моржа, – сказала она.
И вся троица высыпала на окаймленную деревьями дорогу, скользя подошвами по мокрой траве, утопая в слякоти, уворачиваясь от машин, которые обдавали их грязью и жалобно завывали в густой мгле.
– С ума сойти! – кричал он. – Ну, классно!
– Не так быстро, – взмолилась Линда. Деревья гнулись от ветра; судя по всему, дождь зарядил по меньшей мере на неделю. Дорога к главному корпусу шла в гору, и теперь им было уже не так весело, хотя он еще бодрился. Однако после того как Линда поскользнулась и упала, никто больше не произнес ни слова, только Сэм сделал попытку пошутить, когда помогал ей подняться.
– Если вы не против, я остановлю машину, – сказала Линда.
– Не нарушай компанию, – сказал он.
Она помахала попутной машине. Водитель высунулся в окно и прокричал:
– Может, вас всех подбросить?
Но он даже не замедлил шага, так что Сэму оставалось только плестись следом.
– Нехорошо получилось, – сказал Сэм.
В небе выросла молния, похожая на голое новорожденное дерево.
Ужин оказался далеко не изысканным, но хотя бы горячим, а водянистый, слабый кофе просто невозможно было взять в рот. Ресторан заполнился едва ли наполовину. По всему чувствовалось, что сезон на исходе: люди будто бы напоследок вытащили из сундуков нарядные одежды, зная, что завтра наступит конец света, люстры вот-вот готовы были угаснуть навсегда, и уже не имело особого смысла кому-то угождать. Огни горели тускло, в воздухе висел дым дешевых сигар, беседа не клеилась.
– Ноги промокли, – сказала Линда.
В восемь часов они спустились в павильон: там гуляло эхо, народ еще не подтянулся, эстрада для оркестра пустовала; но часам к девяти многие столики уже были заняты, и оркестр (в двадцать девятом вроде музыкантов было двадцать, а теперь – девять, отметил он) стал наигрывать попурри из старых мелодий.
Его сигареты отсырели, костюм пропитался влагой, в ботинках хлюпало, но он об этом не заговаривал. Во время третьего танца он пригласил Линду. Кроме них, на площадке было семь пар; светоустановка мелькала всеми цветами радуги, озаряя гулкие пустые пространства. При каждом шаге у него в носках чавкала вода, ступни онемели от холода.
Он обнял Линду за талию, и они станцевали под мелодию «Нашел любовь я в Авалоне», да и то лишь потому, что этот номер был заранее заказан им по телефону. Они безучастно двигались по паркету, не говоря ни слова.
– У меня совершенно мокрые ноги, – сказала наконец Линда.
Он все так же вел ее в танце. Кругом было мрачновато, темно и холодно; по окнам струился свежий дождь.
– После этого танца пойдем к себе, – сказала Линда.
Муж не ответил ни «да» ни «нет».
Его взгляд устремился за пределы натертого до блеска танцевального пола, к пустым столикам, к немногочисленным парочкам и дальше, к залитым водой оконным стеклам. Направив Линду в сторону ближайшего окна, он прищурился и увидел то, что пытался высмотреть.
В окно заглядывали детские лица. Одно или два. Может быть, три. На них падал свет. Свет отражался у них в глазах. Всего лишь минуту, не более.
Он произнес какую-то фразу.
– Что-что? – переспросила Линда.
– Жаль, говорю, что это не мы стоим под окном, заглядывая внутрь, – сказал он.
Она посмотрела ему в глаза. Оркестр играл последние такты. Когда он вновь повернулся к окну, лица уже исчезли.







