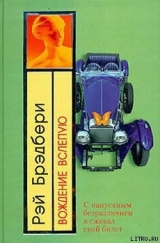
Текст книги "Вождение вслепую"
Автор книги: Рэй Дуглас Брэдбери
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
– Скажи, Квинт, далеко ли еще до табачной лавки, где сидят досужие болтуны?
– Доехали уже – вы и сами знаете.
– Тогда смотри!
Проезжая мимо табачной лавки, он притормозил и сбросил газ. Из выхлопной трубы вырвался настоящий артиллерийский залп, какой услышишь разве что в День независимости, четвертого июля. Досужие болтуны вскочили со ступеньки и схватились за соломенные шляпы. Мистер М. приветствовал их еще одним залпом, прибавил скорость, и за ним уже побежали двенадцать человек вместо восьми.
– Вот так-то! – вскричал мистер Мистериус. – Чувствуешь, какая страсть? Чувствуешь, какое рвение? Ничто так не возвышает мужчину, как новехонький восьмицилиндровый «студебеккер» класса «А-один»: в нем начинаешь чувствовать себя примерно как Елена, победоносно взирающая на Трою! Сейчас надо остановиться, поскольку здесь уже собралось достаточно народу, чтобы обменяться аргументами и вволю подискутировать. Ну-ка!
Мы остановились на середине перекрестка Мейн и Арбогаст, и мотыльки тут же слетелись на наше пламя.
– Это и есть самый что ни есть новейший «студебеккер», только-только с выставки? – поинтересовался городской парикмахер. Мои вихры были с ним хорошо знакомы.
– Новее не бывает, – ответил мистер М.
– Я первый подошел, я первый и спрашивать буду! – заявил мистер Багадосян, помощник мэра.
– Но денежки-то у меня! – В свете приборной доски возник третий претендент. Это был мистер Бенгстром, которому принадлежало кладбище вместе со всеми, кто на нем покоился.
– У меня покамест только один «студебеккер», – скромно заметил голос из-под Капюшона. – Жаль, конечно, но это так.
Тут по толпе прокатился недовольный ропот.
– Общая стоимость, – объявил мистер М., перекрывая ропот, – составляет восемьсот пятьдесят долларов. – Первый из вас, кто сунет мне в руку банкноту в пятьдесят долларов или такую же сумму в мелких банкнотах, получит право отогнать это сказочное чудо техники к себе домой.
Не успел мистер Мистериус выставить ладонь в окно, как на ней выросла стопка пятерок, десяток и двадцаток.
– Квинт?
– Да, сэр?
– Засунь-ка руку в ящик под приборной доской – там у меня бланки заказов.
– Сейчас, сэр.
– Бенгстром! Сирил Бенгстром! – Похоронных дел мастер кричал громче всех.
– Не волнуйтесь, мистер Бенгстром. Машина ваша. Распишитесь вот здесь.
И вскоре мистер Бенгстром с гомерическим хохотом отъезжал от перекрестка Мейн и Арбогаст, оставляя позади застывшую в молчании толпу. Он сделал вокруг нас два круга, отчего толпа пришла в еще большее уныние, а потом с ревом вылетел на трассу, чтобы показать свою удаль.
– Не горюйте, – произнес голос из-под темного Капюшона. – У меня в автосалоне есть еще один «студебеккер» последнего выпуска, модель «А-один», ну, может, найдется и еще один, но не более, хотя за ними нужно ехать в Гэрни. Не согласится ли кто-нибудь меня подбросить?
– Я! – закричали все.
– Вот, значит, как вы проворачиваете свои дела, – сказал дедушка. – Вот что вас сюда привело.
Этот разговор зашел поздно вечером, когда комаров стало заметно больше, а курильщиков и вязальщиц – меньше. У тротуара был припаркован еще один «студебеккер», на этот раз – ярко-красного цвета.
– Погодите, вы еще не знаете, что начнется, когда они увидят этого красавца в лучах солнечного света! – тихо посмеивался мистер Мистериус.
– Чует мое сердце, – сказал дедушка, – вы на этой неделе распродадите свой товар, а нам ничего не достанется.
– Не люблю строить планы и задирать нос, – отозвался мистер Мистериус, – но, похоже, так оно и будет.
– Ну и хитрец! – Дедушка пыхнул трубкой, предаваясь глубоким размышлениям. – Натянул на голову мешок, чтобы разжечь аппетиты и заставить о себе говорить!
– Дело не только в этом. – Мистер М. затянулся сигаретой через плотную ткань. – Это нечто большее, чем просто трюк, уловка или бравада.
– А что же еще? – спросил дедушка.
– А что же еще? – спросил я.
Настала полночь, но я так и не смог заснуть. Не спал и мистер Мистериус. Я тайком спустился по лестнице и нашел его во дворе, где он сидел в деревянном шезлонге, и, наверно, взгляд его был устремлен к светлячкам и еще дальше – к звездам; первые находились в непрерывном движении, вторые замерли в неподвижности.
– Здорово, Квинт, – сказал он.
– Можно спросить, мистер Мистериус?
– Спрашивай.
– Вы и спите в этом Капюшоне?
– Каждую ночь, из месяца в месяц.
– Всю жизнь?
– Почти.
– А сегодня вечером вы говорили, что это больше, чем уловка, больше, чем бахвальство. Тогда что же?
– Если я не ответил на этот вопрос постояльцам и твоему деду, почему я должен отвечать тебе, Квинт? – спросил Капюшон без лица, неподвижно темнеющий в ночи.
– Потому что мне интересно.
– Думаю, это самая веская причина. Присядь-ка, Квинт. Смотри, какие светлячки. Хороши, верно?
Я опустился на мокрую траву:
– Красивые.
– Так и быть, – произнес мистер Мистериус, поворачивая голову под Капюшоном в мою сторону. – Слушай. Задумывался ли ты, Квинт, что скрывается под этим Капюшоном? Не возникало ли у тебя желания сорвать его у меня с головы?
– Не-а.
– Это почему же?
– Помните, в «Призраке оперы» одна так и сделала – и что с ней стало?
– Ну, так как, дружище, сказать тебе, что под ним скрывается?
– Только если вы сами не против, сэр.
– Как ни странно, не против. Этот Капюшон появился у меня очень давно.
– Когда вы еще были мальчишкой?
– Можно и так сказать. Уже не помню, родился я в нем или надел позже. Когда попал в аварию. Или обгорел на пожаре. А может, какая-то женщина надо мной посмеялась и обожгла сильнее огня, оставив глубокие шрамы. Все мы так или иначе падаем с крыши или хотя бы с кровати. Когда грохаешься об пол – это все равно что падение с крыши. Раны заживают очень долго, а порой и вовсе не затягиваются.
– Хотите сказать, вы даже не помните, когда в первый раз нацепили эту штуковину?
– Прошлое стирается из памяти, Квинт. Я уже давно перестал понимать, что к чему. Эта темная ткань приросла ко мне, словно вторая кожа.
– А вы?…
– Что, Квинт?
– …когда-нибудь бреетесь?
– В этом нет нужды – под Капюшоном не растет щетина. Полагаю, меня можно вообразить двояко. Либо как страшный сон, в котором видишь гробы, гнилые зубы, черепа и гнойные раны. Либо…
– Как?
– Либо как вообще ничто, просто ничто. Бороды нет – брить нечего. Бровей нет. Носа практически тоже нет. Веки – одно название: глаза открыты. Да и рта как такового нет, только шрам. Все остальное – пустое место, снежный простор, чистый лист, как будто кто-то полностью меня стер, чтобы потом изобразить заново. Вот так-то. Можно строить догадки на мой счет одним способом, можно – другим. Какой ты выбираешь?
– Не могу решить.
– Как же так?
Мистер Мистериус поднялся с шезлонга и теперь стоял босиком на траве, а его островерхий Капюшон указывал в сторону какого-то созвездия.
– А вы, – решился я, – так до конца и не ответили моему дедушке. Вроде бы вы приехали не только для того, чтобы распродать новые «студебеккеры», – а для чего еще?
– Ах, вот ты о чем, – кивнул он. – Дело в том, что я уже много лет одинок. В Гэрни особо не разгуляешься. Что я там вижу? Торгую машинами да прячусь под этим бархатным колпаком. Вот я и решил вырваться на простор, пообщаться с приличными людьми, с кем-нибудь подружиться, найти человека, который ко мне потянется или хотя бы согласится меня терпеть. Понимаешь, о чем я, Квинт?
– Не совсем.
– Какой мне прок торчать у вас в Гринтауне, набивать живот за обедом и смотреть на верхушки деревьев из окна своей мансарды? Спроси меня.
– Какой вам прок? – спросил я.
– Вот на что я уповаю, Квинт, вот о чем молю Бога, сынок: когда я снова войду в ту же реку, окунусь в ту же воду, сойдусь с людьми, пусть с малознакомыми, даже с чужими, пусть какая-нибудь дружеская привязанность, доброжелательность, а то и полулюбовь разгладит мои шрамы, изменит лицо. Пусть месяцев через шесть-восемь или хотя бы через год жизнь изменит мою маску, не срывая ее, чтобы воск, из которого слеплено лицо, по ночам не походил больше на страшный сон, а по утрам не превращался в ничто. Это тебе ясно, Квинт?
– Вроде бы ясно.
– Ведь люди, которые с нами рядом, способны наложить на нас заметный отпечаток, верно? Например, ты убегаешь гулять и прибегаешь домой, а дедушка исподволь на тебя влияет, лепит по-новому, когда успевает сказать тебе доброе словечко, обнять за плечи, взъерошить волосы, а раз в год, возможно, задать порку, да такую, что надолго запомнишь.
– Два раза в год.
– Ну, два раза. Люди, которые приходят к вам снимать комнаты или столоваться, ведут свои беседы, ты держишь ухо востро и пропускаешь их разговоры через себя, а ведь при этом ты тоже меняешься. Все мы барахтаемся в воде, в речке, в горном потоке, вбираем в себя каждое слово, каждое замечание учителя, каждый подзатыльник от хулигана, каждый взгляд и каждый жест непонятных созданий, которые известны тебе под именем женщин. Все это нас укрепляет. Служит нам утренней чашкой чая и ночным куском пирога, и человек на этом взрастает – или не взрастает, смеется или хмурится, а то и шагает по жизни без всякого выражения, но как бы то ни было, ты все равно находишься в этом русле: то окоченеешь, то растаешь, то пустишься наутек, то замрешь, как вкопанный. А я долгие годы стоял в стороне. Итак, на этой неделе я собрался с духом: как показать в выгодном свете машину – это для меня пара пустяков, а вот как показать себя – не имею понятия. И я решил испытать судьбу: авось к следующему году это лицо под Капюшоном сумеет стать другим, переменится в один прекрасный день или вечер, и я почувствую эту перемену, ибо я снова вхожу в этот поток, вдыхаю свежий воздух, позволяю людям до меня дотянуться, иду на риск, не прячусь за лобовым стеклом «студебеккера» – нового или старого. А на исходе следующего года, Квинт, я надеюсь навсегда сбросить этот Капюшон.
С этими словами, отвернувшись от меня, он сделал невероятный жест. У меня на глазах черный бархат оказался у него в руках, а потом упал на траву.
– Хочешь посмотреть, Квинт? – тихо спросил он.
– Нет, сэр, не хочу. Вы только не обижайтесь.
– Тебе неинтересно?
– Боязно. – Меня даже передернуло.
– Ясное дело, – сказал он, помолчав. – Сейчас чуток подышу, а потом опять закрою лицо.
Он три раза глубоко вздохнул, не поворачиваясь ко мне, высоко поднял голову и устремил глаза к светлячкам и немногочисленным созвездиям. Потом Капюшон вернулся на место.
Хорошо еще, подумал я, что ночь выдалась безлунная.
Через пять дней, через пять «студебеккеров» (один синий, один черный, два молочно-белых и один вишневый) мистер Мистериус сидел в том единственном автомобиле, который, по его словам, еще оставался непроданным – это был солнечно-желтый спортивный автомобиль с открытым верхом, яркий, как канарейка в клетке, – а я вышел из дому, засунув руки в карманы комбинезона, и стал высматривать на тротуаре муравьев или старые неразорвавшиеся петарды. Увидев меня, мистер М. предложил:
– Садись-ка на водительское место.
– Ух ты! А можно?
Я сделал так, как он сказал: крутанул руль и посигналил, но только один разок, чтобы не разбудить домочадцев, которые любили утром поспать.
– Признавайся, Квинт, – сказал мистер Мистериус; его Капюшон торчал над ветровым стеклом.
– В чем признаваться-то?
– Вижу, тебя распирает. Выкладывай, что у тебя на уме.
– Я всякое передумал.
– Это видно по твоему наморщенному лбу, – добродушно заметил мистер М.
– Я вот думаю: что будет через год – и с вами, и вообще.
– Интересно, сынок. Продолжай.
– Я так думаю: может, на следующий год, если у вас под этим Капюшоном заживет лицо, появится нос, вырастут брови, рот начнет как следует открываться, а кожа…
Я запнулся. Капюшон ободряюще кивнул.
– Вот я и думал: проснетесь вы как-нибудь утром и, даже не ощупав себя под Капюшоном, будете знать, что вы своего добились, смогли измениться, потому что разные люди и предметы сделали вас другим, и наш город тоже постарался и все такое прочее, и вы теперь человек что надо, и никогда уже не будете пустым местом.
– Говори, говори, Квинт.
– Ну вот, если так случится, мистер Мистериус, и вы сами будете знать, что вы теперь человек что надо и навсегда таким останетесь, вам даже не обязательно будет снимать этот Капюшон, правда?
– Как ты сказал, сынок?
– Я сказал: вам не обязательно будет сни…
– Это я слышал, Квинт, слышал, – выдохнул мистер М.
Повисла длинная пауза. Он издавал какие-то непонятные звуки, будто ему не хватало воздуха, а потом хрипло прошептал:
– Верно говоришь, можно будет и не снимать Капюшон.
– Потому что это уже будет неважно, правда ведь? Если вы сами уверены, значит, все в порядке. Так?
– Конечно. Да, конечно.
– И вы сможете носить свой Капюшон хоть сто лет, но кроме нас с вами никто не будет знать, что под ним. Мы-то не проболтаемся, а нам самим без разницы.
– Только мы с тобой будем знать. А как я буду выглядеть под Капюшоном, а, Квинт? Зашибись?
– Еще бы!
Мы долго молчали; плечи мистера Мистериуса пару раз дрогнули, он будто бы задыхался, а потом вдруг из-под Капюшона вытекло несколько капель влаги.
Я уставился во все глаза:
– Ой!
– Все нормально, Квинт, это просто слезы.
– Ничего себе.
– Все в порядке. Это слезы радости.
Тут мистер Мистериус выбрался из последнего «студебеккера», потер невидимый нос и промокнул бархатной тканью то место, где могли находиться глаза.
– Квинтэссенция Квинта, – сказал он. – Ты такой один на всем свете.
– Ну уж! Так про каждого можно сказать, верно?
– Если ты так считаешь, то да.
Потом он спросил:
– Еще в чем-нибудь хочешь признаться или исповедаться, сынок?
– Глупости всякие лезут в голову. А вдруг…
Я замолчал, проглотил застрявший в горле комок и, не говоря ни слова, уставился сквозь руль на серебристую фигурку обнаженной женщины, закрепленную на капоте.
– А вдруг в те времена, давным-давно, вам совсем и не нужно было надевать Капюшон?
– Никогда? Вообще никогда?
– Да, сэр. Вдруг вам только показалось, что вы должны спрятаться, вот вы и натянули на голову эту штуковину, где даже прорезей для глаз и то нет. Вдруг ни в какую аварию вы не попадали, и на пожаре не обгорали, и на свет появились с обыкновенным лицом, и никакая женщина над вами не насмехалась? Могло ведь и так быть, правда?
– Хочешь сказать, что я всего-навсего придумал, будто должен носить власяницу и посыпать голову пеплом? И все эти годы жил с ложным ощущением, что мое лицо под Капюшоном – сущий кошмар или пустое место, чистый лист?
– Это мне только сейчас в голову пришло.
Опять наступило молчание.
– И все эти годы я почему-то не ведал и даже не притворялся, что со мной все в порядке, ибо мое лицо всегда было на месте: рот, щеки, брови, нос, а посему мне и не нужно таять, чтобы себя изменить?
– Я этого не сказал…
– Нет, сказал. – С кромки Капюшона скатилась последняя слеза. – Сколько тебе лет, Квинт?
– Скоро тринадцать будет.
– Кто бы мог подумать? Прямо Мафусаил.
– Ну нет! Он-то совсем старый был. Но котелок у него варил – будь здоров!
– Вот и я говорю, Квинси. Котелок у тебя варит – будь здоров.
В очередной раз помолчав, мистер Мистериус предложил:
– Не пройтись ли нам по городу? Хочу размяться. Пошли?
Мы свернули на Центральную, по ней налево – на Грэнд, опять направо – по Дженеси, и оказались перед двенадцатиэтажной гостиницей «Карчер». Это было самое высокое здание в Гринтауне и далеко за его пределами.
– Квинт!
Капюшон нацелился на гостиницу, а голос из-под него произнес:
– Томас Квинси Райли, по глазам вижу, вы хотите задать еще один, самый последний вопрос. Смелее!
Поколебавшись, я сказал:
– Ладно, спрошу. Под этим Капюшоном действительно настоящая темнота? Может, там есть радиоантенна, или система зеркал, или потайные отверстия?
– Томас Квинси Райли, вы начитались выписанных из Рэйсина, штат Висконсин, фирменных каталогов «Игры, фокусы, маскарады».
– А что такого?
– Перед смертью завещаю этот колпак тебе – вот наденешь его и узнаешь, что такое настоящая темнота.
Голова повернулась в мою сторону, и я почти ощутил, как глаза прожигают темную материю.
– Сейчас, к примеру, я могу посмотреть сквозь твои ребра и увидеть сердце, похожее на цветок или на кулак, который то сжимается, то раскрывается. Веришь?
Я приложил кулак к груди:
– Верю, сэр.
– Ну и хорошо.
Он повернулся и указал своим Капюшоном на двенадцатиэтажное здание гостиницы.
– Знаешь, что я тебе скажу?
– Что, сэр?
– Прекрати говорить мне «мистер Мистериус».
– Нет, я не смогу!
– Не зарекайся! Я добился, чего хотел. Машины идут нарасхват. С божьей помощью. Но точку ставить рано, Квинт. Надо стремиться вверх и намечать новые цели. Как ты считаешь, получится из меня Человек-Муха?
Я чуть не задохнулся:
– Хотите сказать…
– Вот-вот-вот. Неужели ты не видишь меня на высоте шестого этажа, восьмого, двенадцатого, откуда я, не снимая Капюшона, машу рукой толпам зрителей?
– Ух ты!
– Рад, что ты одобряешь мою затею. – Мистер М. сделал шаг вперед и начал взбираться по стене, нащупывая опоры и залезая все выше. Оторвавшись от земли приблизительно на метр, он спросил:
– Какое можно предложить высокоеимя для Человека-Мухи?
Я зажмурился и выпалил:
– Верхотур.
– Верхотур! Лучше не придумаешь! Полагаю, нас ждут к завтраку.
– Наверно, сэр.
– Пюре из бананов, пюре из кукурузных хлопьев, пюре из овсянки…
– Мороженое! – подхватил я.
– Почти совсем растаяло, – уточнил Человек-Муха и стал спускаться со стены.
Где она, милая девушка Салли?
I Wonder What's Become of Sally, 1997 год
Переводчик: Е. Петрова
Кто-то тронул пожелтевшие клавиши, кто-то подхватил мелодию, а кто-то (это был я) впал в задумчивость. Текст песни медленно вливался в меня приятной, хотя и грустной волной:
Где она, милая девушка Салли?
Куда ее жизнь занесла?
Я стал напевать. Даже вспомнил, как там дальше:
Мы были вдвоем
В счастливом мире своем,
Но небо рухнуло, когда она ушла.
– Была у меня знакомая по имени Салли, – сказал я.
– Надо же, – не глядя, откликнулся бармен.
– Как сейчас помню, – продолжал я. – Моя первая девушка. И действительно, как в песне поется, интересно узнать, куда ее жизнь занесла. Где-то она сейчас? Остается только надеяться, что у нее все в порядке: семья, пятеро детей, муж приходит домой вовремя, ну, может, разок в неделю задерживается, день рождения ее помнит – или не помнит, смотря как ей больше нравится.
– Нужно вам ее повидать, – отозвался бармен, протирая стакан и по-прежнему не глядя в мою сторону.
Я медленно потягивал джин.
Где она, милая девушка Салли?
Наверно, в чужой стороне.
Но если она
Осталась нынче одна,
Пусть ей Судьба укажет путь ко мне.
Завсегдатаи, сгрудившиеся вокруг пианино, допевали последние строчки. Я слушал, закрыв глаза.
Где она, милая девушка Салли,
Куда ее жизнь занесла?
Пианино умолкло, и зал снова наполнился разговорами и приглушенным смехом.
Я поставил пустой стакан на стойку и, открыв глаза, с минуту его изучал.
– Знаете, – обратился я к бармену, – вы подали мне хорошую мысль…
С чего же начать? – думал я, выйдя на улицу, встретившую меня дождем и холодным ветром; приближалась ночь, мимо мчались автобусы и машины, и мир внезапно наполнился звуками. А начинать ли вообще? Может, не стоит?
Меня и прежде посещали такие мысли, постоянно. Иногда по воскресеньям, когда можно спать хоть целый день, я вдруг вскакивал от того, что мне слышался рядом чей-то плач, а проснувшись, чувствовал слезы на лице и спрашивал себя, какой нынче год – иногда даже приходилось идти за календарем, чтобы удостовериться. Бывало, в такие дни у меня возникало чувство, будто весь мир погрузился в туман, тогда я шел и открывал входную дверь, желая убедиться, что на лужайке действительно светит солнце. Эти ощущения приходили сами по себе. Просто пока я еще не успевал окончательно проснуться, вокруг меня роились прежние годы и в комнате как бы сгущались сумерки. В одно такое воскресенье я позвонил, через всю страну, школьному приятелю, Бобу Хартману. Он очень обрадовался, или по крайней мере сделал вид, и мы проговорили с полчаса, наобещав друг другу с три короба. Но нашим планам не суждено было сбыться: через год, когда он приехал в наш город, у меня было совсем другое настроение. Ведь так обычно и случается, правда? На секунду расчувствуешься, а потом оглядишься – и бежать.
Однако сейчас, стоя на тротуаре перед входом в бар «У Майка», я стал прикидывать и загибать пальцы: во-первых, моя жена уехала в другой город навестить мать. Во-вторых, была пятница, сулившая свободные выходные. В-третьих, я отлично помнил Салли, лучше, чем кто-либо другой. В-четвертых, мне просто захотелось прийти и сказать ей: «Привет, как жизнь?» В-пятых, за чем же дело стало?
И я принял решение.
Взяв телефонный справочник, я стал искать фамилию. Салли Эймс. Эймс, Эймс. Просмотрел все столбцы, но без толку. Впрочем, она, скорее всего, замужем. С женщинами всегда так: выходят замуж и берут себе чужое имя, чтобы исчезнуть без следа.
Ну что ж, тогда поищем родителей, сказал я себе.
Но их имена в справочнике тоже не значились. Старики либо куда-то переселились, либо умерли.
А как насчет общих знакомых? Джоан-как-там-ее. Боб-такой-то. Пару минут я тщетно напрягал память, и вдруг вспомнил одного парня, по имени Том Уэллс.
Я нашел номер телефона и позвонил.
– Будь я проклят, Чарли, ты ли это? – закричал он. – Вот здорово, приезжай ко мне. Как твои дела? Бывает же такое, столько лет прошло! А что, собственно?…
Я сообщил ему причину своего звонка.
– Салли? Тыщу лет ее не видел. Эй, Чарли, я слышал, у тебя все путем. Пятизначные суммы доходов, да? Неплохо для парня с нашей улицы!
На самом деле нас разделяла не улица, а какая-то тонкая грань, которую никто не видел, но все чувствовали.
– Ну, так как, Чарли, когда увидимся?
– Через пару дней позвоню.
– Да, Салли была миленькая девчонка. Я жене и то про нее рассказывал. Какие глаза! А волосы – просто необыкновенного цвета. А еще…
Том распинался, а мне на память приходила всякая всячина. Как Салли умела слушать, или делать вид, что слушает мои сказки о будущем. Внезапно я осознал, что сама она вообще никогда не говорила. Я не давал ей вставить и слова. Исполненный тупого самолюбия, как и все молодые парни, я день и ночь напролет рисовал ей воздушные замки, которые тут же разрушал, один за другим, просто чтобы произвести на нее впечатление. Теперь мне стало неловко за себя, тогдашнего. Еще вспомнилось, как у нее горели глаза и вспыхивали румянцем щеки от этих россказней, как будто мои слова действительно стоили ее времени, юности и жизненных сил. Однако за все время, по-моему, я так ни разу и не сказал, что люблю ее. А стоило бы. Я никогда к ней не прикасался, разве что когда мы ходили за руку, никогда ее не целовал, и сейчас об этом пожалел. Но тогда я боялся, что если совершу хоть одну ошибку, например начну приставать с поцелуями, то она растает, как снег в летнюю ночь, и исчезнет навсегда. Так мы гуляли и разговаривали около года, вернее, говорил все больше я; а как мы расстались – не помню. Просто в какой-то момент, безо всякой причины, она взяла и ушла, примерно тогда же, когда мы окончили колледж. Я зажмурился и тряхнул головой.
– Помнишь, она когда-то хотела стать певицей, у нее был шикарный голос, – сказал Том. – Ей даже…
– Верно, – прервал я его. – Так оно и было. Ну, пока.
– Подожди секунду, – успел произнести его голос, но моя рука уже опустила трубку на рычаг.
Я отправился в тот район, где мы жили раньше, и начал поиски; заходил в продуктовые магазины, расспрашивал, встретил пару знакомых, которые меня так и не вспомнили, и в конце концов сумел кое-что выведать. Да, она замужем. Нет, точного адреса они не знают. Да, егофамилия – Маретти. Вроде бы на этой улице, в той стороне, через несколько кварталов, а может, совсем в другой стороне.
Я поискал имя Маретти в телефонной книге. Результат должен был бы меня насторожить. Телефона не было. Потом, обойдя еще три-четыре гастронома в указанном направлении, наконец-то узнал адрес. Дом номер три, четвертый этаж, вход со двора, квартира 407.
– Зачем тебе это нужно? – спрашивал я себя, поднимаясь по тускло освещенной лестнице, сквозь въевшийся запах пыли и несвежей еды. – Хочешь показать ей, как многого ты достиг, да?
– Нет, – ответил я самому себе. – Просто хочу видеть Салли, старую знакомую, и сказать ей то, что должен был бы сказать много лет назад: что по-своему очень ее любил. Я никогда ей этого не говорил – боялся. А теперь не боюсь: ведь все равно это ничего не изменит.
– Делаешь глупости, – сказал я себе и себе же ответил:
– А кто их не делает?
На площадке третьего этажа я остановился передохнуть. Меня обволакивал густой, неистребимый дух стряпни, полумрак гудел от рева телевизоров и детского плача, и тут у меня возникло чувство, что надо бы спуститься и уйти из этого дома, пока не поздно.
– Но ты уже почти на месте, – сказал я себе. – Давай-ка дальше, остался всего-то один этаж.
Медленно одолев последний пролет, я остановился перед некрашеной дверью. Из-за нее доносились шаги и детские голоса. Меня охватила нерешительность. Что я ей скажу? Привет, Салли, помнишь, мы катались на лодке в парке, кругом зеленые деревья, а ты стройная, как тростинка. Помнишь, как… ладно, замнем.
Я поднял руку.
Постучал.
Дверь открыла какая-то женщина, по виду лет на десять-пятнадцать старше меня. На ней было уцененное платье за два доллара, совсем не ее размера; в волосах кое-где пробивалась седина. Фигура раздалась не там, где надо, кожа вокруг рта покрылась сеткой морщин. Я чуть было не сказал: «Простите, я не туда попал, мне нужна Салли Маретти». Но промолчал. Салли была младше меня на добрых пять лет. Но это именно она выглядывала сейчас из-за двери, освещенная тусклой лестничной лампочкой. За ее спиной виднелась комната: ветхий абажур, линолеум на полу, единственный стол и убогие коричневые стулья, заваленные чем попало.
Мы стояли, глядя друг на друга через пространство в четверть века. Что было говорить? Привет, Салли, вот он я: преуспевающий бизнесмен, владелец фирмы, живу теперь на другом конце города, у меня отличная машина, дом, жена, дети окончили школу; вышла бы за меня – жила бы сейчас совсем по-другому. Она перевела глаза на массивное кольцо у меня на пальце, разглядела цветок в петлице, потом чистый ободок новой шляпы, которую я держал в руке, отметила перчатки, начищенные ботинки, флоридский загар, галстук от Бронзини. Наконец ее взгляд задержался на моем лице. Она ждала, как я поступлю: либо-либо. Я сделал самый разумный ход.
– Прошу прощения, – сказал я, – вас беспокоит страховое агентство.
– Не трудитесь, – раздался ответ, – нам страховка без надобности.
Она держала дверь открытой буквально одно мгновение, как будто опасаясь, что в любой момент может внезапно закричать от радости.
– Извините, что потревожил, – сказал я.
– Ничего страшного.
Я успел бросить еще один взгляд в комнату. Оказалось, я ошибался в своих предположениях. За столом сидели не пятеро, а шестеро детей, а также муж, смуглый, с недовольной миной, которая, вероятно, никогда его не покидала.
– Закрой дверь! – потребовал он. – Дует.
– Всего хорошего, – сказал я.
– До свидания, – ответила она.
Я отступил, и она закрыла дверь, не сводя глаз с моего лица; развернувшись, я пошел восвояси, но не успел спуститься с бурых каменных ступенек, как сзади меня окликнули. Голос был женский. Я сделал вид, что не слышал. Оклик повторился, и я замедлил шаги, но поворачиваться не стал. Через секунду кто-то взял меня за локоть, и только тогда я остановился и посмотрел через плечо.
Это была женщина из четыреста седьмой квартиры: ее глаза смотрели почти безумно, она тяжело дышала и чуть не плакала.
– Простите, – начала она, потом отшатнулась, но тут же взяла себя в руки. – Вы не подумайте, что я сумасшедшая. Скажите, вы случайно не…? Наверняка я ошиблась, но вы случайно не Чарли Макгро?
Я пришел в замешательство, а она, пристально вглядываясь в мое постаревшее лицо, пыталась отыскать хоть какую-то знакомую черточку.
От моего молчания ей стало неловко.
– Нет, я, в общем-то, была уверена, что это не вы, – сказала она.
– Что ж поделаешь, – ответил я. – А кто он такой?
– Ох, – вздохнула она, опустив глаза и подавив что-то похожее на смешок. – Не знаю, как объяснить. Мой молодой человек – так, что ли, только это было давным-давно.
Я взял ее за руку и немного задержал в своей.
– Жаль, что это не я. Мы с вами, наверно, многое смогли бы вспомнить.
– Может быть, даже слишком. – У нее по щеке проползла слеза, и она отстранилась. – Ну, нельзя объять необъятное.
– Это верно – нельзя, – повторил я и бережно отпустил ее руку.
Почувствовав нежность в моем движении, она решилась на последний вопрос.
– А это точно не вы?
– Хороший, видно, парень был этот Чарли.
– Лучше всех, – ответила она.
– Ну что ж, – проговорил я, помолчав, – прощайте.
– Нет, до свидания.
Развернувшись, она побежала наверх и с такой скоростью взлетела по лестнице, что едва не упала. На площадке она внезапно обернулась – глаза у нее сияли – и помахала. Я не собирался отвечать, но рука сама взмыла вверх.
Потом я целых полминуты стоял на месте и не мог пошевелиться, будто прирос к тротуару. С ума сойти, подумал я, угораздило же меня сломать то хорошее, что было в жизни.
В бар я вернулся уже перед закрытием. Почему-то пианист еще не ушел; видно, его не слишком тянуло домой.
После двойного бренди, сидя за кружкой пива, я сказал ему:
– Играйте что угодно, только не это: «Но если она осталась нынче одна, пусть ей Судьба укажет путь ко мне».
– Что это за песня? – спросил пианист, не снимая рук с клавиш.
– Точно не помню, – ответил я. – Что-то там… про эту… как же ее? Ах, да. Салли.







