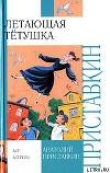Текст книги "О скитаньях вечных и о Земле (сборник)"
Автор книги: Рэй Дуглас Брэдбери
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 92 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Мальчик-невидимка
Она взяла большую железную ложку и высушенную лягушку, стукнула по лягушке так, что та обратилась в прах, и принялась бормотать над порошком, быстро растирая его своими жесткими руками. Серые птичьи бусинки глаз то и дело поглядывали в сторону лачуги. И каждый раз голова в низеньком узком окошке ныряла, точно в нее летел заряд дроби.
– Чарли! – крикнула Старуха,– Давай выходи! Я делаю змеиный талисман, он отомкнет этот ржавый замок! Выходи сей момент, а не то захочу —и земля заколышется, деревья вспыхнут ярким пламенем, солнце сядет средь белого дня!
Ни звука в ответ, только теплый свет горного солнца на высоких стволах скипидарного дерева, только пушистая белка, щелкая, кружится, скачет на позеленевшем бревне, только муравьи тонкой коричневой струйкой наступают на босые, в синих жилах ноги Старухи.
– Ведь уже два дня не евши сидишь, чтоб тебя! – выдохнула она, стуча ложкой по плоскому камню, так что набитый битком серый колдовской мешочек у нее на поясе закачался взад и вперед.
Вся в поту, она встала и направилась прямиком к лачуге, зажав в горсти порошок из лягушки.
– Ну, выходи! – Она швырнула в замочную скважину щепоть порошка.
– Ах, так! – прошипела Старуха несколько мгновений спустя.– Хорошо же, я сама войду!
Она повернула дверную ручку пальцами, темными, точно грецкий орех, сперва в одну сторону, потом в другую.
– Господи, о Господи,– воззвала она,– распахни эту дверь настежь!
Но дверь не распахнулась; тогда она кинула еще чуток волшебного порошка и затаила дыхание. Шурша своей длинной мятой синей юбкой, Старуха заглянула в таинственный мешочек, проверяя, нет ли там еще какой чешуйчатой твари, какого-нибудь магического средства посильнее этой лягушки, которую она пришибла много месяцев назад как раз для такой вот оказии.
Она слышала, как Чарли дышит за дверью. Его родители в начале недели подались в какой-то городишко в Озаркских горах, оставив мальчонку дома одного, и он, страшась одиночества, пробежал почти шесть миль до лачуги Старухи – она приходилась ему не то теткой, не то двоюродной бабкой или еще кем-то, а что до ее причуд, так он на них не обращал внимания.
Но два дня назад, привыкнув к мальчишке, Старуха решила совсем оставить его у себя – будет с кем поговорить. Она кольнула иглой свое тощее плечо, выдавила три бусинки крови, смачно плюнула через правый локоть, ногой раздавила хрусткого сверчка, а левой когтистой лапой попыталась схватить Чарли и закричала:
– Ты мой сын, мой, отныне и навеки!
Чарли вскочил, будто испуганный заяц, и ринулся в кусты, метя домой.
Но Старуха юркнула следом – проворно, как пестрая ящерица,– и перехватила его. Тогда он заперся в ее лачуге и не хотел выходить, сколько она ни барабанила в дверь, в окно, в сучковатые доски желтым кулачком, сколько ни ворожила над огнем и ни твердила, что теперь он ее сын, больше ничей, и делу конец.
– Чарли, ты здесь? – спросила она, пронизывая доски блестящими, острыми глазками.
– Здесь, здесь, где же еще,– ответил он наконец усталым голосом.
Еще немного, еще чуть-чуть, и он свалится сюда на приступку. Старуха с надеждой подергала ручку. Уж не перестаралась ли она – швырнула в скважину лишнюю щепоть, и замок заело. «Всегда-то я, как ворожу, либо лишку дам, либо не дотяну,– сердито подумала она,– никогда в самый раз не угадаю, черт бы его побрал!»
– Чарли, мне бы только было с кем поболтать вечерами, вместе у костра руки греть. Чтобы было кому утром хворосту принести да отгонять блуждающие огоньки, что подкрадываются в вечерней мгле! Никакой тут каверзы нет, сынок, но ведь невмоготу одной-то.– Она почмокала губами.—Чарли, слышь, выходи, уж я тебя такому научу!
– Чему хоть? – недоверчиво спросил он.
– Научу, как дешево покупать и дорого продавать. Излови ласку, отрежь ей голову и сунь в задний карман, пока не остыла. И все!
– Э-э! – презрительно ответил Чарли.
Она заторопилась:
– Я тебя средству от пули научу. В тебя кто стрельнет из ружья, а тебе хоть бы что.
Чарли молчал; тогда она свистящим прерывистым шепотом открыла ему тайну:
– В пятницу, в полнолуние, накопай мышиного корня, свяжи пучок и носи на шее на белой шелковой нитке.
– Ты рехнулась,– сказал Чарли.
– Я научу тебя заговаривать кровь, пригвождать к месту зверя, исцелять слепых коней – всему научу! Лечить корову, если она дурной травы объелась, выгонять беса из козы. Покажу, как делаться невидимкой!
– О! – воскликнул Чарли.
Сердце Старухи стучало, словно барабан солдата Армии спасения.
Ручка двери повернулась, нажатая изнутри.
– Ты меня разыгрываешь,– сказал Чарли.
– Что ты! – воскликнула Старуха.– Слышь, Чарли, я так сделаю, ты будешь вроде окошка, сквозь тебя все будет видно. То-то ахнешь, сынок!
– Правда, буду невидимкой?
– Правда, правда!
– А ты не схватишь меня, как я выйду?
– Я тебя пальцем не трону, сынок.
– Ну ладно,– нерешительно сказал он.
Дверь отворилась. На пороге стоял Чарли – босой, понурый, глядит исподлобья.
– Ну, делай меня невидимкой.
– Сперва надо поймать летучую мышь,– ответила Старуха.– Давай-ка ищи!
Она дала ему немного сушеного мяса, заморить червячка, потом он полез на дерево. Выше, выше... как хорошо на душе, когда видишь его, когда знаешь, что он тут и никуда не денется, после Многих лет одиночества, когда даже «доброе утро» сказать некому, кроме птичьего помета да серебристого улиткина следа...
И вот с дерева, шурша между веток, падает летучая мышь со сломанным крылом. Старуха схватила ее – теплую, трепещущую, свистящую сквозь фарфорово-белые зубы, а Чарли уже спускался вниз, перехватывая ствол руками, и победно вопил.
В ту же ночь, в час, когда луна принялась обкусывать пряные сосновые шишки, Старуха извлекла из складок своего просторного синего платья длинную серебряную иголку. Твердя про себя: «Хоть бы сбылось, хоть бы сбылось», она крепко-крепко сжала пальцами холодную иглу и тщательно прицелилась в мертвую летучую мышь.
Она уже давно привыкла к тому, что, несмотря на все ее потуги, всяческие соли и серные пары, ворожба не удается. Но как расстаться с мечтой, что в один прекрасный день начнутся чудеса, фейерверк чудес, алые цветы и серебряные звезды – в доказательство того, что Господь простил ее розовое тело и розовые грезы, ее пылкое тело и пылкие мысли в пору девичества. Увы, до сих пор Бог не явил ей никакого знамения, не сказал ни слова, но об этом, кроме самой Старухи, никто не знал.
– Готов? – спросила она Чарли,' который сидел, обхватив поджатые стройные ноги длинными, в пупырышках руками, рот открыт, зубы блестят...
– Готов,– содрогаясь, прошептал он.
– Раз! – Она глубоко вонзила иглу в правый глаз мыши,– Так!
– Ох! – крикнул Чарли и закрыл лицо руками.
– Теперь я заворачиваю ее в полосатую тряпицу – вот так, а теперь клади ее в карман и носи там вместе с тряпицей. Ну!
Он сунул амулет в карман.
– Чарли! – испуганно вскричала она.– Чарли, где ты? Я тебя не вижу, сынок!
– Здесь! – Он подпрыгнул, так что свет красными бликами заметался по его телу.– Здесь я, бабка!
Он лихорадочно разглядывал свои руки, ноги, грудь, пальцы.
– Я здесь!
Она смотрела так, словно полчища светлячков мельтешили у нее перед глазами в пьянящем ночном воздухе.
– Чарли! Надо же, как быстро пропал! Точно колибри! Чарли, вернись, вернись ко мне!.
– Да ведь я здесь! – всхлипнул он.
– Где?
– У костра, у костра! И... и я себя вижу. Вовсе я не невидимка!
Тощее тело Старухи затряслось от смеха.
– Конечно, ты видишь сам себя! Все невидимки себя видят. А то как бы они ели, гуляли, ходили? Тронь меня, Чарли. Тронь, чтобы я знала, где ты.
Он нерешительно протянул к ней руку.
Она нарочно вздрогнула, будто испугалась, когда он ее коснулся.
– Ой!
– Нет, ты и впрямь не видишь меня? – спросил он.– Правда?
– Ничего не вижу, хоть бы один волосок!
Она отыскала взглядом дерево и уставилась на него блестящими глазами, остерегаясь глядеть на мальчика.
– А ведь получилось, да еще как! – Она восхищенно вздохнула.– Ух ты! Никогда еще я так быстро не делала невидимок! Чарли, Чарли, как ты себя чувствуешь?
– Как вода в ручье, когда ее взбаламутишь.
– Ничего, муть осядет:
Погодя, она добавила:
– Вот ты и невидимка, что ты теперь будешь делать, Чарли?
Она видела, как озорные мысли вихрем роятся в его голове. Приключения, одно другого увлекательнее, плясали чертиками в его глазах, да по одному только его широко раскрытому рту было видно – что значит быть мальчишкой, который вообразил, будто он горный ветер.
Грезя наяву, он заговорил:
– Буду бегать по хлебам напрямик, забираться на самые высокие горы, таскать на фермах белых кур, поросенка увижу – пинка дам. Буду щипать за ноги красивых девчонок, когда спят, а в школе дергать их за подвязки.
Чарли взглянул на Старуху, и ее сверкающие зрачки увидели, как что-то скверное, злое исказило его лицо.
– И ещё много кой-чего буду делать, уж я придумаю,– сказал он.
– Только не вздумай мне козни строить,– предупредила Старуха.– Я хрупкая, словно весенний лед, со мной грубо нельзя.
Потом прибавила:
– А как с твоими родителями?
– Родителями?
– Не можешь же ты таким вернуться домой. Ты ж их насмерть перепугаешь! Мать так и шлепнется в обморок, будто срубленное дерево. Очень им надо на каждом шагу спотыкаться о тебя, очень надо матери поминутно звать: «Чарли, где ты?» – а ты у нее под носом!
Об этом Чарли не подумал. Он малость поостыл и даже прошептал: «Господи!» – после чего осторожно ощупал свои длинные ноги.
– Ох и одиноко тебе будет. Люди станут смотреть прямо сквозь тебя, как сквозь стеклянную банку, толкать, пихать на ходу – ведь тебя же не видно. А девчонки-то, Чарли, девчонки...
Он глотнул.
– Ну что девчонки?
– Ни одна и глядеть на тебя не захочет. Думаешь, им нужно, чтоб их целовал парень, если ни его, ни губ не видать!
Чарли озабоченно ковырял землю пальцами босой ноги. Он надул губы.
– Все равно хоть немного побуду невидимкой. Уж я позабавлюсь! Буду осторожным, только и всего. Буду держаться подальше от фургонов и коней. И от отца подальше: он как услышит шорох какой, сразу стреляет – Чарли моргнул,– Я же невидимка, вот и влепит он мне заряд крупной дроби, очень просто, почудится ему, что белка скачет на дворе, и саданет. Ой-ой...
Старуха кивнула дереву.
– А что, так и будет.
– Ладно,– рассудил Чарли,– сегодня вечером я побуду невидимкой, а завтра утром ты меня по-старому сделаешь, решено?
– Есть же чудаки, выше себя прыгнуть стараются,– сообщила Старуха жуку, который полз по бревну.
– Это почему же? – спросил Чарли.
– А вот почему,– объяснила она.– Не так-то это просто было – сделать тебя невидимкой. И теперь нужно время, чтобы с тебя сошла невидимость. Это как краска, сразу не сходит.
– Это все ты! – вскричал он,– Ты меня превратила! Теперь давай ворожи обратно, делай меня видимым!
– Тише, не кричи,– ответила Старуха.– Само сойдет помаленьку, сперва рука покажется, потом нога.
– Это как же так – я иду по горам и только одну руку видно?
– Будто пятикрылая птица скачет по камням, по ежевике!
– Или ногу?..
– Будто розовый кролик в кустах прыгает!
– Или одна голова плывет в воздухе?
– Будто волосатый шар на карнавале!
– Когда же я целым стану?
Она прикинула, что, пожалуй, не меньше года пройдет.
У него вырвался стон. Потом он захныкал, кусая губы и сжимая кулаки.
– Ты меня заколдовала, это все ты, ты наделала. Теперь мне нельзя бежать домой!
Она подмигнула.
– Так оставайся, живи со мной, сынок, тебе у меня будет вот как хорошо, уж я тебя так баловать да холить стану.
– Ты нарочно это сделала! – выпалил он.– Старая карга, вздумала удержать меня!
И он вдруг метнулся в кусты.
– Чарли, вернись!
Никакого ответа, только топот ног по мягкому темному дерну да сдавленный плач, но и тот быстро смолк вдали.
Подождав, она развела костер.
– Вернется,– прошептала она. И громко заговорила, убеждая сама себя: – Будет у меня собеседник всю весну и до конца лета. А уж тогда, как устану от него и захочется тишины, спроважу его домой.
Чарли вернулся беззвучно вместе с первым серым проблеском дня; он прокрался по белой от инея траве туда, где возле разбросанных головешек, точно сухой обветренный сук, лежала Старуха.
Он сел на скатанные ручьем голыши и уставился на нее.
Она не смела взглянуть на него и вообще в ту сторону. Он двигался совсем бесшумно, как же она может знать, что он где-то тут? Никак!
На его щеках были следы слез.
Старуха сделала вид, будто просыпается – она за всю ночь и глаз-то не сомкнула,– встала, ворча и зевая, и повернулась лицом к восходу.
– Чарли?
Ее взгляд переходил с сосны на землю, с земли на небо, с неба на горы вдали. Она звала его снова и снова, и ей все мерещилось, что она глядит на него в упор, но она вовремя спохватывалась и отводила глаза.
– Чарли? Ау, Чарльз! – кричала Старуха и слышала, как эхо ее передразнивает.
Губы его растянулись в улыбку: ведь вот же он, совсем рядом сидит, а ей кажется, что она одна! Возможно, он ощущал, как в нем растет тайная сила, быть может, наслаждался сознанием своей неуязвимости, и уж во всяком случае ему очень нравилось быть невидимым.
Она громко произнесла:
– Куда же этот парень запропастился? Хоть бы зашумел, хоть бы услышать, где он, я бы ему, пожалуй, завтрак сготовила.
Она принялась стряпать, раздраженная его упорным молчанием. Она жарила свинину, нанизывая куски на ореховый прутик.
– Ничего, небось запах сразу учует! – буркнула Старуха.
Только она повернулась к нему спиной, как он схватил поджаренные куски и жадно их проглотил.
Она обернулась с криком:
– Господи, что это?
Подозрительно осмотрелась вокруг.
– Это ты, Чарли?
Чарли вытер руками рот.
Старуха засеменила по прогалине, делая вид, будто ищет его. Наконец ее осенило: она прикинулась слепой и пошла прямо на Чарли, вытянув вперед руки.
– Чарли, да где же ты?
Он присел, отскочил и молнией метнулся прочь.
Она чуть не бросилась за ним вдогонку, но с великим трудом удержалась – нельзя же гнаться за невидимым мальчиком! – и, сердито ворча, села к костру, чтобы поджарить еще свинины. Но сколько она ни отрезала себе, он всякий раз хватал шипящий над огнем кусок и убегал прочь. Кончилось тем, что Старуха, красная от злости, закричала:
– Знаю, знаю, где ты! Вот там! Я слышу, как ты бегаешь!
Она показала пальцем, но не прямо на него, а чуть вбок.
Он сорвался с места.
– Теперь ты там! – кричала она.– А теперь там... там! – Следующие пять минут ее палец преследовал его.– Я слышу, как ты мнешь травинки, топчешь цветы, ломаешь сучки. У меня такие уши, такие чуткие, словно розовый лепесток. Я даже слышу, как движутся звезды на небе!
Он втихомолку удрал за сосны, и оттуда донесся голос:
– А вот попробуй услышать, как я буду сидеть на камне! Буду сидеть – и все!
Весь день он просидел неподвижно на камне, на видном месте, на сухом ветру, боясь даже рот открыть.
Собирая хворост в чаще, Старуха чувствовала, как его взгляд зверьком юлит по ее спине. Ее так и подмывало крикнуть: «Вижу тебя, вижу! Не бывает невидимых мальчиков, я просто выдумала! Вон ты сидишь!» Но она подавляла свою злость, крепко держала себя в руках.
На следующее утро мальчишка стал безобразничать. Он внезапно выскакивал из-за деревьев. Он корчил рожи – лягушачьи, жабьи, паучьи: оттягивал губы вниз пальцами, выпучивал свои нахальные глаза, сплющивал нос так, что загляни – и увидишь мозг, все мысли прочтешь.
Один раз Старуха уронила вязанку хвороста. Пришлось сделать вид, будто испугалась сойки.
Мальчишка сделал такое движение, словно решил ее задушить.
Она вздрогнула.
Он притворился, будто хочет дать ей ногой под колено и плюнуть в лицо.
Она все вынесла, даже глазом не моргнула, бровью не повела.
Он высунул язык, издавая странные, противные звуки. Он шевелил своими большими ушами, так что нестерпимо хотелось смеяться, и в конце концов она не удержалась, но тут же объяснила:
– Надо же, на саламандру села, дура старая! И до чего колючая!
К полудню вся эта кутерьма достигла опасного предела.
Ровно в полдень Чарли примчался откуда-то сверху совершенно голый, в чем мать родила!
Старуха едва не шлепнулась навзничь от ужаса!
«Чарли!» – чуть не вскричала она.
Чарли взбежал нагишом вверх по склону, нагишом сбежал вниз, нагой, как день, нагой, как луна, голый, как солнце, как цыпленок только что из яйца, и ноги его мелькали, будто крылья летящего над землей колибри.
У старухи отнялся язык. Что сказать ему? Оденься, Чарли? Как тебе не стыдно? Перестань безобразничать? Сказать так? Ох, Чарли,, Господи, Боже мой, Чарли... Сказать и выдать себя? Как тут быть?..
Вот он пляшет на скале, голый, словно только что на свет явился, и топает босыми пятками, и хлопает себя по коленям, то выпятит, то втянет свой белый живот, как в цирке воздушный шар надувают.
Она зажмурилась и стала читать молитву.
Три часа это длилось, наконец она не выдержала:
– Чарли, Чарли, иди же сюда! Я тебе что-то скажу!
Он спорхнул к ней, точно лист с дерева,– слава Богу, одетый.
– Чарли,– сказала она, глядя на сосны,– я вижу палец твоей правой ноги. Вот он!
– Правда видишь? – спросил он.
– Да,– сокрушенно подтвердила она.– Вон, на траве, похож на рогатую лягушку. А вот там, вверху, твое левое ухо висит в воздухе – совсем как розовая бабочка.
Чарли заплясал.
– Появился, появился!
Старуха кивнула.
– А вон твоя щиколотка показалась.
– Верни мне обе ноги! – приказал Чарли.
– Получай.
– А руки, руки как?
– Вижу, вижу: одна ползет по колену, словно паук коси-коси-ножка!
– А вторая?
– Тоже ползет.
– А тело у меня есть?
– Уже проступает, все как надо...
– Теперь верни мне голову, и я пойду домой.
«Домой»,– тоскливо подумала Старуха.
– Нет! – упрямо, сердито крикнула она.– Нет у тебя головы! Нету!
Оттянуть, сколько можно оттянуть эту минуту...
– Нету головы, нету,—твердила она.
– Совсем нет? – заныл Чарли.
– Есть, есть, о Господи, вернулась твоя паршивая голова! – огрызнулась она, сдаваясь.– А теперь отдай мне мою летучую мышь с иголкой в глазу!
Чарли швырнул ей мышь.
– Эге-гей!
Его крик раскатился по всей долине, и еще долго после того, как он умчался домой, в горах бесновалось эхо.
Старуха, согнутая тяжелой, тупой усталостью, подняла свою вязанку хвороста и побрела к лачуге. Она вздыхала и что-то бормотала себе под нос, и всю дорогу за ней шел Чарли, теперь уже и в самом деле невидимый, она не видела его, только слышала: вот упала на землю сосновая шишка – это он, вот журчит под ногами подземный поток – это он, белка цепляется за ветку – это Чарли; и в сумерках она и Чарли сидели вместе у костра, только он был настоящим невидимкой, и она угощала его свининой, но он отказывался, тогда она все съела сама, потом немного поколдовала и уснула рядом с Чарли, правда, он был сделан из сучьев, тряпок и камешков, но все равно он теплый, все равно ее родимый сыночек – вон как сладко дремлет, ненаглядный, у нее на руках, материнских руках,– и они говорили, сонно говорили о чем-то приятном, о чем-то золотистом, пока рассвет не заставил пламя медленно, медленно поблекнуть...
Попрыгунчик
За окном маячило холодное серое утро.
Стоя у подоконника, он так и сяк вертел Попрыгунчика в руках, пытаясь открыть заржавевшую крышку,– та все не поддавалась. Где же этот чертик, почему не выскакивает с криком из своего убежища, не хлопает бархатными ладошками и не раскачивается из стороны в сторону с глупой намалеванной улыбкой? Сидит, затаился, весь расплющенный, под крышкой – и не шевелится. Если прижать коробку прямо к уху, слышно, как сильно сжата его пружина – до ужаса, до боли. Словно в руке бьется чье-то испуганное сердечко. А может, это у самого Эдвина пульсирует в руке кровь?
Он отложил коробку и посмотрел в окно. Деревья окружали дом – а дом окружал Эдвина. Эдвин был внутри, в самой серединке. А что же дальше, там, за деревьями?
Чем дольше он вглядывался, тем сильнее верхушки деревьев качались от ветра – словно намеренно скрывая от него правду.
– Эдвин! – За его спиной мама нетерпеливо отхлебывала утренний кофе.– Хватит глазеть в окно. Иди есть.
– Не пойду...
– Что? – Послышался шорох накрахмаленной ткани – наверное, мать повернулась,– Ты хочешь сказать, окно для тебя важнее, чем завтрак?
– Да...– прошептал Эдвин, и взгляд его снова пробежал по тропинкам и закоулкам, исхоженным за тринадцать лет.
Неужели этот лес простирается на тысячи миль и за ним ничего нет? Ничего!..
Взор, так ни за что и не зацепившись, вернулся к дому – к лужайке, к крыльцу...
Эдвин сел за стол и принялся жевать безвкусные абрикосы. Тысячи точно таких же утренних часов провели они с матерью в огромной, гулкой столовой —за этим же столом, у Зтого окна, за которым недвижной стеной стояли деревья.
Некоторое время ели молча.
Щеки матери были, как всегда, бледны. Обычно никто, кроме птиц, не видел ее, когда она мелькала в полукруглых окнах пятого этажа старинного особняка – сначала в шесть утра, потом – в четыре дня, потом – в девять вечера и наконец – в полночь, когда она удалялась в свою башню и сидела там – белая, молчаливая и величественная, будто одинокий цветок, чудом уцелевший в давно заброшенной оранжерее.
Эдвин же, ее сын, казался хрупким одуванчиком, готовым облететь от любого порыва ветра. У него были шелковистые волосы, синие глаза и вечно повышенная температура. Изможденный взгляд наводил на мысль о том, что он плохо спит ночами. Про таких говорят: плюнешь – пополам переломится.
Мать снова завела разговор – сначала вкрадчиво и медленно, потом быстрее, а потом и вовсе перешла в крик:
– Ну скажи, почему каждое утро повторяется одно и то же? Мне вовсе не по душе, что ты все время таращишься в окно, понятно? Чего ты добиваешься? Ты что, хочешь увидеть их? – Пальцы ее дрожали, как белые лепестки цветка,– даже в гневе она была умопомрачительно хороша.– Этих Тварей, которые бегают по дорогам и давят людей, точно тараканов?
Да, он с удовольствием посмотрел бы на монстров во всей их красе.
– Может, хочешь пойти туда? – Голос ее снова сорвался в крик.– Как твой отец, когда тебя еще не было, да? Пойти – и чтобы одна из Тварей тебя угробила, этого ты хочешь?
– Нет...
– Неужели тебе мало того, что они убили твоего отца? Да как ты вообще можешь вспоминать об этих чудовищах! – Мать кивнула в сторону леса.– Впрочем, если так уж не терпится умереть – давай, иди!
Она замолкла, и только ее пальцы, словно сами по себе, продолжали теребить скатерть.
– Ах, Эдвин, Эдвин... твой отец выстроил по кирпичику весь этот Мир, такой прекрасный... Неужели тебе этого мало? Поверь мне: ничего, ничего нет за этими деревьями – одна только погибель. И не смей к ним приближаться! Заруби себе на носу: для тебя есть только один Мир. Никакой другой тебе не нужен.
Он понуро кивнул.
– А теперь улыбнись и доедай,-^ сказала мама.
Эдвин продолжал медленно жевать, но даже в серебряной ложке отражалось окно и стена деревьев за ним.
– Ма...– Вопрос застрял на языке и никак не хотел срываться.– А что... а как это – умереть? Вот ты говоришь – погибель. Что это, какое-то чувство?
– Да. Для тех, кто остается жить,– да. И весьма неприятное.– Мать вдруг резко поднялась из-за стола.– Ты опоздаешь в шкалу. Давай-ка, бегом!
Эдвин поцеловал ее на прощанье и сгреб под мышку книги.
– Пока!
– Привет учительнице!
Он пулей вылетел из комнаты и помчался вверх по бесконечным лестницам, коридорам, залам, по затемненной галерее, в которую через высокие окна низвергались водопады света... Все выше и выше – сквозь толщу слоеного торта из Миров, густо устеленного глазурью персидских ковров и увенчанного праздничными свечами.
С верхней ступеньки он окинул взглядом все четыре уровня их домашней вселенной.
В Долине – кухня, столовая, гостиная. Два слоя в серединке – империи музыки, игр, картин и запретных комнат. И на самой верхотуре, на Холмах – Эдвин огляделся вокруг – мир, мир приключений, пикников и учебы.
Вот такая у них была вселенная. Отец (или Бог, как часто называла его мама) возвел эту громадину давным-давно, покрыв ее изнутри слоем штукатурки и обклеив обоями. Это было неподражаемое творение Бога-отца, где звезды послушно зажигались, стоило только щелкнуть выключателем. А солнце здесь было мамой. Точнее, мама была солнцем, вокруг которого все вращалось. И сам Эдвин был лишь крохотным метеором, который плутал в пространстве ковров и гобеленов, путался в лестницах – закрученных, как хвосты комет.
Иногда они с матерью устраивали пикники на Холмах. Застилали прохладным и белоснежным (почти что снежным) бельем туфовые и ковровые лужайки. Поднимались на багряные высокогорные плато на самой вершине, где за их пирушками понуро наблюдали желтолицые незнакомцы с осыпающихся портретов. Откручивали серебряные краны в потайных кафельных нишах и набирали воду. Задорно разбивали бокалы прямо о каминную плиту. Играли в прятки в таинственных и незнакомых пределах, где можно было завернуться, как мумия, в бархатную штору или забраться под чехол какого-нибудь дивана.
Вековая пыль и эхо царили в этом царстве, полном темных чуланов. Однажды Эдвин даже потерялся там, но мама нашла его и привела, плачущего, обратно вниз, в гостиную, где так знакомо серебрились в воздухе подсвеченные солнцем пылинки...
Он миновал еще один этаж.
Здесь ему приходилось стучаться в тысячи и тысячи дверей – запертых и запретных. Здесь он часто бродил среди полотен, с которых молча взывали к нему златоглазые персонажи Пикассо и Дали.
– Вот такие существа живут там,– говорила ему мама, представляя Пикассо и Дали едва не как членов одной семьи.
Пробегая мимо картин, Эдвин показал им язык.
И вдруг он невольно остановил бег.
Одна из запретных дверей оказалась приоткрытой.
Оттуда заманчиво пробивались теплые косые лучи. Заглянув в щель, Эдвин увидел залитую солнцем винтовую лестницу.
Кругом стояла такая тишина, что можно было слышать собственное прерывистое дыхание. Все эти годы он дергал запретные двери за ручки – вдруг какая-нибудь поддастся,– но они всегда были заперты. А что, если сейчас открыть эту дверь и подняться по лестнице? А вдруг наверху прячется какое-нибудь чудище?
– Эй!
Голос его кругами поднялся вверх.
«Эй...» – лениво отозвалось эхо где-то в самой солнечной вышине и замерло.
Эдвин вошел.
– Пожалуйста, не бейте меня,– прошептал он, задрав голову кверху.
Шаг за шагом, ступенька за ступенькой он стал подниматься, то и дело останавливаясь и ожидая возмездия, зажмурив глаза, словно кающийся грешник. Затем побежал быстрее – вверх и вверх по спирали, и все бежал и бежал, хотя уже болели колени, срывалось дыхание, а голова гудела, как колокол. И вот он приблизился к зловещей вершине своего пути, вот он стоит на верхней площадке какой-то башни и купается в солнечных лучах...
Солнце нещадно слепило глаза. Никогда еще ему не приходилось видеть так много солнца. Эдвин оперся о железную ограду.
– Вот оно! – Он задохнулся от восторга и глянул по сторонам.– Вот оно! – Он обежал по кругу всю площадку.– Оно там есть!
Так вот что пряталось за сумрачной стеной деревьев! Вот что скрывали всклокоченные ветром кроны каштанов и вязов!
Он увидел целые просторы, поросшие зеленой травой и деревьями. И еще какие-то белые ленты, по которым ползут черные жуки... Другой мир —такой бесконечный, такой непостижимо голубой, что Эдвину хотелось кричать.
Вцепившись изо всех сил в перила, он смотрел и смотрел на деревья и за деревья, на белые ленты, по которым ползли жуки, а там, дальше, возвышались какие-то штуки, похожие на гигантские пальцы... На высоких белых шестах развевались по ветру красно-бело-синие носовые платки. Все было совсем не такое, как на картинах Пикассо и Дали. Ничего уродливого и ужасного...
Эдвин вдруг ощутил приступ дурноты: Потом еще один.
Тогда он что есть силы бросился обратно и почти что кубарем скатился по ступенькам. Захлопнув за собой запретную дверь, навалился на нее всем телом.
«Теперь я ослепну! – Он прижал ладони к глазам.– Не надо было на это смотреть! Не надо!»
Эдвин опустился на колени, затем лег прямо на пол и сжался в комочек, прикрыв голову руками. Ждать осталось совсем немного – сейчас он должен ослепнуть.
Через пять минут он уже стоял у обычного окна на Холмах и в который раз разглядывал знакомый Мир – сад.
Вот вязы и кусты орешника, вот каменная стена, а за ней другая – нескончаемая стена из леса, за которой таится загадочное и ужасное Нечто. Нечто, навсегда погруженное в туман, дождь и темноту... Теперь он знает, что оно не такое, вселенная не кончается сразу за этим лесом. Есть и другие миры – кроме тех, что находятся на Холмах и в Долине.
Эдвин снова подергал запретную дверь. Заперто.
Может, ему все померещилось? Видел ли он на самом деле голубую с зеленым комнату? И заметил ли его Бог?
От этой мысли Эдвина бросило в дрожь. Бог... Тот самый Бог, что курил загадочную черную трубку и ходил, опираясь на волшебную палочку. Этот Бог, может быть, и сейчас вовсю за ним наблюдает!
Эдвин дотронулся похолодевшими пальцами до лица.
– Я вижу. Я до сих пор вижу! Спасибо, спасибо! – горячо прошептал он.
В полдесятого, с опозданием ровно на час, он постучал в дверь школы.
– Доброе утро, Учительница!
Дверь распахнулась. За ней стояла Учительница, одетая в серую монашескую мантию – лицо ее было наполовину скрыто капюшоном. На носу, как всегда, поблескивали очки в серебряной оправе. Рукой в серой перчатке она поманила Эдвина внутрь.
– Ты опоздал.
За ней, освещенная ярким пламенем, лежала страна книг. Стены здесь, вместо кирпичей, были сложёны из энциклопедий, а камин был такой огромный, что Эдвин смог бы спокойно выпрямиться в нем во весь рост. Сейчас там жарко горело большое полено.
Дверь закрылась, замыкая этот мир уюта и тепла. Здесь стоял письменный стол, за которым когда-то сидел Бог. На полу лежал ковер, по которому Бог так часто ходил, набивая трубку. Хмуро выглядывал вот в это окно из цветного стекла. Все, даже запах – смесь аромата полированного дерева, табака, кожи и серебряных монет,– напоминало здесь о Боге. Арфовые переливы учительского голоса воспевали его и прошлые времена, когда по велению Бога Мир пошатнулся, вздрогнул до самого основания, а затем Божьей рукой, по блестящему Божьему замыслу был выстроен заново. Драгоценные отпечатки Божьих перстов все еще лежали нерастаявшим снегом на отточенных им когда-то карандашах – теперь они были выставлены в стеклянной витрине. Трогать,их запрещалось строго-престрого, как будто от этого отпечатки могли растаять.
Здесь, на Холмах, вкрадчивый голос Учительницы рассказывал Эдвину, к чему надлежит готовить свою душу и тело.
Ему предстояло вырасти и стать достойным славы и призывного гласа Божьего. И когда это случится, то он – большой и величественный – сам встанет у этого окна. Он будет Богом! И тогда уж по-хозяйски сдует пыль со всех своих Миров.