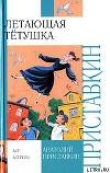Текст книги "О скитаньях вечных и о Земле (сборник)"
Автор книги: Рэй Дуглас Брэдбери
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 92 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
– Скажите что-нибудь,– предложил хозяин.– Можете даже крикнуть.
Долго просить нас не пришлось.
– Э-гей-гей! Слушайте, это я, Тимоти!
– Что бы мне такое сказать? – промолвил я и вдруг крикнул: – На помощь!
Агата, упрямо сжав губы, продолжала шагать против течения.
Отец схватил ее за руку.
– Пусти! – крикнула она.– Я не хочу, чтобы мой голос попал туда, слышишь, не хочу!
– Ну вот и отлично,– сказал наш проводник и коснулся пальцем трех небольших циферблатов приборчика, который держал в руках. На боковой стороне приборчика появились три осциллограммы: кривые на них переплелись, сливаясь воедино,– наши возгласы и крики.
Гвидо Фанточини щелкнул переключателем, и мы услышали, как наши голоса вырвались на свободу, под своды дельфийских пещер, чтобы поселиться гам, заглушив другие, известить о себе. Гвидо снова и снова касался каких-то кнопок, то здесь, то там на приборчике, и мы вдруг услышали легкое, как вздох, восклицание мамы и недовольное ворчание отца, бранившего статью в утренней газете, а затем его умиротворенный голос после глотка доброго вина за ужином. Что уж он там делал, наш добрый провожатый, со своим приборчиком, но вокруг нас плясали шепоты и звуки, словно мошкара, вспугнутая светом. Но вот она успокоилась и осела; последний щелчок переключателя – и в тишине, свободной от всяких помех, прозвучал голос. Он произнес всего лишь одно слово:
– Нефертити.
Тимоти замер, я окаменел. Даже Агата прекратила свои попытки шагать в обратную сторону.
– Нефертити? – переспросил Тимоти.
– Что это такое? – требовательно спросила Агата.
– Я знаю! – воскликнул я.
Гвидо Фанточини ободряюще кивнул головой.
– Нефертити,– понизив голос до шепота, произнес я,– в Древнем Египте означало: «Та, что прекрасна, пришла, чтобы остаться навсегда».
– Та, что прекрасна, пришла, чтобы остаться навсегда,– повторил Тимоти.
– Нефер-ти-ти,– протянула Агата.
Мы повернулись и посмотрели в тот мягкий далекий полумрак, откуда прилетел к нам этот нежный, ласковый и добрый голос.
Мы верили – она там.
И, судя по голосу, она была прекрасна.
Вот так это было.
Во всяком случае, таким было начало.
Голос решил все. Почему-то именно он показался нам самым главным.
Конечно, нам не безразлично было и многое другое, например ее рост и вес. Она не должна быть костлявой и угловатой, чтобы мы набивали об нее синяки и шишки, но, разумеется, и не толстой, чтобы не утонуть и не задохнуться в ее объятиях. Ее руки, когда они будут касаться нас или же вытирать испарину с наших горячих лбов во время болезни, не должны быть холодными, как мрамор, или обжигать, как раскаленная печь. Лучше всего, если они будут теплыми, как тельце цыпленка, когда утром берешь его в руки, вынув из-под крыла преисполненной важности мамы-наседки. Только и всего. Что касается деталей, то уж тут мы показали себя. Мы кричали и спорили чуть ли не до слез, но Тимоти все же удалось настоять на своем: ее глаза будут только такого цвета, и никакого другого. Почему – об этом мы узнали потом.
А цвет волос нашей Бабушки? У Агаты, как у всякой девчонки, на сей счет было свое особое мнение, но она не собиралась делиться им с нами. Поэтому мы с Тимоти предоставили ей самой выбирать из того множества образцов, которые, подобно декоративным шпалерам, украшали стены и напоминали нам разноцветные струйки дождя, под которые так и хотелось подставить голову. Агата не разделяла наших восторгов, но, понимая, как неразумно в таком деле полагаться на мальчишек, велела нам отойти в сторонку и не мешать ей.
Наконец удачная покупка в универсальном магазине «Бен Франклин – Электрические машины и компания "Пантомимы Фанточини". Продажа по каталогам» была совершена.
Река вынесла нас на берег. Был уже конец дня.
Что и говорить, люди из фирмы «Фанточини» поступили очень мудро.
Как, спросите вы?
Они заставили нас ждать.
Они понимали, что о победе говорить рано. Во всяком случае, полной и, если хотите, даже частичной.
Особенно если говорить об Агате. Ложась спать, она тут же поворачивалась лицом к стене, и кто знает, какие печальные картины чудились ей в рисунке обоев, которых она то и дело касалась рукой. А утром мы находили на них нацарапанные ногтем силуэты крохотных существ, то прекрасных, то зловещих, как в кошмаре. Одни из них исчезали от малейшего прикосновения, как морозный узор на стекле от теплого дыхания, другие не удавалось стереть даже мокрой губкой, как мы ни старались.
А «Фанточини» не торопились.
Прошел июнь в томительном ожидании.
Минул июль в ничегонеделании.
На исходе был август и наше терпение.
Вдруг 29-го Тимоти сказал:
– Странное у меня сегодня чувство...
И, не сговариваясь, после завтрака мы вышли на лужайку.
Возможно, мы заподозрили что-то, когда слышали, как отец вчера вечером говорил с кем-то по телефону, или от нас не укрылись осторожные взгляды, которые он бросал то на небо, то на шоссе перед домом. А может, виною был ветер, от которого, как бледные тени, всю ночь метались по спальне занавески, будто хотели нам что-то сказать.
Так или иначе, мы с Тимом были на лужайке, а голова Агаты, делавшей вид, будто ей решительно все равно, то и дело мелькала где-то на крыльце за горшками с геранью.
Мы словно не замечали нашу сестренку. Мы знали: стоит нам вспугнуть ее, и она убежит. Поэтому мы просто смотрели на небо. А на нем были лишь птицы да далекий росчерк реактивного самолета. Мы не забывали изредка поглядывать и на шоссе, по которому то и дело проносились машины. Ведь любая из них могла доставить нам... Нет-нет, мы ничего не ждем.
В полдень мы с Тимоти все еще валялись на лужайке и жевали травинки.
В час дня Тим вдруг удивленно заморгал глазами.
И вот тут-то все и произошло с невероятной точностью и быстротой.
Словно «Фанточини» передался весь накал нашего нетерпения, и они безошибочно выбрали момент.
Дети отлично умеют скользить по поверхности. Каждый день мы проделывали это, чуть задевая зеркальную поверхность озера, и нам знакомо то странное ощущение, будто в любую секунду можешь вспороть обманчивую гладь и уйти и тебя уже не дозовешься.
Будто почувствовав, что нашему долготерпению должен прийти конец, что это может случиться в любую минуту, даже секунду, и все исчезнет, будет забыто, словно ничего и не было никогда, именно в это так точно угаданное мгновение облака над нашим домом расступились и пропустили вертолет, словно мифические небеса колесницу бога Аполлона.
Колесница медленно опускалась на крыльях потревоженного воздуха, горячие струи которого, тут же остывая, вздыбили наши волосы, захлопали складками одежды, будто кто-то громко зааплодировал, а волосы Агаты, стоявшей на крыльце, превратились в трепещущий флаг. Испуганной птицей вертолет коснулся лужайки, чрево его разверзлось, и на траву упал внушительных размеров ящик. И, не дав времени ни на приветствие, ни на прощание, еще сильнее взвихрив воздух, вертолет тут же рванулся вверх и, словно небесный дервиш, унесся дальше, чтобы где-то еще повторить свой фантастический трюк.
Какое-то время Тимоти и я недоуменно глядели на ящик. Но когда мы увидели маленький лапчатый ломик, прикрепленный к крышке из грубых сосновых досок, мы больше не раздумывали. Мы бросились к ящику и, орудуя ломиком, стали с треском отрывать одну доску за другой. Увлеченный, я не сразу заметил, что Агаты уже нет на крыльце, что, подкравшись, она с любопытством наблюдает за нами, и подумал, как хорошо, что она не видела фоба, когда маму увозили на кладбище, и свежей могилы, а лишь слышала слова прощания в церкви, но самого ящика, деревянного ящика, так похожего на этот, она не видела!..
Отскочила последняя доска.
Мы с Тимоти ахнули. Агата, стоявшая теперь совсем рядом, тоже не удержалась от возгласа удивления.
Потому что в большом ящике из грубых сосновых досок лежал подарок, о котором можно только мечтать. Отличный подарок для любого из смертных, будь ему семь или семьдесят семь.
Сначала просто не было слов и перехватило дыхание, но потом мы разразились поистине дикими воплями восторга и радости.
Потому что в ящике лежала... мумия! Вернее, пока лишь саркофаг.
– Нет, не может быть! – Тимоти чуть не заплакал от счастья.
– Не может быть! – повторила Агата.
– Да-да, это она!
– Наша, наша собственная?!
– Конечно, наша!
– А что, если они ошиблись?
– И заберут ее обратно?!
– Ни за что!
– Смотрите, Настоящее золото! И настоящие иероглифы! Потрогайте!
– Дайте мне потрогать!
– Точь-в-точь такая, как в музее!
Мы говорили все разом, перебивая друг друга. Слезинки сползли по моим щекам и упали на саркофаг.
– Ты испортишь иероглифы! – Агата поспешно вытерла крышку.
Золотая маска на саркофаге смотрела на нас, чуть улыбаясь, словно радовалась вместе с нами, и охотно принимала нашу любовь, которая, мы думали, навсегда ушла из наших сердец, но вот вернулась и вспыхнула при первом лучике солнца.
Ибо лицо ее было солнечным ликом, отчеканенным из чистого золота, с тонким изгибом ноздрей, с нежной и вместе с тем твердой линией рта. Ее глаза сияли небесно-голубым, нет, аметистовым, лазоревым светом или, скорее, сплавом всех трех цветов, а тело было испещрено изображениями львов, человеческих глаз и птиц, похожих на воронов, золотые руки, сложенные на груди, держали плеть, символ повиновения, и еще диковинный цветок, означавший послушание по доброй воле, когда плеть больше не нужна.
Глаза наши жадно изучали иероглифы, и вдруг мы сразу поняли...
– Эти знаки, ведь они... Вот птичий след, вот змея!.. Да-да, они говорят совсем не о Прошлом.
В них было Будущее.
Это была первая в истории мумия, таинственные письмена которой сообщали не о том, что было и прошло, а о том, что будет через месяц, год или полвека!
Она не оплакивала безвозвратно ушедшее.
Нет, она приветствовала яркое сплетение грядущих дней и событий, записанных, хранимых, ждущих, когда наступит их черед.
Мы благоговейно встали на колени перед грядущим и возможным временем. Руки протянулись, сначала одна, потом другая, пальцы робко коснулись, стали ощупывать, пробовать, гладить, легонько обводить контуры чудодейственных знаков.
– Вот я, смотрите! Это я в шестом классе! – воскликнула Агата (сейчас она была в пятом).– Видите эту девочку? У нее такие же волосы и коричневое платье.
– А вот я в колледже! – уверенно сказал Тимоти, совсем еще малыш; но каждую неделю он набивал новую планку на свои ходули и важно вышагивал по двору.
– И я,., в колледже,—тихо, с волнением промолвил я.– Вот этот увалень а очках, Конечно же, это я, черт побери! – И я смущенно хмыкнул.
На саркофаге были наши школьные зимы, весенние каникулы, осень с золотом, медью и багрянцем опавших листьев, рассыпанных по земле, словно монеты, и над всем этим – символ солнца, вечный лик дочери бога Ра, негасимое светило на нашем небосклоне, путеводный свет в сторону добра.
– Вот здорово! – хором воскликнули мы, читая и перечитывая книгу нашей судьбы, прослеживая линии наших жизней и всего прекрасного и непостижимого, что с такой щедростью было начертано вокруг.
– Вот здорово!
И, не сговариваясь, мы ухватились за сверкающую крышку саркофага, не имевшего ни петель, ни запоров, которая снималась так же легко и просто, как снимается чашка, прикрывающая другую, приподняли ее и отложили в сторону.
Конечно, в саркофаге была настоящая мумия!
Такая же, как ее изображение на крышке, но только еще прекрасней и желанней, ибо она совсем уже походила на живое существо, запеленутое в новый, чистый холст, а не в истлевшие, рассыпающиеся в пыль погребальные одежды.
Лицо ее скрывала уже знакомая золотая маска, но оно казалось еще моложе и, как ни странно, мудрее. Три чистых холщовых свивальника стягивали ее тело. Они были тоже испещрены иероглифами, но на каждом – разными: вот иероглифы для девочки десяти лег, а вот для девятилетнего мальчика и мальчика тринадцати лет. Выходит, каждому из нас свое!
Мы растерянно переглянулись и вдруг засмеялись.
Не думайте, что кто-то из нас позволил себе глупую шутку. Просто нам пришло в голову, что, если она запеленута в холст, а на холсте – мы, значит, ей уже от нас никуда не деться!
Ну и что ж, разве это плохо! Нет, это здорово придумано, чтобы мы тоже в этом участвовали, и тот, кто это сделал, знал: теперь никто из нас не останется в стороне. Мы бросились к мумии, и каждый потянул за свою полоску холста, которая разворачивалась как волшебный серпантин!
Вскоре на лужайке лежали горы холста. А мумия оставалась неподвижной, дожидаясь своего часа.
– Она мертвая! – вдруг закричала Агата,– Тоже мертвая! – И в ужасе отшатнулась прочь.
Я вовремя успел схватить ее.
– Глупая. Она ни то ни другое,– ни живая и ни мертвая. У тебя ведь есть ключик. Где он?
– Ключик?
– Вот балда! – закричал Тим.– Да тот, что тебе дал этот человек в магазине. Чтобы заводить ее!
Рука Агаты уже шарила за воротом, где на цепочке висел символ, возможно, нашей новой веры. Она рванула его, коря себя и ругая, и вот он уже в ее потной ладошке.
– Ну давай, вставляй же его! – нетерпеливо крикнул Тимоти.
– Куда?
– Вот дуреха! Он же тебе сказал: в правую подмышку или левое ухо. Дай сюда ключ!
Он схватил ключ и, задыхаясь от нетерпения и досады, что сам не знает, где заветная скважина, стал обшаривать мумию с ног до головы, тыча в нее ключом. Где, где же она заводится? И уже отчаявшись, он вдруг ткнул ключом в живот мумии, туда, где, по его предположению, должен быть у нее пупок.
И о чудо! Мы услышали жужжание.
Электрическая Бабушка открыла глаза! Жужжание и гул становились громче. Словно Тим попал палкой в осиное гнездо.
– Отдай! – закричала Агата, сообразив, что Тимоти отнял у нее всю радость первооткрытия. – Отдай! – И она выхватила у него ключик.
Ноздри нашей Бабушки шевелились – она дышала! Это было так же невероятно, как если бы из ее ноздрей повалил пар или полыхнул огонь!
– Я тоже хочу!..– не выдержал я и, вырвав у Агаты ключ, с силой повернул его... Дзинь!
Уста чудесной куклы разомкнулись.
– Я тоже!
– Я!
– Я!!!
Бабушка внезапно поднялась и села.
Мы в испуге отпрянули.
Но мы уже знали: она родилась! Родилась! И это сделали мы!
Она вертела головой, она смотрела, она шевелила губами. И первое, что она сделала, она засмеялась.
Тут мы совсем забыли, что минуту назад в страхе шарахнулись от нее. Теперь звуки смеха притягивали нас к ней с такой силой, с какой влечет зачарованного зрителя змеиный ров.
Какой же это был заразительный, веселый и искренний смех! В нем не было ни тени иронии, он приветствовал нас и словно бы говорил: да, это странный мир, он огромен и полон неожиданностей, в нем, если хотите, много нелепого, но при всем при этом он прекрасен и я рада в него войти и теперь не променяю его ни на какой другой. Я не хочу снова уснуть и вернуться туда, откуда пришла.
Бабушка проснулась. Мы разбудили ее. Своими радостными воплями мы вызвали ее к жизни. Теперь ей оставалось лишь встать и выйти к нам.
И она сделала это. Она вышла из саркофага, отбросив прочь пеленавшие ее покрывала, сделала шаг, отряхивая и разглаживая складки одежды, оглядываясь по сторонам, словно искала зеркало, куда бы поглядеться. И она нашла его – в наших глазах, где увидела свое отражение. Очевидно, то, что она увидела там, ей понравилось, ибо ее смех сменился улыбкой изумления.
Что касается Агаты, то ее уже не было с нами. Напуганная всем происшедшим, она снова спряталась на крыльце. А Бабушка будто и не заметила этого.
Она, медленно поворачиваясь, оглядела лужайку и тенистую улицу, словно впитывала в себя все новое и незнакомое. Ноздри ее трепетали, будто она и в самом деле дышала, наслаждаясь первым днем в райском саду, и совсем не спешила вкусить от яблока познания добра и зла и тут же испортить чудесную игру...
Наконец взгляд ее остановился на моем братце Тимоти.
– Ты, должно быть...
– Тимоти,– радостно подсказал он.
– А ты?..
– Том,– ответил я.
До чего же хитрые эти «Фанточини»! Они прекрасно знали, кто из нас кто. И она, конечно, знала. Но они нарочно подучили ее сделать вид, будто это не так. Чтобы мы сами как бы научили ее тому, что она и без нас отлично знает. Вот дела!
– Кажется, должен быть еще один мальчик, не так ли? – спросила Бабушка.
– Девочка! – раздался с крыльца обиженный голос.
– И ее, кажется, зовут Алисия?..
– Агата! – Обида сменилась негодованием.
– Ну если не Алисия, тогда Алджернон...
– Агата!!! – и наша сестренка, показав голову из-за перил, тут же спряталась, багровая от стыда.
– Агата,– Бабушка произнесла это имя с чувством полного удовлетворения.– Итак: Агата, Тимоти и Том. Давайте-ка я погляжу на вас всех.
– Нет, раньше мы! Мы!..
Наше волнение было огромно. Мы приблизились, мы медленно обошли вокруг нее, а потом еще и еще раз, описывая круги вдоль границ ее территории. А она кончалась там, где уже не слышно было мерного гудения, так похожего на гудение пчелиного улья в разгар лета. Именно так. Это было самой замечательной особенностью нашей Бабушки. С нею всегда было лето, раннее июньское утро, когда мир пробуждается и все вокруг прекрасно, разумно и совершенно. Едва открываешь глаза – и ты уже знаешь, каким будет день. Хочешь, чтобы небо было голубое, оно будет голубым. Хочешь, чтобы солнце, пронизав кроны деревьев, вышило на влажной от росы утренней лужайке узор из света и теней,– так оно и будет.
Раньше всех за работу принимаются пчелы. Они уже побывали на лугах и полях и вернулись, чтобы полететь снова и вернуться, и так не один раз, словно золотой пух в прозрачном воздухе, все в цветочной пыльце и сладком нектаре, который украшает их, как золотые эполеты. Слышите, как они летят? Как парят в воздухе? Как на языке танца приветствуют друг друга, сообщают, куда лететь за сладким сиропом, от которого шалеют лесные медведи, приходят в неописуемый экстаз мальчишки, а девочки мнят о себе Бог знает что и вскакивают по вечерам с постели, чтобы с замиранием сердца увидеть в застывшей глади зеркала свои гладкие и блестящие, как у резвящихся дельфинов, тела.
Вот такие мысли пробудила в нас наша Электрическая Игрушка в этот знаменательный летний полдень на лужайке перед домом.
Она влекла, притягивала и околдовывала, заставляла кружиться вокруг нее, запоминать то, что и запоминать-то, казалось, невозможно, ставшая столь необходимой нам, уже обласканным ее вниманием.
Разумеется, я говорю о Тимоти и о себе, потому что Агата по-прежнему пряталась на крыльце. Но голова ее то и дело появлялась над балюстрадой – Агата стремилась ничего не упустить, услышать каждое слово, запомнить каждый жест.
Наконец Тимоти воскликнул:
– Глаза!.. Ее глаза!
Да, глаза чудесные, просто необыкновенные глаза.
Ярче лазури на крышке саркофага или цвета глаз на маске, прятавшей ее лицо. Это были самые лучезарные и добрые глаза в мире, и светились они тихим, ясным светом.
– Твои глаза,– пробормотал, задыхаясь от волнения, Тимоти,– они точно такого цвета, как...
– Как что?
– Как мои любимые стеклянные шарики...
– Разве можно придумать лучше?
Потрясенный Тим не знал, что ответить.
Взгляд ее скользнул дальше и остановился на мне; она с интересом изучала мое лицо – нос, уши, подбородок.
– А как ты, Том?
– Что я?
– Станем мы с тобой друзьями? Ведь иначе нельзя, если мы хотим жить под одной крышей и в будущем году...
– Я...– Не зная, что ответить, я растерянно умолк.
– Знаю,– сказала Бабушка. – Ты как тот щенок – рад бы залаять, да тянучка пасть залепила. Ты когда-нибудь угощал щенка ячменным сахаром? Очень смешно, не правда ли, и все-таки грустно. Сначала покатываешься со смеху, глядя, как вертится бедняга, пытаясь освободиться, а потом тебе уже жаль его и ужасно стыдно. Уже сам чуть не плачешь, бросаешься помочь и визжишь от радости, когда наконец слышишь его лай.
Я смущенно хмыкнул, вспомнив и щенка и тот день, когда я проделал с ним такую штуку.
Бабушка оглянулась и тут заметила моего бумажного змея, беспомощно распластавшегося на лужайке.
– Оборвалась бечевка,– сразу догадалась она.– Нет, потерялась вся катушка. А без бечевки змея не запустишь. Сейчас посмотрим.
Бабушка наклонилась над змеем, и мы с любопытством наблюдали, что же будет дальше, Разве роботы умеют запускать змея? Когда Бабушка выпрямилась, змей был у нее в руках.
– Лети,– сказала она ему, словно птице.
И змей полетел.
Широким взмахом она умело запустила его в облака. Она и змей были единое целое, ибо из ее указательного пальца тянулась тонкая сверкающая нить, почти невидимая, как паутинка или леска, но она прочно удерживала змея, поднявшегося на целую сотню метров над землей, нет, на три сотни, а потом и на всю тысячу, уносимого все дальше в головокружительную летнюю высь.
Тим радостно завопил. Раздираемая противоречивыми чувствами Агата тоже подала голос с крыльца. А я, не забывая о том, что я совсем взрослый, сделал вид, будто ничего особенного не произошло, но во мне что-то ширилось, росло и наконец прорвалось, и я услышал, что тоже кричу. Кажется, что-то о том, что и мне хочется иметь такой волшебный палец, из которого тянулась бы бечевка, не палец, а целую катушку, и чтобы мой змей мог залететь высоко-высоко, за все тучи и облака.
– Если ты думаешь, что это высоко, тогда смотри! – сказала наша необыкновенная Электрическая Игрушка, и змей поднялся еще выше, а потом еще и еще, пока не стал похож на красный кружок конфетти. Он запросто играл с теми ветрами, что носят ракетные самолеты и в одно мгновение меняют погоду.
– Это невозможно! – не выдержал я.
– Вполне возможно! – ответила Бабушка, без всякого удивления следя за тем, как из ее пальца тянется и тянется бесконечная нить,– И к тому же просто. Жидкость, как у паука. На воздухе она застывает, и получается крепкая бечевка...
А когда наш змей стал меньше точки, меньше пылинки в луче солнца, Бабушка, даже не обернувшись, не бросив взгляда в сторону крыльца, вдруг сказала:
– А теперь, Абигайль?..
– Агата! – резко прозвучало в ответ.
О мудрость женщины, способной не заметить грубость!
– Агата,– повторила Бабушка, ничуть не заискивая, ничуть не подлаживаясь, совсем спокойно.– Когда же мы подружимся с тобой?
Она оборвала нить и трижды обмотала ее вокруг моего запястья, так что я вдруг оказался привязанным к небу самой длинной, клянусь вам, самой длинной бечевкой за всю историю существования бумажных змеев. Вот бы увидели мои приятели, то-то удивились бы! Когда я им покажу, они просто лопнут от зависти.
– Итак, Агата, когда?
– Никогда!
– Никогда,– вдруг повторило эхо.– Почему?..
– Мы никогда не станем друзьями! – выкрикнула Агата.
– Никогда не станем друзьями...– повторило эхо.
Тимоти и я оглянулись. Откуда эхо? Даже Агата высунула нос из-за перил.
А потом мы поняли. Это Бабушка сложила ладони наподобие большой морской раковины, и это оттуда вылетали гулкие слова...
– Никогда... друзьями...
Повторяясь, они звучали все глуше и глуше, замирая вдали.
Склонив голову набок, мы прислушивались, мы – это Тимоти и я, ибо Агата, громко крикнув: «Нет!», убежала в дом и с силой захлопнула дверь.
– Друзьями...– повторило эхо.– Нет!.. Нет!.. Нет!..
И где-то далеко-далеко, на берегу невидимого крохотного моря, хлопнула дверь.
Таким был первый день.
Потом, разумеется, был день второй, день третий и четвертый, когда Бабушка вращалась, как светило, а мы были ее спутниками, когда Агата сначала неохотно, а потом все чаще присоединялась к нам, чтобы участвовать в прогулках, всегда только шагом и никогда бегом, когда она слушала и, казалось, не слышала, смотрела и, казалось, не видела и хотела, о, как хотела прикоснуться...
Во всяком случае, к концу первых десяти дней Агата уже не убегала, а всегда была где-то поблизости: стояла в дверях или сидела поодаль на стуле под деревьями, а если мы отправлялись на прогулку, следовала за нами, отставая шагов на десять.
Ну а Бабушка? Она ждала. Она не уговаривала и не принуждала. Она просто занималась своим делом – готовила завтраки, обеды и ужины, пекла пирожки с абрикосовым вареньем и почему-то всегда оставляла их то тут, то там, словно приманку для девчонок-сластен. И действительно, через час тарелки оказывались пустыми, пирожки и булочки съедены, разумеется, без всяких «спасибо» и прочего. А у повеселевшей Агаты, съезжавшей по перилам лестницы, подбородок был в сахарной пудре или со следами крошек.
Что касается нас с Тимоти, то у нас было такое чувство, что, едва успев взбежать на вершину горки, мы уже видели Бабушку далеко внизу и снова мчались за ней.
Но самым замечательным было то, что каждому из нас казалось, будто именно ему одному она отдает все свое внимание.
А как она умела слушать, что бы мы ей ни говорили! Помнила каждое слово, фразу, интонацию, каждую нашу мысль и даже нелепую выдумку. Мы знали, что в ее памяти, как в копилке, хранится каждый наш день и, если нам вздумается узнать, что мы сказали в такой-то день, час или минуту, стоит лишь попросить Бабушку, и она не заставит нас ждать.
Иногда мы устраивали ей проверку.
Помню, однажды я нарочно начал болтать какой-то вздор, а потом остановился, посмотрел на Бабушку и сказал:
– А ну-ка, повтори, что я только что сказал.
– Ты, э-э...
– Давай-давай, говори.
– Мне кажется, ты...– И вдруг Бабушка зачем-то полезла в свою сумку,– Вот, возьми.– Из бездонной глубины сумки она извлекла и протянула мне – что бы вы думали?..
– Печенье с сюрпризом!
– Только что из духовки, еще тепленькое. Попробуй разломать вот это.
Печенье и вправду обжигало ладони. И, разломав его, я увидел внутри свернутую в трубочку бумажку.
«Буду чемпионом велосипедного спорта всего Западного побережья. А ну-ка, повтори, что я только что сказал... Давай-давай, говори»,– с удивлением прочел я.
Я даже рот раскрыл от изумления:
– Как это у тебя получается?
– У нас есть свои маленькие секреты. Это печенье рассказало тебе о том, что только что было. Хочешь, возьми еще.
Я разломил еще одно, развернул еще одну бумажку, прочел: «Как это у тебя получается?»
Я запихнул в рот оба печенья и съел их вместе с чудесными бумажками. Мы продолжали прогулку.
– Ну как? – спросила Бабушка.
– Очень вкусно. Здорово же ты их умеешь печь,– ответил я.
Тут мы от души расхохотались и пустились наперегонки.
И это тоже здорово у нее получалось. В таких соревнованиях она никогда не стремилась проиграть, но и не обгоняла, она бежала, чуть отставая, и поэтому мое мальчишечье самолюбие не страдало. Если девчонка обгоняет тебя или идет наравне – это трудно стерпеть. Ну а если она отстает на шаг или два – это совсем другое дело.
Мы с Бабушкой частенько делали такие пробежки – я впереди, она за мной – и болтали не закрывая рта.
А теперь я вам расскажу, что мне в ней нравилось больше всего.
Сам я, может быть, никогда и не заметил бы этого, если бы Тимоти не показал мне фотографии, которые он сделал. Тогда я тоже сделал несколько фотографий и сравнил, чьи лучше. Как только я увидел наши с Тимом фотографии рядом, я заставил упирающуюся Агату тоже незаметно сфотографировать Бабушку.
А потом забрал все фотографии, пока никому не говоря о своих догадках. Было бы совсем неинтересно, если бы Агата и Тим тоже знали.
У себя в комнате я положил их рядом и тут же сказал себе: «Конечно! На каждой из них Бабушка совсем другая!» – «Другая?» – спросил я сам себя. «Да, другая»,– «Постой, давай поменяем их местами». Я быстро перетасовал фотографии. «Вот она с Агатой. И похожа... на Агату! А здесь с Тимоти. Так и есть, она похожа на него! А это... Черт возьми, да ведь это мы бежим с ней, и здесь она такая же уродина, как я».
Ошеломленный, я опустился на стул. Фотографии упали на пол. Нагнувшись, я собрал их и снова разложил. Уже на полу. Я менял их местами, раскладывая то так то эдак. Сомнений не было! Нет, мне не привиделось!
Ох и умница ты, наша Бабушка! Или это Фанточини? До чего же хитры, просто невероятно, умнее умного, мудрее мудрого, добрее доброго...
Потрясенный, я вышел из своей комнаты и спустился вниз. Агата и Бабушка сидели рядышком и почти в полном согласии решали задачки по алгебре. Во всяком случае, видимых признаков войны я не заметил. Бабушка терпеливо выжидала, пока Агата не образумится, и никто не мог сказать, когда это произойдет и как приблизить этот час. А пока...
Услышав мои шаги, Бабушка обернулась. Я впился взглядом в ее лицо, следя за тем, как она «узнает» меня. Не показалось ли мне, что цвет ее глаз чуть-чуть изменился? А под тонкой кожей сильнее запульсировала кровь, или та жидкость, которая у роботов ее заменяет? Разве щеки Бабушки не вспыхнули таким же ярким румянцем, как у меня? Не пытается ли она стать на меня похожей? А глаза? Когда она следила за тем, как решает задачи Агата – Абигайль – Алджернон, разве в это время ее глаза не были светло-голубыми, как у Агаты? Ведь мои гораздо темнее.
И самое невероятное... когда она обращается ко мне, чтобы пожелать доброй ночи, или спрашивает, приготовил ли я уроки, разве мне не кажется, что даже черты ее лица меняются?..
Дело в том, что в нашей семье мы трое совсем не похожи друг на друга. Агата с удлиненным, тонким лицом – типичная англичанка. Она унаследовала от отца этот взгляд и норов породистой лошади. Форма головы, зубы, как у истой англичанки, насколько пестрая история этого острова позволяет говорить о чистоте англосаксонской рясы.
Тимоти – прямая противоположность: в нем течет итальянская кровь, унаследованная от предков нашей матери, урожденной Мариано. Он черноволос, с мелкими чертами лица, со жгучим взглядом, который когда-нибудь испепелит не одно женское сердце.
Что касается меня, то я славянин, и тут мою родословную можно проследить до прабабки по отцовской линии, уроженки Вены. Это ей я обязан высокими скулами с ярким румянцем, вдавленными висками и приплюснутым широковатым носом, в котором было больше от татарских предков, чем от шотландских.
Поэтому, сами понимаете, сколь увлекательным занятием было наблюдать, как почти неуловимо менялась наша Бабушка. Когда она говорила с Агатой, черты лица удлинялись, становились тоньше, поворачивалась к Тимоти – и я уже видел профиль флорентийского ворона с изящно изогнутым клювом, а обращалась ко мне – и в моем воображении вставал образ, кого бы вы думали? Самой Екатерины Великой.
Я никогда не узнаю, как удалось Фанточини добиться этих чудеснейших превращений, да, признаться, и не хотел этого. Мне было достаточно неторопливых движений, поворота головы, наклона туловища, взгляда, таинственных взаимодействий деталей и узлов, из которых состояла Бабушка, такого, а не какого-либо другого изгиба носа, тонкой скульптурной линии подбородка, мягкой пластичности тела, чудесной податливости черт. Это была маска, но в данную минуту твоя, и никого больше. Вот она пересекает комнату и легонько касается кого-нибудь из нас, и под тонкой кожей ее лица начинается таинство перевоплощений; подходит к другому – и она уже поглощена им, как только может любящая мать.