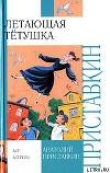Текст книги "О скитаньях вечных и о Земле (сборник)"
Автор книги: Рэй Дуглас Брэдбери
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 92 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Мистер Гласс опустился на стул. Он даже не запыхался после столь вдохновенной и долгой речи.
Тервиллиджер помалкивал.
Клеренс молча прогулялся по комнате, медленно обошел по кругу мистера Гласса. Прежде багровое лицо продюсера было теперь скорее бледным. Наконец Клеренс остановился напротив Тервиллиджера.
Его глазки беспокойно бегали по долговязой фигуре режиссера.
– Так вы это рассказали Глассу? – спросил он слабым голоском.
Кадык на шее Тервиллиджера прогулялся вверх-вниз.
– У него хватило духу только со мной поделиться,– объяснил мистер Гласс.– Застенчивый парень. Все его беды от застенчивости. Вы же сами видели – он такой неразговорчивый, такой безответный. Ни разу не огрызнется, все держит в себе. А в глубине души любит людей, только сказать стесняется. У замкнутого художника один способ выразить свою любовь – увековечить в образе. Тут он владыка!
– Увековечить? – недоверчиво переспросил Клеренс.
– Вот именно! – воскликнул старик юрист.– Этот тираннозавр все равно что статуя на площади. Только ваш памятник передвижной – бегает по экрану. Пройдут годы, а люди все еще будут говорить друг другу: «Помните фильм "Монстр эпохи плейстоцена"? Там был потрясающий монстр, настоящий зверь, к тому же недюжинный характер, любопытная индивидуальность, горячая и независимая натура. За всю историю Голливуда никто не создал лучшего чудовища. А все почему? Потому что при создании чудища один гениальный режиссер имел достаточно ума и воображения опереться на черты характера реального человека – крутого и сметливого бизнесмена, великого магната киноиндустрии». Вот как будут говорить люди. Мистер Клеренс, вы входите в историю. В фильмотеках будут спрашивать фильм про вас. Клуб любителей кино – приглашать на встречи со зрителями. Какая бешеная удача! Увы, с Иммануилом Глассом, заурядным юристом, подобной феерии произойти не может. Короче говоря, на протяжении следующих двухсот или даже пятисот лет ежедневно где-нибудь да будет идти фильм, в котором главная звезда – вы, Джо Клеренс.
– Еже... ежедневно? – мечтательно произнес Клеренс.– На протяжении следующих...
– Восьмисот лет. А почему бы и нет!
– Никогда не смотрел на это с такой точки зрения.
– Ну так посмотрите!
Клеренс подошел к окну, какое-то время молча таращился на голливудские холмы, затем энергично кивнул.
– Ах, Тервиллиджер, Тервиллиджер! – сказал он.– Неужели вы и впрямь до такой степени любите меня?
– Трудно словами выразить,– выдавил из себя Тервиллиджер.
– Я полагаю, мы просто обязаны доснять этот потрясающий фильм,– сказал мистер Гласс.– Ведь звездой этой картины является тиран джунглей, сотрясающий своим движением землю и обращающий в бегство все живое. И этот безраздельный владыка, этот страх Господень – не кто иной, как мистер Джозеф Клеренс.
– М-да, м-да... Верно! – Клеренс в волнении забегал по комнате. Потом рассеянно, походкой счастливого лунатика направился к двери, остановился на пороге и обернулся.– А ведь я, признаться, всю жизнь мечтал стать актером!
С этими словами он вышел – тихий, умиротворенный.
Тервиллиджер и Гласс разом согнулись от беззвучного хохота.
– Страшилозавр! – сказал старик юрист.
А режиссер тем временем доставал из ящика письменного стола бутылку виски.
После премьерного показа «Монстра каменного века», ближе к полуночи, мистер Гласс вернулся на студию, где предстоял большой праздник. Тервиллиджер угрюмо сидел в одиночестве возле отслужившего макета джунглей. На коленях у него лежал тираннозавр.
– Как, вы не были на премьере? – ахнул мистер Гласс.
– Духу не хватило. Провал?
– С какой стати! Публика в восторге. Критики визжат. Прекрасней монстра еще никто не видал! Уже пошли разговоры о второй серии: «Джо Клеренс опять блистает в роли тираннозавра в фильме "Возвращение монстра каменного века"»,– звучит! А потом можно снять третью серию – «Зверь со старого континента». И опять в роли тирана джунглей несравненный Джо Клеренс!..
Зазвонил телефон. Тервиллиджер снял трубку.
– Тервиллиджер, это Клеренс. Я буду на студии через пять минут. Мы победили! Ваш зверь великолепен! Надеюсь, уж теперь-то он мой? Я хочу сказать, к черту контракт и меркантильные расчеты. Я просто хочу иметь эту душку-игрушку на каминной полке в моем особняке!
– Мистер Клеренс, динозавр ваш.
– Боже! Это будет получше «Оскара». До встречи!
Ошарашенный Тервиллиджер повесил трубку и доложил:
– Большой босс лопается от счастья. Хихикает как мальчишка, которому подарили первый в его жизни велосипед.
– И я, кажется, знаю причину,– кивнул мистер Гласс.– После премьеры к нему подбежала девочка и попросила автограф.
– Автограф?
– Да-да! Прямо на улице. И такая настойчивая! Сперва он отнекивался, а потом дал первый в своей жизни автограф. Слышали бы вы его довольный смешок, когда он подписывался! Кто-то узнал его на улице! «Глядите, идет тираннозавр собственной персоной!» И господин ящер с довольной ухмылкой берет в лапу ручку и выводит свою фамилию.
– Погодите,– промолвил Тервиллиджер, наливая два стакана виски,– откуда взялась такая догадливая девчушка?
– Моя племянница,– сказал мистер Гласс.– Но об этом ему лучше не знать. Ведь вы же не проболтаетесь?
Они выпили.
– Я буду нем как рыба,– заверил Тервиллиджер.
Затем, подхватив резинового тираннозавра и бутылку виски, оба направились к воротам студии – поглядеть, как во всей красе, сверкая фарами и гудя клаксонами, на вечеринку начнут съезжаться лимузины.
Ветер Геттисберга
Вечером, в половине девятого, с той стороны коридора, где был зрительный зал, донесся резкий короткий звук.
«Выхлоп автомобиля на соседней улице,– подумал он.– Нет. Выстрел».
Через мгновение – всплеск встревоженных голосов и внезапная тишина. Словно волна, с разбега ударившись о песчаный берег, затихла в недоумении. Хлопнули двери. Чьи-то бегущие шаги.
В кабинет вбежал билетер и обвел комнату невидящим взглядом; лицо его было бледно, губы силились что-то сказать:
– Линкольн... Линкольн...
Бэйс поднял голову от бумаг:
– Что случилось с Линкольном?
– Его... Его убили.
– Прекрасная шутка. А теперь...
– Убили. Разве вы не понимаете? Застрелили. Во второй раз!..
И билетер, пошатываясь, держась рукой за стену, вышел.
Бэйс почувствовал, как встает со стула.
– О Господи...
Через секунду он уже бежал по коридору, обогнал билетера, и тот, словно очнувшись, побежал рядом.
– Нет-нет,– повторял Бэйс.– Этого не произошло. Не могло, не должно...
– Убит,– снова сказал билетер.
Едва они завернули за угол, как с треском распахнулись двери зрительного зала и уже не зрители, а возбужденная толпа заполнила коридор. Она волновалась, шумела, слышались крики, визг, отдельные испуганные голоса:
– Где он? Кто стрелял? Этот? Он? Держите его! Осторожно! Остановитесь!
Из гущи людей безуспешно пытались выбраться двое охранников, но их толкали, теснили, отбрасывали то в одну, то в другую сторону. В руках у них бился человек, он тщетно пытался увернуться от жадных рук толпы, мелькавших в воздухе кулаков. Но руки хватали его, тянули к себе, били, щипали, удары наносились чем Попало – тяжелыми свертками и легкими дамскими зонтами, тут же разлетавшимися в щепки, как бумажный змей, подхваченный ураганом. Женщины, потерявшие спутников, жалобно причитали и испуганно озирались по сторонам, орущие мужчины грубо расталкивали толпу, стремясь протиснуться ближе к охранникам и человеку, который ладонями рук с широко растопыренными пальцами закрывал свое разбитое и исцарапанное лицо.
– О Господи!
Бэйс застыл на месте, глядя на происходящее, начиная уже верить. Но замешательство было лишь мгновенным. Он бросился к толпе.
– Сюда, сюда! Потеснитесь назад! Вот в эти двери. Сюда, сюда!
И каким-то образом толпа подчинилась; наружные двери распахнулись и, пропустив плотную массу тел, тут же захлопнулись.
Внезапно очутившись на улице, толпа яростно заколотила в двери, разразилась руганью, проклятиями, какие еще не доводилось слышать ни одному смертному. Казалось, стены театра содрогаются от приглушенных выкриков, причитаний, угроз и зловещих предсказаний беды.
Бэйс еще какое-то время смотрел, как бешено вертятся ручки дверей, трясутся готовые сорваться замки и засовы, и наконец перевел взгляд на охранников, поддерживавших обмякшее тело человека.
И тут новая, страшная догадка заставила Бэйса броситься в зал. Левая нога ударилась о что-то бесшумно скользнувшее по ковру под кресла, вертясь, словно крыса, догоняющая собственный хвост. Он нагнулся и пошарил под креслами рукой и тотчас нашел то, что искал,– еще не остывший пистолет. Бэйс глядел на него, все еще не веря, а затем опустил в карман. Ему понадобилось целых полминуты, чтобы наконец заставить себя сделать то, что теперь уже представлялось неизбежным. Он посмотрел на сцену.
Авраам Линкольн сидел в своем кресле с высокой резной спинкой в самом центре сцены. Голова его была неестественно наклонена вперед, широко открытые глаза неподвижно глядели перед собой. Большие руки покоились на подлокотниках, и казалось, что вот он сейчас шевельнется, обопрется руками о подлокотники, поднимется во весь свой рост и скажет, что, в сущности, ничего страшного не произошло.
С усилием передвигая ноги, словно переходя реку вброд, Бэйс поднялся на сцену.
– Свет! Дайте свет, черт побери!
За сценой невидимый механик-осветитель вдруг вспомнил о своих обязанностях, и мутный свет, словно слабые лучи рассвета, упал на сцену.
Бэйс обошел сидящую в кресле фигуру. Вот она, аккуратная дырочка на затылке у левого уха.
– Sic semper tyrannis [5]5
Такова участь тиранов (лат.).
[Закрыть],– вдруг послышался голос.
Бэйс резко обернулся.
Убийца сидел в последнем ряду, опустив голову. Зная, что Бэйсу сейчас не до него, он произнес эти слова тихо, почти про себя, уставясь в пол:
– Sic...
Но, услышав, как угрожающе зашевелился за его спиной охранник, он тут же умолк. Рука охранника поднялась и застыла в воздухе, готовая опуститься на голову убийцы. Казалось, она действовала совершенно самостоятельно...
– Не надо! – крикнул Бэйс.
Охранник с трудом подавил разочарование и гнев. Рука неохотно подчинилась хозяину.
«Нет, я не верю,– думал Бэйс,– не верю. Здесь нет ни охранников, ни этого человека, и нет...» Глаза его снова отыскали еле заметное отверстие от пули в голове убитого президента. Из него на пол медленно капало машинное масло. Еще одна темная струйка проложила след по подбородку и бороде президента, и капли масла медленно стекали на галстук и сорочку.
Бэйс опустился на колени и приложил ухо к груди манекена.
Еле слышное гудение говорило о том, что схемы уникального механизма не повреждены окончательно, но привычный его ход, увы, был нарушен.
Бэйс вскочил. Звук работающего механизма напомнил ему...
– Фиппс?!
Охранники удивленно подняли головы.
Бэйс с досадой даже прищелкнул пальцами.
– Он собирался приехать сюда после спектакля, не так ли? Он не должен этого видеть! Надо направить его куда-нибудь. Сообщите ему, что он срочно нужен на заводе в Глендейле. Там обнаружились неполадки. Пусть немедленно выезжает туда. Действуйте!
Один из охранников поспешил к выходу.
Провожая его взглядом, Бэйс думал: «Господи, хоть бы Фиппс задержался, хоть бы не приезжал!..»
Странно, что в такую минуту перед его мысленным взором предстала не своя, а чужая жизнь...
Помнишь... тот день, пять лет назад, когда Фиппс разложил на столе первые схемы, чертежи, рисунки и сообщил им о своем Великом Плане? Как все сначала глядели на чертежи, а потом на чудака Фиппса:
– Линкольн?
Да, именно! Фиппс смеялся так, как может смеяться от счастья будущий отец, поверивший в чудесное знамение: у него родится необыкновенный сын.
Линкольн. Именно такова его задумка. Новое рождение Линкольна.
А сам Фиппс? О, именно ему предстоит произвести на свет, вскормить и вырастить этого чудо-младенца – робота.
Разве не счастье... снова очутиться на лугу под Геттисбергом, слушать, постигать, видеть, оттачивать, как острие бритвы, грани своей души и жить!
Бэйс еще раз обошел неловко склоненную фигуру в кресле, вспоминая дни, считая годы...
Вечер. Фиппс с бокалом в руке, а в гранях бокала, словно в линзе, отблеск прошлого и свет будущего.
– Я всегда мечтал создать фильм о Геттисберге... Огромное скопление народа, и где-то у самого края разморенной жарою, охваченной нетерпением толпы стоит фермер, а рядом мальчик, его сын. Они жадно ловят слова, которые доносит до них ветер. Их произносит оратор на далеком помосте. Они то слышат, то не слышат, что говорит высокий худой человек в цилиндре. Вот он снимает цилиндр, заглядывает в него, словно в собственную душу, будто читает в ней то, что записал, и начинает говорить.
Фермер, чтобы сынишку не задавила толпа, сажает его на плечи, и девятилетний мальчуган становится ушами отца, ибо фермер почти не слышит, а лишь догадывается, что говорит президент, обращаясь к морю людей, собравшихся в Геттисберге. Высокий голос то слышен отчетливо, то не слышен совсем, когда его относит ветер или же легкий озорной ветерок, словно вздумавший соперничать с ним. Слишком многие ораторы выступали до президента; толпа порядком устала, лица мокры от пота, праздничная одежда измята. Скотоводы и фермеры тяжело переминаются с ноги на ногу, неловко задевают друг друга локтями, а отец торопит сына: «Ну же, ну говори, что он сказал...» Подставив ветру розовое в нежном пушке ухо, мальчик послушно повторяет каждое долетевшее слово:
«Восемьдесят семь лет тому назад...»
– Да!
«...наши отцы создали...»
– Да-да!
«...на этом континенте...»
– Где? Где?
– На этом континенте! «...новое государство, рожденное свободой, верящее в то, что все люди...»
Вот как это было. Ветер относил в сторону еле слышные слова, человек продолжал говорить, плечи фермера не чувствовали тяжести – своя ноша не тянет,– а мальчуган горячим шепотом повторял каждое услышанное слово. Фермер сам то слышал обрывки фраз, то не слышал ничего, но как-то само собой все понял до конца.
«...Пусть правительство народа, из народа, для народа живет вечно...»
Мальчик умолк.
Все.
Толпа покидает луг, растекаясь во все стороны. Геттисберг становится историей.
Фермер не торопится снять с плеч толмача-мальчишку, пересказавшего ему то, что донес ветер, но мальчик, потеряв уже интерес, сам спрыгивает на землю...
Бэйс не сводил глаз с Фиппса.
А тот, допив коктейль и внезапно погрустнев от переполнивших его чувств, вдруг в сердцах воскликнул:
– Мне никогда не снять этот фильм. Но вот это я все-таки сделаю!
Тогда-то он и разложил на столе чертежи фирмы Фиппса «Эвереди Сэлем, Иллинойс и Спрингфилд Линкольн Мэкеникл» по изготовлению машины Привидений, электронно-каучуковых, самых совершенных и самых дерзких и смелых снов.
Фиппс и его творение – совсем готовый, совсем настоящий, во весь свой немалый рост младенец Линкольн. Да, Линкольн, вызванный к жизни из дебрей технологии, усыновленный романтиком, созданный потому, что так велело сердце. Получив жизнь от разряда молнии, а голос от безымянного актера, он вошел в этот мир, чтобы отныне пребывать вечно в этом глухом уголке юго-запада старой-новой Америки. Фиппс и Линкольн!
Да, в этот день слова Фиппса были встречены взрывом смеха, но он, словно и не заметив этого, Лишь сказал:
– На лугу у Геттисберга мы обязательно, да-да, обязательно, встанем там, где стоял фермер с сынишкой. Это наветренная сторона, здесь все будет слышно.
Он поделился со всеми своим сокровищем. Одному поручил арматуру, другому воссоздать благородную форму черепа, третьему поймать и записать голос и слова, а остальным, и их было немало, найти неповторимый цвет кожи, водос и отпечатки пальцев. Увы, прикосновение Линкольна приходилось заимствовать!
Отныне подшучивания и насмешки вошли в привычку, стали чем-то, без чего и не обойтись.
Он никогда не заговорит, в этом нет сомнений, и никогда не сделает ни шагу. Все придется сдать на свалку – выброшенные деньги.
Но по мере того как месяцы превращались в годы, вспышки иронического смеха сменялись понимающими улыбками, откровенным изумлением. Они все напоминали мальчишек, из озорства вступивших в тайное и пугающе веселое братство могильщиков, чтобы встречаться в полночь в кладбищенских склепах, а на рассвете исчезать, как тени, среди могил.
Бригада Линкольна росла как на дрожжах. Вместо одного одержимого уже десяток их рылись в истлевших подшивках старых газет, выпрашивали, а то и не спросясь попросту уносили посмертные маски, хоронили пластиковые кости, чтобы потом выкапывать их вновь.
Многие побывали на полях гражданской войны в надежде, что в одно прекрасное утро ветер истории взметнет, как флаги, полы их сюртуков. Иные октябрьскими днями бродили по окрестностям Сэлема, обгорая до черноты под прощальными лучами солнца, жадно внюхиваясь, навострив уши, пытаясь поймать еще один голос какого-нибудь долговязого адвоката, ловя эхо прошлого, доказывая, убеждая.
Разумеется, Фиппс волновался больше всех и больше всех был преисполнен тревожной отцовской гордости. Но вот робот на сборочном столе. Теперь предстояло собрать его, дать ему голос, подняв гуттаперчевые веки, вложить в глубокие глазницы печальные глаза, видевшие так много, приладить большие уши, которым суждено слышать лишь прошлое, и крупные руки с узловатыми суставами, словно маятники, отсекающие время, канувшее в вечность. А затем портные, нет, его Ученики, обрядили его в одежды и наглухо застегнули на все пуговицы, повязали галстук, и в одно великолепное пасхальное утро на иерусалимских холмах приготовились сдвинуть могильный камень и повелеть ему встать.
В последний час последнего дня Фиппс, выпроводив всех, остался наедине с распростертым телом и безмолвствующим духом, чтобы завершить последние приготовления. Наконец он открыл двери и пригласил их – не буквально, а скорее символически – поднять его на плечи в последний раз.
В наступившей тишине Фиппс, обращаясь к полям былых сражений и еще дальше, за горизонт, крикнул, что его место не в могиле: восстань!
И Линкольн шевельнулся в прохладной темноте спрингфилдского мраморного склепа, пробуждаясь ото сна, и поверил, что он жив.
Он встал.
Он заговорил.
Зазвонил телефон.
Бэйс вздрогнул.
Воспоминания исчезли.
В дальнем углу сцены зазвонил телефон.
«О Господи»,– подумал Бэйс и бросился к телефону.
– Бэйс, это Фиппс. Мне только что звонил Бак, сказал, чтобы я немедленно приехал! Сказал что-то про Линкольна...
– Нет, не надо приезжать,– ответил Бэйс.– Ты же знаешь Бака, он звонил, должно быть, из соседней пивной. Я в
театре, здесь все в порядке. Один из генераторов забарахлил, но мы его уже починили...
– Значит, с ним все в порядке?
– Да, все просто великолепно.– Бэйс не мог оторвать взгляда от склоненной фигуры. «О Господи, какая нелепость!..»
– Я... я сейчас приеду.
– Не надо!
– Черт побери, почему ты кричишь?
Бэйс прикусил язык, сделал глубокий вдох и, закрыв глаза, чтобы не видеть фигуру в кресле, медленно произнес:
– Я не кричу, Фиппс. В зале только что зажегся свет, нельзя задерживать публику. Я должен идти. Клянусь тебе...
– Ты лжешь!
– Фиппс!
Но Фиппс уже повесил трубку.
«Десять минут,—лихорадочно думал Бэйс.– Господи, через десять минут он будет здесь». Через десять минут человек, поднявший Линкольна из гроба, встретится с человеком, который вновь уложил его туда...
Он сделал несколько шагов, и вдруг ему неудержимо захотелось броситься за кулисы, включить магнитофоны, проверить, как откликнется поникшая фигура, которая из рук поднимется, а которая останется неподвижной. Нет, это безумие. Это можно сделать завтра.
Сегодня же у него едва есть время разгадать загадку. А она в человеке, который сидел в третьем кресле последнего ряда.
Убийца... Разве он не убийца? Кто он? Как выглядит?
Он лишь мельком видел его лицо несколько минут назад, не так ли? Разве оно не напомнило ему старый, знакомый, но куда-то запропастившийся дагерротип? Пышные усы, темные надменные глаза...
Бэйс медленно спустился в зал, медленно прошел по проходу между рядами кресел и остановился, вглядываясь в человека, который сидел, обхватив руками склоненную голову.
Бэйс сделал глубокий вдох и на выдохе произнес:
– Мистер... Бут?
Странный незнакомец застыл, по телу его пробежала дрожь, и шепотом, полным ужаса, он ответил:
– Да...
Бэйс ждал. Наконец он снова решился.
– Мистер... Джон Уилкс Бут? [6]6
Актер, убивший в 1865 году президента Авраама Линкольна.
[Закрыть]
В ответ раздался тихий смешок и наконец сухие и отрывистые, как карканье, слова:
– Норман Ллэвлин Бут. Всего лишь фамилия... совпадает...
«Слава Богу,– подумал Бэйс.– Я бы не вынес, если бы совпало все».
Он резко повернулся и, быстро пройдясь по проходу, остановился и посмотрел на часы. Время на исходе. Фиппс едет сюда, он в любую минуту может постучать в запертую дверь зрительного зала.
– Почему? – жестко спросил Бэйс, обращаясь к стене, которая была перед глазами.
Вопрос прозвучал как эхо трех сотен испуганных голосов зрителей, тех, кто десять минут назад заполнял этот зал и в ужасе повскакивал со своих мест, когда раздался выстрел.
– Почему?
– Не знаю! – закричал Бут.
– Лжете! – почти одноврёменно с ним выкрикнул Бэйс.
– Такой шанс глупо было бы упустить.
– Что?..– Бэйс круто повернулся и впился взглядом в Бута.
– Ничего.
– Нет смелости повторить еще раз, не так ли?
– Потому,– начал Бут, опустив голову, то различимый, то еле видимый в полутьме, раздираемый чувствами, в которых и сам не мог разобраться, которые подхватывали и несли его куда-то, чтобы так же внезапно покинуть, смениться судорожными спазмами смеха или внезапным оцепенением,– Потому что... это правда.– И в благоговейном страхе, поглаживая щеки, он прошептал: —Я сделал это. Я все-таки сделал это.
– Ублюдок!
Бэйс бегал по проходу между рядами кресел, боясь, что если он остановится, то бросится и ударит, и будет бить, бить этого идиотского умника, этого хвастливого убийцу...
Бут понимал это.
– Чего вы ждете? Кончайте.
– Нет, меня не будут...– Бэйс с трудом остановился, заставил себя не кричать, а говорить совершенно спокойно,– не будут судить за убийство человека, который убил того, кто по сути не был живым существом, а всего лишь машиной. Достаточно того, что стреляли в робота, казавшегося живым существом. Я не допущу, чтобы какой-нибудь судья или суд присяжных создали прецедент и был осужден человек, убивший того, кто стрелял в гуманоида, в компьютер! Глупость не должна повториться.
– Жаль,– с тоской в голосе произнес человек по имени Бут, и глаза его погасли.
– Говорите,– сказал Бэйс, глядя на стену и видя ночное шоссе, мчащегося в машине Фиппса и неумолимый бег минут.– В вашем распоряжении пять минут, может, чуть больше, может, чуть меньше. Говорите: зачем вы сделали это? Да начинайте же! Начните с того, что вы трус!
Он ждал. За спиной Бута поскрипывал ботинками охранник, неловко переступавший с ноги на ногу.
– Да, я трус,– согласился Бут.– Как вы догадались?
– Я это знал.
– Трус,– продолжал Бут.– Я трус. Всегда боялся. Вы правильно сказали. Боялся вещей, людей, мест, где можно побывать. Боялся людей, которых хотел ударить, но не смел. Вещей, которые хотел иметь, но не имел. Мест, где хотел побывать, но так и не побывал. Мечтал стать великим, знаменитым. Почему бы нет? Но не получилось. Тогда подумал: не находишь причин для радости, найди причину для горя. Столько возможностей для этого. Вот вы спрашиваете почему. Кто знает? Мне надо было сотворить что-нибудь отвратительное, а затем терзаться, всю жизнь, спрашивать себя, зачем я это сделал. По крайней мере знаешь, что хоть что-то сделал. Вот и задумал сотворить что-нибудь мерзкое.
– Вам это, бесспорно, удалось.
Бут смотрел на свои руки, опущенные между колен, будто видел, как они держат древнее, совсем простое оружие.
– Случалось вам когда-нибудь убить черепаху?
– Что?!
– Когда я был десятилетним мальчишкой, я впервые узнал о смерти. И тогда же я узнал, что черепаха, это глупое, похожее на камень животное, еще долго будет жить после того, как меня давно уже не будет на свете. Тогда я решил: раз мне не миновать смерти, пусть первой умрет черепаха. Я взял камень и бил по панцирю до тех пор, пока не проломил его и черепаха не подохла...
Бэйс чуть замедлил свои бесконечные шаги по проходу и сказал:
– По этой же причине я однажды не убил бабочку.
– Нет,– быстро ответил Бут,– не по этой. Мне тоже однажды на руку села бабочка. Она расправляла и складывала свои крылышки, отдыхая на моей руке. Я знал, что в любую минуту могу прихлопнуть ее, но не сделал этого, потому что знал, что через несколько минут, самое большее через час ее склюнет какая-нибудь птаха. Поэтому я позволил ей улететь. А вот черепахи – это совсем другое. Они лежат во дворе, лежат десятки лет, целую вечность. Поэтому я вышел во двор и взял камень, а потом много месяцев мучился от того, что сделал. Может, мучаюсь по сей день. Вот, смотрите...
Бут протянул руки. Они дрожали.
– Какое это имеет отношение к тому, что сегодня вы оказались здесь? – спросил Бэйс.
– Какое? Вы что, серьезно? – Бут смотрел на Бэйса как на сумасшедшего,– Разве вы не слышали, что я говорил? О Господи, я завидую! Завидую всему, что хорошо сделано, что работает, всему, что прекрасно само по себе, всему, что вечно... Мне все равно, что это! Я завидую!
– Нельзя завидовать машине.
– Почему нельзя, черт побери! – Бут ухватился за спинку переднего кресла, медленно наклонился вперед и впился глазами в печально склоненную фигуру в кресле с высокой спинкой в самом центре сцены.– Разве машины не совершенней людей в девяноста девяти случаях из ста? Вспомните ваших знакомых. Я это серьезно. Разве машины не выполняют все так, что не придерешься? А люди? Можете вы мне назвать таких, чтобы делали все как надо, хоть на треть, хоть наполовину? Вот эта проклятая штуковина там, на сцене, эта машина, разве она не только выглядит отлично, но и делает все отлично – говорит, действует? Более того, если ее смазывать, заводить, беречь от поломок, она будет еще лучше, будет говорить и действовать без изъяна сто и двести лет, когда я давно сгнию в земле. Завидую? Да! Разве я не прав, черт побери?
– Но машина не знает, какая она.
– Зато я знаю! Я чувствую! – кричал Бут.– Я посторонний, заглядывающий в окна. В таких делах я всегда посторонний. Я не участник, мне это не дано. А машине дано. Она все может, а я нет. Она создана, чтобы выполнять одно или два действия, но как она выполняет их! Комар носа не подточит. Сколько бы я ни учился, сколько бы ни знал и ни старался, хоть всю жизнь, мне не быть совершенством, таким чудом, как это, которое так и просится, чтобы его сломали, как вот этот человек, эта вещь, это существо на сцене, этот ваш президент!..
Он уже стоял и кричал, обращаясь к сцене, до которой было шагов шестьдесят.
Линкольн молчал. Под креслом тускло поблескивала лужица машинного масла.
– Этот президент...– внезапно переходя на шепот, почти про себя пробормотал Бут, словно постиг наконец истину, которую искал.– Президент, да, Линкольн. Разве вам не понятно? Он давно умер. Он не может жить. Это несправедливо. Прошло сто лет, и он снова здесь. Его убили, похоронили, а он продолжает жить. Живет сегодня, будет жить завтра, и так день за днем, до бесконечности. Его зовут Линкольн, а меня Бут... Я должен был прийти сюда...
Голос его прервался. Глаза остекленели.
– Садитесь,– тихо сказал Бэйс.
Бут сел, а Бэйс, кивнув охраннику, сказал:
– Пожалуйста, подождите в коридоре.
Тот вышел. Теперь, когда Бэйс остался один с Бутом и с молчаливой фигурой на сцене, которая словно чего-то ждала, сидя в своем кресле, он медленно повернулся и внимательно посмотрел на убийцу. Тщательно взвешивая каждое слово, он сказал:
– Все это так, да не совсем.
– Что?
– Вы назвали не все причины, побудившие вас прийти сегодня сюда.
– Нет, все!
– Вы так думаете. Но вы обманываете самого себя; Все вы, романтики, таковы. В той или иной степени. Фиппс, который создал этого робота. Вы, который уничтожил его. Но все, в сущности, сводится к одному... К одной очень простой и понятной причине. Вам хочется увидеть свой портрет в газете, не так ли?
Бут не ответил, но его плечи еле заметно шевельнулись, словно распрямляясь.
– Хочется видеть себя на обложках всех журналов континента?
– Нет.
– Получить неограниченное время для выступлений по телевизору?
– Нет.
– Интервью по радио?
– Нет.
– Нравится, что адвокаты и судьи будут ломать копья, споря, подсуден ли человек, стрелявший в чучело...
– Нет!
– ...то есть в гуманоида, в машину?..
– Нет!!!
Бут тяжело дышал, глаза его бегали как у безумного.
Бэйс продолжал:
– Нравится, что завтра двести миллионов человек заговорят о вас и будут говорить неделю, может, месяц, а то и целый год!
Молчание.
Но улыбка, словно капля слюны, оттянула уголок губ, и Бут, почувствовав это, поднес руку к губам.
– Нравится, что можно продать международным синдикатам собственную версию того, как все это было, и сорвать солидный куш.
По лицу Бута струился пот, ладони взмокли.
– Хотите, я сам отвечу на все эти вопросы? А? Итак,– начал Бэйс,– ответ здесь только один...
Стук в дверь прервал его; Бэйс вскочил. Бут тоже повернулся в сторону двери.
– Бэйс, это я, Фиппс, откройте! – послышался голос за дверью. И снова стук, уже настойчивый и громкий.
Бэйс и Бут, словно заговорщики, молча посмотрели друг на друга.
– Да впустите же меня, черт побери!
В дверь снова забарабанили, потом наступила короткая пауза, и стук возобновился с новой силой – в дверь то глухо били кулаками, то барабанили пальцами. Временами стук прекращался, а затем слышалось тяжелое дыхание, словно человек успел обежать коридор в поисках других дверей.
– На чем я остановился? – спросил Бэйс,– Да, на ответах на мои вопросы. Вы, следовательно, рассчитываете на широкую рекламу – телевидение, радио, пресса и все такое прочее?..
Молчание.
– Этого не будет.
Губы Бута дрогнули, но он ничего не сказал.
– Н-Е-Т! – раздельно произнося каждую букву, выкрикнул Бэйс.– Не будет!
И, протянув руку, он выдернул у Бута из кармана бумажник. Вынув все документы, он вернул пустой бумажник.
– Нет? – повторил за ним потрясенный Бут.
– Нет, мистер Бут. Никаких портретов в газетах, никаких интервью по телевидению. Не будет статей и колонок в газетах и журналах, не будет рекламы, не будет славы – и удовлетворенного тщеславия. Не удастся жалеть себя, терзаться раскаянием, увековечить свое имя. Никто не будет слушать вздор о победе над машиной, якобы обесчеловечившей человека. Не будет ореола мученика и бегства от собственной посредственности, сладких терзаний совести и сентиментальных слез. Не удастся не думать о будущем. Не будет судебного процесса, адвокатов, комментаторов, анализирующих все через месяц, через год, через тридцать, шестьдесят, девяносто лет, не будет и денег, нет!..